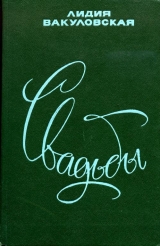
Текст книги "Свадьбы"
Автор книги: Лидия Вакуловская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Пять суток Эмма находилась в тяжелом состоянии. Сны и явь, дрема и забытье, день, вечер, ночь – все это неделимо спуталось в голове, набитой вереницей бесконечно плетущихся событий и мешаниной всяких несуразных и вполне реальных, казалось бы, картин. Ее все время окружали люди, знакомые и незнакомые, что-то говорили, исчезали, появлялись. Они двигались лениво, замедленно, широко открывали рты, произнося слова, но слов этих не было слышно.
В одних проплывавших перед нею картинах все было непонятно, расплывчато, был какой-то хаос и сумбур, в иных же – все обретало полную ясность, и Эмма понимала, что это происходит не во сне, а на самом деле.
Она на самом деле ходила с конопатенькой Катей Салатниковой по магазинам, примеряла дубленки всех цветов, и выбрала оранжевую с черной меховой оторочкой. В этой дубленке она шла со штурманом Алехиным к трапу только что приземлившегося самолета. Алехин уже был ее мужем, и они шли к самолету встречать блондинчика Володю. Он первым сбежал по трапу на землю со своим чемоданчиком и огромным букетом цветов. Он протянул ей букет, а она поцеловала его – такого невзрачненького и такого славного. «А ведь мог и замерзнуть на дороге», – подумала она. Он догадался, о чем она подумала, и, смеясь, сказал: «Нет, не мог. Я обещал вам тюльпаны. И обещал рассказать Томке, что вы на нее похожи. Как же я мог замерзнуть?..»
Потом она приехала с мужем Алехиным в свое захолустье. На кухне топилась печь, мама пекла пухлые блины. Светланка бегала вокруг стола с большой голой розовой куклой, а на столе стояли раскрытые чемоданы, битком набитые ее нарядами. Она спросила у мамы, сколько стоит в их захолустье самый лучший дом. «Тысяч пятнадцать», – сказала мама. «Ну, тогда у нас хватит на два дома, – сказала она. – Но лучше мы купим один дорогой дом в Крыму и будем купаться в море. Нам надоел Север». О Косте мама ничего не спрашивала, и Кости поблизости вообще не было…
Костя вернулся из рейса, когда Эмме стало лучше. Он вошел в палату в белом халате, растерянный и сникший, точно у него похитили все деньги, скопленные на «Москвича». Он неловко присел на краешек койки возле Эммы и сказал с дерганой улыбкой:
– Эмка, ты что?.. Как это ты?.. Андреевна говорит: форточку открыла и спать легла. Ты что, не соображала? Факт, воспаление легких в два счета схватишь.
– Пройдет, – слабо усмехнулась Эмма и спросила: – Как ты съездил?
– Нормально. На перевале пурга чуток прихватила. А так нормально. Я тебе вот… того-сего принес, – кивнул он на сумку. – Компоты, конфеты… Ты скажи, чего тебе хочется?
Эмма знала, что до зарплаты еще три дня, а денег у Кости – считанные рубли. С этими рублями и в рейс пошел.
– Ничего не хочется, – ответила она. – И этого не надо было приносить. Денег-то нет.
– Хватит, – сказал он. – Я с книжки снял.
– Зачем же ты свой «Москвич» трогаешь?
– Да ну его, «Москвич»! Никуда не денется, накопим еще. – Он подмигнул Эмме и сказал: – А я без тебя просто не знаю, как одному дома сидеть. Ночью вернулся, узнал, что с тобой, и не заснул.
Что не заснул, она поверила. А вот: «Да ну его, «Москвич»! – ни за что не поверит. Снять он с книжки снял, но сам переживает. Вон как осунулся весь, совсем некрасивый стал. Недаром она подумала тогда, что они чем-то похожи с блондинчиком Володей. Только волосы у Кости каштановые. И густые: во всех расческах зубья поломаны.
Костя приходил к ней в этот день несколько раз. И на другой день, и на третий приходил по нескольку раз. Все время приносил что-нибудь и спрашивал, чего ей хочется. На четвертый день он снова отправился в рейс. Когда он попрощался с нею и ушел, в палату явилась говорливая нянечка, посвященная в Эммину тайну с письмами, сказала Эмме, что Костя дал ей тридцать рублей и просил покупать на них все, чего Эмме захочется.
– Не надо мне ничего. И так полная тумбочка, – ответила она. – Пусть эти деньги вам будут.
– Да зачем мне твои деньги? – ответила нянечка, подсев к Эмме. И, подумав, сказала: – Ну, от пятерочки я не откажусь. За то, что дежурила после смены возле тебя, когда ты совсем плоха была. За это мне и пятерочки хватит.
– Нет, пусть будут все, – настаивала Эмма. – Я вас очень прошу. Вы здесь самая добрая нянечка. Вы не думайте, что у нас мало денег, что мы пострадаем.
– Да я не думаю, зачем же мне думать? – сказала нянечка. – А ты вот разволновалась сейчас чего-то. Вон пот даже по лицу пошел. Я понимаю твою жизнь, да зачем же так волноваться? Хотя, что за жизнь с нелюбимым?.. И мужа мне твоего жалко, и тебя жалко. Да и того, кого ты любишь, тоже жалко. Он-то в каком положенье? – сочувственно говорила нянечка, не опасаясь, что их услышат, так как Эмма лежала одна в трехместной палате. И спросила: – А сам он кто ж такой, наш поселковый?
– Нет, он летчик. Штурманом летает, – сказала Эмма.
– Тоже ведь опасно. Полетит, да и не вернется, – вздохнула нянечка.
– Это редко случается, – сказала Эмма.
– Холостой или женатый? – интересовалась нянечка.
– Холостой.
– Хоть это-то хорошо, – рассуждала нянечка. – Хорошо, что хоть он человек вольный. А то, бывает, так запутаются сами в этих сводах-разводах, что никакая любовь не мила.
Нянечка посидела еще немного возле Эммы и ушла заниматься своей работой.
Под вечер Эмму навестили девчонки из ее смены вместе с их седой наставницей администратором Коробковой, нанесли тоже всякой всячины. Сказали: местком выделил ей по случаю болезни десять рублей, вот они и пустили их в ход. Поохали, поахали, посочувствовали Эмме. Сказали, что без нее у них увеличилась нагрузка в зале, хотя клиентов сейчас не так уж и много: погода летная на всех маршрутах, машины ходят по расписанию. Подружка удачно вышедшей замуж конопатенькой Кати Салатниковой, толстенькая Лена Орехова, вспомнила, что на днях получила письмо от Кати. Катя дочь родила, назвала Оленькой. Собирается уехать с ней на целый год к родителям мужа в Ставрополь. Там тепло, с ранней весны фрукты и овощи пойдут, хочет, чтобы Оленька подросла и окрепла на натуральных соках, в теплом климате.
Эмма хотела спросить девчонок, не видел ли кто-либо из них штурмана Алехина, он вот-вот должен вернуться из отпуска. Но не стала спрашивать, подумав, что это может насторожить девчонок: почему это она вдруг им интересуется?
Они пробыли у Эммы около часа и ушли, пожелав ей скорее выздоравливать и выходить на работу.
Их посещение и вся их говорильня утомили Эмму: все же она была еще слаба. Болезнь только начинала отступать от нее, антибиотики хотя и сбили у нее температуру, но по вечерам температура все-таки подымалась, Эмме продолжали делать уколы, на ночь давали снотворное.
В этот вечер, после ужина, дежурная сестра тоже сделала ей укол и дала снотворную таблетку. Эмма подержала в руках таблетку, но глотать не стала: от таблеток у нее удерживался во рту противный привкус. Уходя, сестра пожелала ей спокойной ночи и выключила свет в палате.
Эмма лежала в темноте и мучительно думала, что ей делать и как быть дальше. Теперь она по-настоящему боялась Кости. Если он все узнает, он в самом деле убьет ее. Он может задушить ее в постели, или зарезать ножом, или проломить ей топором голову. Ее охватил ужас, когда она представила себе, как он будет убивать ее. И она решила, что больше не может оставаться в больнице, не может ждать, когда нянечка проболтается, когда Костя все узнает. Если она выйдет из больницы часов в двенадцать, когда все будут спать, то успеет к ночному самолету до Норильска. Правда, автобусы в это время в аэропорт не ходят, но можно найти какую-нибудь машину. Остановить любую машину, хорошо заплатить шоферу, и он довезет. Что ему стоит проехать двадцать километров до аэропорта, если она хорошо заплатит?..
Она знала, как можно незаметно выйти из больницы: не через центральную дверь, а черным ходом. Черный ход ей показала Андреевна, когда лежала здесь с аппендицитом. Черным ходом Эмма приходила к Андреевне в любое время и в неприемные дни.
Полежав еще немного, Эмма поднялась, натянула на себя пижаму и вышла в коридор. Она не знала, который час, а в коридоре висели часы. Еще ей нужно было поискать говорливую нянечку и попросить у нее свою одежду. Эмма была уверена, что нянечка не откажет: не зря же она оставила ей тридцать рублей. Но под каким предлогом просить одежду, – этого она еще не решила. Да и какой придумаешь предлог? Сказать, что хочет сходить домой? Нет, ходить домой не позволено. Хочет просто выйти на улицу подышать воздухом? Тоже нельзя… Лучше всего сказать, что ей нужна одежда, – и все. Нужно, чтоб вся одежда лежала у нее в палате.
На круглых часах было без десяти двенадцать. Слабо освещенный коридор был пуст. Эмма медленно пошла в конец коридора. Ноги вполне были послушны ей, и вообще она не чувствовала слабости. Может быть, лишь немного кружилась голова. Но это, по-видимому, от того, что она несколько дней пролежала в постели.
В конце коридора находилась ординаторская. Дверь в нее была приоткрыта. Эмма заглянула в комнату. Дежурного врача не было. На вешалке у двери висело женское пальто и меховая шапочка, на полу стояли замшевые полусапожки.
Мгновенно Эмма все решила. Быстро сняла пальто и шапочку, схватила полусапожки и спустя минуту была уже на темной лестнице черного хода. Здесь она задержалась, чтобы одеться. Шапочка была ей мала, не закрывала ушей, полусапожки едва налезли на ноги, и пальто было тесное. Но это не имело значения.
Эмма тихонько отворила дверь на улицу и сразу задохнулась морозным воздухом. Если бы она могла бежать, она побежала бы. Но бежать она не могла. И все же она старалась идти как можно быстрее, желая поскорее покинуть двор больницы.
Во втором часу ночи, не найдя в поселке машины, она вышла на дорогу, ведущую к аэродрому, и пошла по ней, в надежде, что какая-нибудь машина догонит ее и она ее остановит. Руки и уши у нее не мерзли, их защищали поднятый песцовый воротник и теплые варежки, оказавшиеся, к счастью, в кармане пальто. Хуже было ногам. Чужие полусапожки сильно жали, и холодно было коленям, укрытым от мороза лишь штанинами пижамы из тонкой байки.
4На рассвете, который ничем не отличался от черной безлунной ночи, дежурный персонал больницы был поднят на ноги: в почтовом фургоне привезли замерзшую женщину. Шофер и экспедитор, ездившие на аэродром за почтой, на обратном пути в поселок заметили лежавшую в сугробе на обочине женщину. Они остановились, увидели, что женщина мертва, положили труп в машину и поехали прямо в больницу.
Погибшую сразу узнали и пришли в ужас: как, когда, почему она убежала из больницы? Зачем ночью, в такой мороз пошла пешком в аэропорт? Как и когда наконец смогла взять пальто и полусапожки Валентины Яковлевны? Дежурный врач Валентина Яковлевна, не обнаружившая до сей поры пропажи, уверяла, что ни на минуту не покидала ординаторскую, – разве что выходила на секундочку в сестринскую комнату к зазвонившему телефону. Пожилая нянечка, которой погибшая вверила свою тайну, плакала. Но ни слезами, ни лекарствами помочь было невозможно.
О подобных несчастных случаях следовало ставить в известность милицию. Валентина Яковлевна, перед тем как снять телефонную трубку, попросила почтового экспедитора и шофера задержаться до прихода милиции. Но те ответили, что сперва отвезут в свое отделение почту, а потом приедут снова. Плакавшая нянечка еще до их ухода вышла из приемного покоя. Она вернулась, когда Валентина Яковлевна рассказывала по телефону дежурному милиции о случившемся.
– Милиция сейчас приедет, – сказала Валентина Яковлевна, положив трубку.
– Валентина Яковлевна, у нее мешочек с собой был, – сказала нянечка, указав глазами на кушетку, где лежала покрытая простыней погибшая. – Она в нем письма любимого человека держала. Мешочек под матрасом лежал, теперь посмотрела – нету. Значит, на ней он завязанный. Я возьму мешочек, Валентина Яковлевна, да сожгу эти письма. Зачем, чтоб их в милиции читали? Или вдруг мужу в руки попадут. У него и без этого горя хватит.
– Конечно, возьмите и сожгите, – ответила Валентина Яковлевна.
Нянечка подошла к кушетке, отвернула простыню, осторожно ощупала покойницу и стала расстегивать пижамную куртку. Однако снять туго завязанный на талии мешочек не могла: узлы тесемок смерзлись, окоченевшее тело трудно было приподнять и повернуть. К тому же нянечка была так потрясена случившимся, что у нее дрожали руки. Она все время плакала, приговаривая:
– Жалко мне ее, жалко… Бедненькая… Такая молоденькая…
Видя, что нянечка никак не справится с узелками, сестра взяла ножницы, перерезала тесемки, и мешочек легко снялся.
Не дожидаясь, пока приедут из милиции, нянечка спустилась в подвал, где находилась котельная, чтобы бросить в топку мешочек с письмами. Она и бросила бы его сразу в огонь, если бы не истопница Домна, женщина спокойная и не глупая, всегда читавшая во время ночных дежурств в котельной разные книжки. Узнав о содержимом мешочка, Домна сказала:
– Зачем их сжигать? Давай посмотрим письма. Если адрес летчика обнаружим, вот и отдадим ему.
Нянечка согласилась с Домной, они стали вскрывать мешочек. Вынули из него первый толстый конверт, раскрыли его и ахнули.
5Прошла зима с пургами, морозами, длинными полярными ночами. В конце мая поплыли на сопках снега, дотаивал снег на земле и начала покрываться зеленью тундра. Сутки превратились в сплошные солнечные дни, без ветров и без туч, и аэропорт зажил шумной, беспокойной жизнью, радуясь весне и хорошей летной погоде.
Однажды в такой вот замечательный день в ресторан вошел загорелый парень. Он держал в руке что-то пухлое, чего нельзя было увидеть, поскольку это «что-то» было завернуто в плотную лощеную бумагу. Парень оглядел с порога зал, но, видимо, не увидел того, кого искал. Он подошел к молоденькой официантке, которая, сидя за служебным столиком, протирала салфеткой бокалы.
– Девушка, скажите, сегодня работает… – парень запнулся, потом снова сказал: – Я не знаю, как зовут эту девушку… Такая черненькая, и родинка вот здесь, на правой щеке.
Девушка подумала и ответила:
– В нашей смене такой нет.
– А вы не могли бы передать ей вот это? – Он указал на свой пухлый сверток. – Я только из самолета, и меня ждет машина. Она догадается, от кого.
– А кому передать? По-моему, у нас вообще никого нет с родинкой, – сказала молоденькая официантка.
– Ну что вы! – усмехнулся парень. – Полгода назад она здесь работала.
– Не знаю, – сказала девушка. – Я здесь недавно. Может, она уволилась. Лучше спросите администратора Коробкову, она точно скажет. Пойдемте, я вас проведу к ней.
Они прошли через зал, девушка указала ему дверь к администратору. Он постучал и вошел в крохотную комнатушку. Полная седая женщина что-то подсчитывала за столом на арифмометре. Он сказал ей то же самое: у них работает девушка, черненькая, с родинкой на правой щеке. Он хочет передать ей тюльпаны. Он обещал привезти из отпуска.
– Черненькая, с родинкой? – переспросила администратор, изучающе глядя на него. – Ее звали Эммой?
– Возможно. Я не спросил имени. Но она здорово похожа на мою сестру, поэтому я ее запомнил, – объяснил парень. Он развернул бумагу, и в руках у него зажегся пунцовый костер из тюльпанов.
– Она погибла, – сказала ему администратор.
– Погибла?! – Парень изменился в лице.
– Замерзла на дороге, – сказала администратор.
Парень стоял как вкопанный у стола, непонимающе уставясь на седую женщину.
– Все раскрылось после ее смерти, – вздохнула администратор. – Она обсчитывала клиентов, ограбила улетавшего в отпуск радиста полярной станции. Держала деньги в старых почтовых конвертах, а санитарке в больнице сказала, что это письма любимого. Хотела удрать с деньгами, пошла ночью на аэродром и не дошла.
Лицо у парня окаменело.
– Вы сказали… ограбила радиста? – медленно спросил он.
– Да, тогда всплыло все сразу. Радист заявил, что вышел от нас после бутылки коньяка. Поскользнулся, упал и потерял сознание. Когда его подняли, денег уже не было. Но их нашли у нее: все купюры были по пятьдесят рублей, и двух не хватало. Пять тысяч без двух купюр. Ее муж чуть с ума не сошел.
Парень молчал. Стоял и не сводил глаз с седой женщины. Потом медленно сказал:
– Мне вернули деньги, выслали в Москву. Но если бы я знал, что из-за них погибнет человек…
Он не договорил, и неизвестно, что он хотел сказать.
Он машинально сгреб со стола пунцовые тюльпаны и, держа их, как веник, в опущенной руке, пошел к дверям.
Мадам Дюрвиль
1Две недели минули быстро, и для мадам Дюрвиль настала последняя ночь пребывания в этом селе и в этом доме. Утром они последний раз позавтракают все вместе за большим столом во дворе под корявой грушей, потом старший брат Федя заведет «Москвич», через полчаса «Москвич» уже будет в районном городке Прохоровке. Они с Жанной сядут на минский поезд, в Минске пересядут на берлинский, в Берлине – на парижский, и вечером в пятницу она, мадам Дюрвиль, с дочерью Жанной вернутся в Париж. На перроне их встретят Поль и старшая дочь Луиза со своим мужем Дарио. С ними, конечно, придут старые приятели Дюрвилей – супруги Гарсен и Жак Бонасье с женой Викторией. В руках у них будут цветы, а на лицах улыбки, и Поль, целуя ее, непременно скажет:
– Мари, милая, как я скучал без тебя! В доме стало пусто, я не знал, куда себя деть.
Он скажет это по-французски, она по-французски ответит ему. И вокруг будет слышаться только французская, только французская речь…
«Боже мой, боже мой!..» – с тоской и горечью думала она.
Был уже, наверно, третий час ночи, но сон все не шел к ней. Уснуть не давали мысли: они бились в голове, болью отдаваясь в висках, и сердце стучало часто и неровно, с перебоями, – возможно, оттого, что в комнате было очень душно.
Духота началась еще с вечера, когда красневшее в закате небо стало затягивать пепельной хмарью. Вскоре хмарь на горизонте заклубилась тучами, они медленно и тяжело надвигались на село, сгущая краски до темно-фиолетового цвета, и внезапно движение их остановилось. Набухшие и бокастые тучи нависли прямо над селом, все ниже оседая на сады и хаты. Распаренный дневной жарой воздух каменно отяжелел, стало нечем дышать. Казалось, давящую глыбу фиолетовых туч вот-вот рассекут молнии и на землю обрушится всемирный потоп. Но сверху так и не пролилось ни капли. Даже наступившая затем аспидно-черная ночь, без луны и звезд, не принесла с собой прохлады: несмотря на открытые окна, в доме было нестерпимо душно.
Правда, духота не мешала спать Жанне и Вере, жене младшего брата Антона. Жанна спала тихо, даже дыхание ее не улавливалось за тонкой перегородкой, а Вера иногда ворочалась во сне, и тогда диванчик отзывался от окна вздохом пружин.
Домик был невелик: кухня, с большой печью и лежанкой при ней, маленькая «зала» и совсем крохотная боковушка, отделенная от «залы» фанерной перегородкой, оклеенной цветными обложками из «Огонька». И когда они вдруг все съехались, оказалось, что в таком домике нелегко сразу всем разместиться на ночлег. Жанне отвели боковушку, где стояла узкая железная кровать, мадам Дюрвиль, как заграничной гостье, выделили высокую деревянную кровать в «зале», Вере – диванчик в той же «зале», а брат Антон и его взрослые сыновья, Костя и Виктор, уходили с двумя перинами спать в сарай. Мама же либо укладывалась на лежанке в кухне, либо, что случалось чаще, ночевала у старшего сына Феди, жившего на той же улице, через два дома. У Феди была газовая плита с баллоном, и мама неспроста уходила на ночь к нему: не хотела спозаранку заводиться с печью, бренчать мисками и стучать кочергой, готовя завтрак. Она желала, чтоб дети дольше поспали, и когда они просыпались, все уже было готово. Еду переносили от Феди сюда, и все усаживались за дощатый стол под грушей…
2Мучимая бессонницей, духотой и своими мыслями, мадам Дюрвиль лежала на высокой постели, опасаясь пошевелиться или громко вздохнуть, чтоб не разбудить Веру и Жанну.
Все эти две недели, с той минуты как она сошла с поезда, увидела толпу встречавших ее родственников и среди всех этих незнакомых и полузабытых лиц узнала сморщенную старушку в белом платочке и, узнав, простерла к ней руки и выдохнула давно не произносимое и вдруг ожившее и само вырвавшееся из груди слово: «Мама!» – с той минуты с нею случилось что-то непонятное, совершенно необъяснимое для нее самой.
Там, в Париже, собираясь съездить на родину и долго готовясь к этому (главное, нужно было скопить денег, а затем уж хлопотать о визе), она не предполагала, что эта поездка превратится для нее в настоящее мучение.
В Париже она была вполне спокойна. Она давно нашла родных и сама «нашлась» для них. И мама, и братья (она их помнила малыми ребятишками и, выйдя из вагона, не узнала их среди встречавших), и дядья, и тетки давно знали, что она не погибла в жутком водовороте войны после того, как ее девчонкой немцы угнали в Германию. В длинных письмах она описала им свои мытарства: завезли на самый запад Германии, засадили за «колючку», гоняли под конвоем на какой-то химзавод, где люди гибли от чахотки, вдыхая ядохимикаты. На этом заводе она познакомилась с Полем Дюрвилем – его схватили, заподозрив в причастности к Сопротивлению. Французов держали в другом лагере, но многие из них работали на том же химзаводе. Всех их освободили американцы. Тогда-то и прошел слух, будто вся Украина дотла выжжена немцами, будто не осталось там ни единой живой души, – и выходило, что ей некуда ехать. Поль не оставил ее. Вместе они добрались до Парижа, к его родным. В Париже Поль устроился электриком на макаронную фабрику, она вначале работала санитаркой в больнице, потом стала медсестрой. Они поженились. Сперва у них родилась Луиза, а спустя десять лет – Жанна.
Все это она давно описала в письмах своим братьям, а те в свою очередь слали ей письма с рассказами о своей жизни. Она знала, что отец не вернулся с войны, что мама сильно сдала, но она, как писали братья, «держится молодцом и предпочитает не хворать». Знала, что брат Федя живет в родном селе, работает агрономом в совхозе, у него две замужние дочери. Знала, что брат Антон врачует в районном городке Прохоровке, что двое его сыновей учатся в медицинском институте. И получалось, что она была не столь уж и оторвана от своих родных.
Письма с Черниговщины всегда приносили ей радость, но не вызывали острой тоски по дому. За многие годы она отвыкла от родного села и родного дома и ее не тянуло из Парижа в далекий край, где прошло ее детство и начало девичьей жизни. Она привыкла к жизни в большом европейском городе, у нее была хорошая семья, был достаток, был свой круг знакомых и среди них – земляки с Украины, с которыми можно было перекинуться несколькими фразами на родном языке, хотя от родного языка она почти отвыкла и говорила теперь с акцентом. С земляками можно было устроить общий обед с украинским борщом, варениками «з вышнямы» и густым яблочным киселем на закуску. Но в общем-то, живя своими заботами, она не грустила о своем детстве и ей не жаль было прошлого. Единственно, о чем она мечтала, – это повидаться с мамой, пока та еще жива, увидеть братьев, которых плохо помнила, увидеть их жен и детей. И она деловито готовилась к поездке на родину, решив с мужем, что с нею поедет и Жанна, деловито советовалась с приятельницами насчет подарков и немало времени посвятила магазинам, выбирая эти самые подарки.
Она сама не ведает, что случилось с нею, когда среди окруживших ее на перроне людей она узнала старушку в белом платочке, простерла к ней руки, крикнула «Мама!» и залилась слезами. И потом, когда приехали из Прохоровки в село, когда всей толпой вошли во двор, где в зелени фруктовых деревьев стояла низенькая белая хатка, с нею опять случилось что-то немыслимое. Она вдруг все узнала, все до капельки: сливу, росшую под кухонным оконцем (это была другая слива), зеленую шиферную крышу (когда-то их соломенная крыша обрастала зелененьким мхом), неокрашенное, вымытое до желтизны крылечко с темневшим сучком на средней доске (крылечко дважды переделывалось), узнала даже лохматые пучки свежего укропа, подвешенные сушиться под козырьком крыльца. И, точно споткнувшись об это крыльцо, она упала на колени и по-сельски, по-бабьи громко заголосила: «Хатка ты моя милая!.. Крылечко ты мое дорогое!.. Досточки вы мои родненькие!.. Ой, мамочка, моя голубонька!.. Ой, бедная моя головонька!..» Она всплескивала руками, припадала лицом к крыльцу и обливалась слезами.
Жанна испугалась, бросилась к ней, тоже заплакала, закричала по-французски (русской речи она совсем не знала), что мама умирает, – зачем они, мол, заехали сюда? Другие тоже бросились к ней, подняли, принесли валерьянки, усадили за дощатый стол под грушей. Мама гладила ее сухонькой рукой по голове, говорила: «Маня, дочечка, дочечка моя единая… Не убивайся так, кто ж в том виноватый?.. Одна война виноватая…»
И все последующие дни у нее, мадам Дюрвиль, не просыхали глаза.
Впрочем, здесь никто ни разу не назвал ее, как звали обычно в Париже, мадам Дюрвиль. Здесь звали ее просто Маней. А подружка детства, Зина Маслюченко, с которой они когда-то гоняли к речке белых гусей, придя «поглядеть» на нее, одобрительно сказала:
– А ты, Манька, ничего себе выглядишь. И лицом круглая, как была. Я б тебя в твоем Париже повстречала, ей-богу, узнала б. А девчонка у тебя совсем тощенькая, аж светится. Это ж сколько ей, годков шестнадцать будет? – поинтересовалась Зина, у которой уже белела проседью голова.
Услышав, что Жанне действительно недавно исполнилось шестнадцать, Зина Маслюченко строго поджала губы, покрутила головой и сказала:
– Дура ты, дура, Манька! Шестнадцать годков, а ты позволяешь ей отак от краситься и цигаретки курить. Ну, а как бы мы с тобой в шестнадцать губы намазали, очи насинили да по цигарке в зубы взяли, – чтоб нам наши батьки сделали?
Она ответила, что в Париже девочки рано увлекаются косметикой и понемножку курят легкий табак.
– А чего тебе на тот Париж глядеть? – рубанула Зина. – Ты гляди, чего твоему дитю полезно. А табак девчонке полезен ли? Тьфу!..
Часом позже она рассказала вернувшемуся с полей Феде о своей встрече с подругой детства и о разговоре, что у них состоялся. Федя, вероятно не желая огорчить ее, посмеиваясь, сказал:
– Да ты не обращай внимания. Зинаида у нас секретарь сельсовета, она всех любит поучать да наставлять. Мало ли, что ей не нравится!
И все же она запретила Жанне курить, потому что и сама заметила, какими испуганными становятся глаза у мамы, когда Жанна достает из кармашка джинсов сигарету и прикуривает от яркой зажигалки.
Но это были мелочи, и не они волновали мадам Дюрвиль. Даже история с плащами-болонья нисколько не расстроила ее. Парижские приятельницы твердили ей, что в России вовсе нет плащей-болонья, и о лучшем подарке, дескать, ее родственники не могут мечтать. Она накупила этих самых плащей в одной захудалой лавчонке, дешево накупила, поскольку мода на них прошла, и привезла и раздарила. А когда спустя несколько дней поехала с братьями в Прохоровку, увидела в раймаге длинную металлическую стойку-вешалку с точно такими же плащами. Здесь их тоже не покупали: тоже прошла мода.
Мадам Дюрвиль была щепетильна. Случись подобное прежде, самолюбие ее было бы больно задето. Теперь же она просто подумала, что никогда не стоит излишне доверяться чужим советам. И больше не вспоминала о плащах.








