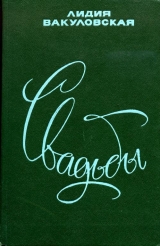
Текст книги "Свадьбы"
Автор книги: Лидия Вакуловская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
В этот день Петро опять задержался в поездке. Настя не слышала, когда он вошел во двор. Но как только сказал Васе Хомуту: «Привет трудовому народу!» – сразу вышла на крыльцо.
– Ох, и продержали ж тебя где-то! Давайте обедать, у меня давно все готово. Вася, мой руки, а то ты у меня совсем заработался.
Изрядно протрезвевший Вася Хомут уже подходил к Петру, тянул ему руку:
– Привет, пан машинист.
Был Вася Хомут тощ и хлипок, до плеча не доставал Петру Колотухе. А Петро могучий, грузноватый, железнодорожная форма сидит на его крепком торсе, как влитая, – прямо генерал, только что без регалий.
– Ну жизнь! – говорил Петро Васе Хомуту, поливая ему на руки из кружки. – Сейчас пообедаю по-скорому и пойду в депо с начальством ругаться.
Настя услышала его слова, отозвалась с веранды:
– Ты уж у меня ругальщик! Что там у тебя случилось?
– А то, что у твоего мужа в этом месяце двести килограммов пережогу по топливу, – отвечал жене Петро. – Встречаю сейчас главного инженера, он говорит: «Мы тебя за это дело на проработку вызовем». Вот я им и устрою проработку.
– То экономил, а теперь пережигаешь? – спрашивает с веранды Настя.
– То когда было. Сейчас попробуй сэкономь, – говорит Петро и объясняет Васе, поднимаясь с ним на веранду: – Наш начальник депо совсем тормоза потерял. Уреза́ли, уреза́ли норму топлива, и, кажись, доуреза́лись. От Толика нет известий? – спросил он Настю, садясь за стол, на котором дымился борщ в тарелках, стоял чугунок с гречневой кашей, только что вынутый из печи, и шкворчало мясо на сковороде, прикрытой крышкой.
– Есть ему время известия тебе подавать, – улыбнулась Настя. – Он там, наверное, без ног от беготни.
– Это уж точно. – Петро тоже улыбнулся, взялся за ложку.
– А вы чего ж по маленькой?.. – спросила Настя, указывая глазами на початую бутылку.
– Я нет, мне в депо идти, – сказал Петро. – Вот Вася – другое дело.
– Тогда и я нет, – решительно отказался Вася.
– Вася, ты что? Ты на Петра не смотри. – Настя взяла бутылку, желая налить Васе. – Много не надо, а для аппетита.
– Настя, мамочка, рыбка моя, нет – и все! Я лучше ко второму блюду приму, – сказал Вася. И, отхлебнув борща, спросил Петра: – Так что с пережогом?
– Понимаешь, – отозвался Петро, смачно потянув борща из ложки, – я двадцать лет поезда вожу и всю эту механику знаю. Почему последний раз норму на солярку снизили? Ясное дело – очки втереть, хороший процент экономии показать. За это начальству почет и премии. А с чего началось, мы тоже знаем. Нашлись такие, кому сверх положенного солярочку подливали, – вот у них большая экономия и получилась. А были умники, которые сами топливо прикупали, если заправщик свой человек. И у этих экономия в показателях. Вот всех и резанули.
– Интересно, кто ж это прикупал и кому подливали? – спросила Настя.
– Ну, зачем фамилии называть? – усмехнулся Петро. – Не в них дело. А в том, что на сегодняшний день двадцать машинистов с пережогом. Что ж получается? Четвертая часть машинистов! Как послать такую цифру в управление? А вдруг там скажут: что ж это за нормы такие вы установили? И наши разумники что делают? Тринадцати машинистам пережог покрывают, а семерых оставляют «для принятия мер». Нет, други мои, так дело не пойдет, – сказал Петро с прежней своей улыбкой.
– Э, Петя, мамочка, ничего ты не докажешь, – с хрипотцой сказал Вася Хомут. – Вон мне машинист Стригун говорил, что у вас на транспорте до сих пор профессиональной болезнью уши считаются. Как до революции постановили, так и осталось. Тогда, видать, паровозы так гудели, что машинисты глохли.
– Верно, Вася, верно, – сказала Настя. – Я по нашей больнице знаю. Тепловозники сейчас или глазами болеют, или желудком, а глухих я никогда не встречала.
– Петя, мамочка, ты мне как другу, кажи. – Вася Хомут отодвинул пустую тарелку и придвинул к себе другую, с гречневой кашей и куском только что сготовленной колбасы. И налил, конечно, рюмочку. – Вот ваш Кнут, орден Трудового получил. Я сам в районке читал: вон какой наш Кнут, по всем показателям первый! За год пятнадцать тонн топлива сэкономил. А тот же Стригун мне говорил…
– Да верно, верно Стригун говорил, – сказал Петро, опережая Васю. – Такой другой экономии нигде по Союзу нет, за нее Кнуту Нобелевскую пора дать. А я своими личными глазами вот какую картину видел. Подошли мы с ним в Гомеле вместе на заправку, его тепловоз – слева, мой – справа. Я в окно смотрю: спрыгнул он на землю, идет к заправщице и зубы до ушей скалит. Раз – и шоколадку ей в карман. А плитка здоровая, мне заметно. Ладно, и я сошел. Стали заправляться. Кнут в одной стороне ходит, покуривает, я – в другой похаживаю, а заправщица в дежурку ушла. Минут десять прошло – она к счетчикам вернулась. И я подхожу. Смотрю на счетчик, а Кнуту уже двести кило лишних накачало. Я ей говорю: «Барышня, здесь уже перебор». Она заахала: «Как это я прозевала?» Тут и он подходит. Посмотрел на меня, а я на него. Он понял, что я понял, и я все понял. А барышня наша милая и говорит ему: «Вы у меня лишнее по ошибке получили. Следующий раз не долью». Понимай теперь, Вася, откуда эти пятнадцать тонн.
Петро встал из-за стола.
– Спасибо, Настенька, – поцеловал он в русую голову жену. – Ну, пошел твой Петро к начальству.
Вернулся он не скоро. Настя успела сходить к сестре Татьяне, примерить новые платья к свадьбе (сестра не только пела в церковном хоре, но и была искусной портнихой). Прибежав от Татьяны, она первым делом спросила Васю, не пришел ли муж. И потом, мельтеша во дворе, все время приговаривала:
– И где ж он так долго? Не случилось ли чего?
И когда он явился, Настя, бросив мыть в сенях полы, пошла ему навстречу, говоря:
– Ох, и долго же ты!
Да и Вася Хомут немедленно кинул топор и подал голос:
– Петя, мамочка, ну как, чья победа?
– Моя, конечно, – улыбаясь, отвечал Петро, снимая фуражку. – Это только моя Настя думает, что я тихий, поругаться не могу. А в тихом омуте как раз и водятся черти. – Он присел на верхнюю ступеньку крыльца. – Начал с топлива, кончил вот этими игрушками, – дернул он за петлицу на пиджаке. – Тоже вот штука. Издали приказ по депо, чтоб без кокарды, петлиц и нашивок на тепловоз не являться. А нигде их не купишь: ни в Гомеле, ни в Минске, ни в Конотопе. Все кинулись родичам в разные города писать, а те отвечают, что и там ничего нет. Кому одни петлицы шлют, кому звездочки, а кому привет в конверте.
– Ну, будут тебе и петлицы и звездочки, раз ты часа три из-за них ругался, – засмеялась Настя.
– Не потому я задержался. Там Груня Серобаба народ потешала. Сейчас расскажу, закурю только. – Петро полез в карман за папиросами.
7
Гнат Серобаба не ночевал дома. Груня провела ночь без сна – все прислушивалась, не стукнет ли калитка, не идет ли он. Да так и не дождавшись, отправилась спозаранку в пионерлагерь. Шагала с пустыми ведрами по лесу – туча тучей, думала и придумывала, как отомстить мужу за эту ночку.
Жизнь у них с Гнатом, как споткнулась вначале, так и шла из рук вон плохо. Знала Груня, что не любит ее Гнат, живет с нею через силу, что чужая она ему и ненужная. И не раз уже Груня помышляла о том, чтоб отравить Гната: дать ему напиться такого зелья, чтоб заснул он и не проснулся.
Гнат уходил от нее. Даже парнем, когда не были еще женаты, хотел увернуться. Было это вскоре после войны. Приехала Груня девчонкой из села, устроилась в городке на маслозаводе, поселилась у своей тетки, а напротив жил квартирант – Гнат Серобаба, присланный после техникума в районную МТС. Груня влюбилась в него, бегала за ним, караулила, маслом его и свежей пахтой угощала. Он сперва не отказывался (синюшненький был, на хлебной карточке сидел), а потом сменил квартиру и стал избегать ее. Вот тогда она – в райком, прямо к первому секретарю. Расплакалась, рассказала ему все, и о том, что ребенок будет. О ребенке она, правда, выдумала, но своего добилась: Гната вызвали в райком, после чего они и расписались. Он хотел с ней развестись, когда уже родилась Саша и когда главным инженером «Сельхозтехники» стал, но не вышло у него: Груня хорошо дорожку в райком знала. И еще раз уходил, даже вещи забрал, но кончилось тем, что получил строгий партийный выговор и вернулся. Вот так и жили. Он постоянно в разъездах по колхозам, а она тянула дом и хозяйство. И не он, она дочку вырастила, образование дала, с Кривошеями подружилась, познакомила Сашу с ихним сыном, судьбу ей устроила. Да еще и как устроила: у Кривошеев домина из шести комнат, сад на сорок деревьев и другого добра хватает.
Пришла Груня на работу такой же, как из дому вышла, – чернее тучи. Чистила картошку, скребла сковороды, а у самой из головы не выходил Гнат. Еще раньше шепнула ей повариха Марья Страхолет, что захаживает Гнат к кассирше депо Фросе Кульгейко. Для дома – он в колхоз поехал, а сам у нее пропадает. Вот и эту ночку пропадал. С утра обещал Саше вечером быть и не явился.
Повариха Марья Страхолет видела, что Груня встала не с той ноги. Но она не любила свою помощницу и решила подлить масла в огонь. Марья Страхолет точно не знала: ходит Гнат Серобаба к кассирше Фросе Кульгейко или нет. Как-то недавно встретила она Гната на своей улице, близко от Фросиного дома, и вот подумалось ей, что был он у Фроси, так как Фрося разведенная и сама себе хозяйка. И вчера видела она Гната на своей улице, правда, далековато от Фросиного дома. Гнат выходил из магазина, у которого ждал его брезентовый «газик». Однако он мог из магазина и к Фросе поехать. Словом, чтоб как-то досадить своей помощнице, повариха Марья Страхолет сказала Груне:
– Опять твоего вчера на нашей улице видала. Сперва в продуктовый зашел, а потом… – Она выдержала допустимую паузу и добавила: – Потом уж не знаю, куда его дорожка легла.
И этого было достаточно: Груня поняла, где ночевал муж. Губы ее плотно сжались, глаза узко сощурились, и Груня тут же приняла решение.
Она покинула кухню, ничего не сказав поварихе, и прошагала лесом в город. Не заходя домой, направилась в депо. Вошла в контору, промаршировала по коридору к кассе. В коридорном закоулочке толпились перед окошечком кассы железнодорожники. За окошечком сидела кассирша. Груня не знала в лицо Фросю Кульгейко и сперва, отстранив какого-то мужчину, заглянула издали в окошечко. Фрося была молодая, с крашеными волосами, насиненными глазами и напомаженными губами.
Груня отошла от кассы к бачку с водой. Нацедила полную кружку, решительно отстранила от кассы другого мужчину и плеснула кружку воды прямо в лицо кассирше Фросе.
Кассирша завизжала как резаная и выскочила из кассы – наверно, посмотреть, кто здесь сошел с ума. Но глаза ей заливала вода вместе с краской, смытой с ресниц, и она ничего не могла увидеть. Груня же, не мешкая ни секунды, ухватила ее за крашеные волосы и затрясла в своих костлявых руках с такой силой, что, казалось, голова кассирши вот-вот слетит с плеч.
– Будешь знать, как чужих мужей приваживать!.. Я тебя научу, сучка поганая!.. – монотонно приговаривала Груня, тряся кассиршину голову. – Он тебе в отцы годится, а ты – отбивать?!
Первым опомнился вагонный смазчик Безручко, которому Груня невзначай наступила на ногу своей искривленной туфлей сорок пятого размера. А за ним опомнились и другие, и все вместе начали отрывать Груню от визжавшей кассирши. Из кабинетов сбегались сотрудники, появился и сам начальник депо. Женщины бросились к полумертвой кассирше, вытирали ей платочками лицо, приглаживали волосы.
– Кто вы такая? Почему дебоширите в государственном учреждении? – закричал Груне начальник депо.
– А вам какое дело? – зыркнула на него страшными глазами Груня. И сказала кассирше: – Смотри, Фроська, еще раз примешь его, я с тобой не так рассчитаюсь!
– Ты, полоумная! – дернул ее за руку смазчик Безручко, у которого сильно ныла нога, попавшая под искривленный каблук Груни. – Какая она тебе Фроська? Та в Крым по путевке давно уехала. А ну, вон отсюда, пока мы тебя не вышвырнули!
Груня позеленела. Рот у нее перекосился.
– Извиняюсь, – как-то брезгливо сказала она. – Ошиблась, значит. – И пошла солдатским шагом к выходу.
Полумертвая кассирша Зина, заменявшая уехавшую в отпуск Фросю Кульгейко, повела вокруг безумными глазами и сказала:
– Я утоплюсь… Я обязательно утоплюсь… – и сделала несколько шагов, желая, видимо, идти топиться.
Ее не пустили. Ее повели под руки в кассу, взяли ключи, заперли кассу, опечатали дверь. И опять повели ничего не смыслившую Зину, но теперь уже в медпункт.
Тогда наконец все окончательно пришли в себя и стали бурно выяснять, кто такая эта сумасшедшая, кто ее муж, при чем тут отдыхавшая в Крыму Фрося Кульгейко, и как вообще все это понимать?
Спустя час о случившемся трезвонил весь городок.
Саша прибежала домой со слезами на глазах. Она все узнала в аптеке (летом Саша закончила фармацевтический техникум и вот уже полмесяца работала в городской аптеке, в штучном отделе). Приходившие за лекарством женщины переговаривались меж собой и называли имя ее матери. Саша отпросилась у заведующей и побежала домой.
Мать кормила в сарае кабанов.
– Мама, это правда? – дрожащим голосом спросила Саша, заходя в сарай. – Ты избила женщину?
– Правда, – смиренно ответила Груня.
– Как тебе не стыдно! Ведь ты позоришь и меня и папу! Мне стыдно, стыдно!.. – заплакала Саша.
– Стыд не дым – глаза не ест, – тихо ответила Груня. – И не плачь. У меня душа совсем от горя черная, а видишь – не плачу. Пусть люди говорят, а ты не слушай. Ты о себе думай. У тебя свадьба в субботу, вот ты о свадьбе и думай.
– Да зачем мне твоя свадьба? – Саша вытирала мокрые глаза. – Не нужна мне твоя свадьба! Не хочу я замуж идти. Зачем? Чтоб так жить, как вы с папой?
– Вот глупая, вот глупая, – ласково сказала Груня. И подошла к Саше, погладила ее по плечам. – То хотела, то теперь не хочешь.
– Ах, мама!.. – сказала сквозь слезы Саша и убежала в дом.
Груня подождала, пока насытится свинство, убрала корыто, ополоснула под колонкой у крыльца руки и отправилась в пионерлагерь.
Саша наплакалась у себя в комнате. Но долго плакать не приходилось: она отпросилась всего на час, нужно было идти в аптеку. Она умылась и причесалась. И тогда появился отец.
– Где мать? – сердито спросил он, войдя в дом прямо в пыльных сапожищах, хотя у них не принято было ходить в обуви по лакированным полам и ковровым дорожкам.
– Ушла в лагерь, – сказала Саша.
– Ты знаешь, что она натворила?
– Знаю, – ответила Саша.
– Ох, Саша, Саша!.. Что мне делать, как мне жить на белом свете? – Гнат Серобаба заходил по ковровой дорожке, не думая о том, что портит своими грязными сапогами пышный ворс.
– Я сама не знаю, как мне жить, а ты у меня спрашиваешь, – грустно сказала Саша.
– Ах, гадость! За что я мучаюсь? Опозорила, оплевала! Доколь же мне терпеть?
– Папа, не говори так. Это моя мать, и я ее люблю, – сказала Саша.
– А я? Я тебе кто?
– Отец. И я тебя тоже люблю, – ответила она.
– Всех-то ты любишь! Мать любишь, меня любишь, жениха своего любишь. Откуда столько любви берется?
– Папа, не злись, – тихо попросила Саша. – Мне вас обоих жалко. Почему вы не разойдетесь по-хорошему? Всю жизнь вы друг друга мучаете.
– А-а… Ну, спасибо, спасибо тебе!.. – трагическим голосом воскликнул Гнат Серобаба. – Дожился Гнат, дожился!.. На работе меня каждый слесарь уважает, на работе от всех почтение, а дома вот что делается! Дома пекло небесное… Так лучше пошел я. Так и знай: поеду сейчас по колхозам и не ждите меня! Не-ет, теперь вы меня не ждите!.. – И он выскочил из дому, хлопнув дверью.
Вечером Саша сидела во дворе на качелях (они были сделаны, когда она была еще маленькой), чуть-чуть покачивалась и смотрела, как зажигаются в далеком синем небе яркие и тусклые звездочки. Она была одна дома. Мать приходила с работы поздно, в двенадцатом часу, отец, должно быть, выполнил свою угрозу – уехал в какой-нибудь колхоз и неизвестно, когда вернется. Жених ее и будущий муж Гриша Кривошей поступает в Гомеле в железнодорожный институт. Гриша выдержал уже три экзамена и завтра сдает последний. Он четвертый год поступает в институт, вернее, в разные институты. Трижды не прошел по конкурсу и завтра будет известно, пройдет ли он в четвертый раз. Может, и пройдет, может… Но сам Гриша не очень жаждет стать студентом и вряд ли поступал бы в четвертый раз, если б не настаивали родители. Уезжая в Гомель, он сказал Саше, что будет рад, если не поступит, потому что учиться пять лет – это великая мука. Гриша был убежден, что лучше слесарить в депо, чем зубрить книжки.
Саша покачивалась на качелях, смотрела на яркие звезды и не думала ни о Грише, ни о его экзаменах, ни о его письмах, которые приходят из Гомеля и в которых тысячу раз повторяется слово «люблю». И вообще ни о чем не думала она. Просто сидела на качелях и смотрела на звезды.
Иногда она поглядывала на соседний дом, и ей была непонятно, отчего в доме темно, отчего не слышно транзистора, отчего и во дворе не слышно голосов.
Когда стемнело гуще, когда ярче засияли звезды и над деревьями всплыл молоденький остророгий месяц, Саша поднялась с качелей, подошла к забору и заглянула в щель. Окна в доме были закрыты, на дверях висел замок, на замке лежал отблеск месяца. Месяц освещал чисто подметенный дворик, холмики собранного в кучки, подсохшего бурьяна и окна, за которыми никого не было.
Саша тихо ушла в дом, не закрыв ставен на кухне.
Ночью она проснулась, вышла босиком на кухню попить воды и снова увидела из окна соседний дом. Теперь месяц стоял высоко, прямо над крышей, и окна в доме были угольно-черными. И черным был весь дом. Только крыша мягко серебрилась, как шлем, надвинутый на черное квадратное лицо.
Саша попила воды, вернулась в свою комнату и снова уснула.
8
Поликарп Семенович Кожух слыл культурным человеком не только потому, что носил соломенную шляпу, очки с двойными линзами и сандалеты и поигрывал на скрипке и пианино, но и потому, что все он делал культурно. Если занимался производством домашнего вина, то предварительно стерилизовал посуду, работал в фартуке, а перед работой пятнадцать минут мыл руки проточной водой, то есть ровно столько, сколько моет хирург перед операцией. Если по весне опрыскивал ядохимикатами сад, предохраняя деревья от всяких короедов и листоедов, то облачался в прорезиненный комбинезон (между прочим, Поликарп Семенович не сжег его после того, как оттащил за город труп бешеной собаки), надевал резиновые перчатки и противогаз довоенного образца. Если ставил новый забор в северной части двора (забор в южной части обязана была содержать в порядке его соседка с юга – Марфа Конь), то так культурно отхватывал у Васи Хомута полоску земли шириной в полметра, что Хомуты решительно ничего не замечали. За тридцать лет Поликарп Семенович дважды переделывал северный забор, в результате чего успешно расширил свой земельный участок примерно на метр и десять сантиметров в ширину и почти на сорок пять метров в длину. Весьма культурно Поликарп Семенович уволок у тех же Хомутов четыре узеньких бетонных балки, оборудовал с их помощью в гараже «яму» и теперь, спускаясь в нее, мог удобно смазывать и ремонтировать низ своей «Победы».
Прежде Поликарп Семенович увлекался и художественной литературой, но, выйдя на пенсию, сузил тематику чтения, ограничив ее садово-огородными книгами и книгами об устройстве и ремонте легковых машин. Все книги, имевшиеся в доме, хранились в просторном диване. Там они не пылились, к тому же была полная гарантия, что оттуда их не унесет никто из посторонних. В диване покоился и Кристофер Марло, подаренный Олимпиаде Ивановне сыном Геной. И еще лежало там три подшивки «Нивы» за 1901 год, совершенно слипшиеся и труднодоступные для чтения.
Даже с женой Поликарп Семенович ссорился культурно: не повышая голоса. Он проявил большое благородство и в прошлом году, когда, заявив жене, что желает жить отдельно, жить свободно, без угнетения с ее стороны, принялся делить имущество. Поликарп Семенович с исключительной честностью надвое распилил шкаф, затем стол, затем диван, вытряхнув из него предварительно ценные книги. Неизвестно, чем бы все кончилось и удалось ли бы Поликарпу Семеновичу также ловко распилить пианино и скрипку и добиться того, чтобы каждая из частей могла звучать отдельно, если бы не приехал сын Гена, вызванный телеграммой Олимпиады Ивановны. Гена пробыл дома неделю и уехал, внеся в семью мир и согласие. После его отъезда Поликарп Семенович мастерски склеил воедино разделенные вещи, водворил их на прежние места и снова зажил с Олимпиадой Ивановной тихо и уединенно.
Сегодня Поликарп Семенович уже дважды спускался в погреб, где стояло в бутылях яблочное вино его собственного приготовления. Он всегда спускался в погреб, когда Олимпиада Ивановна садилась на своего любимого конька. А ее любимым коньком была коричневая «Победа» первого выпуска, запертая на замок в гараже, у которого бегала, гремя цепью, кудлатая Пирка (когда щенок Пират подрос и выяснилось, что он требует имени женского рода, он стал Пиркой). Олимпиада Ивановна уже третий год уговаривала Поликарпа Семеновича подарить сыну «Победу» первого выпуска, и уже третий год Поликарпу Семеновичу приходилось держать культурную оборону с помощью периодических спусканий в погреб.
Именно сегодня пришло письмо от сына, расчувствовавшаяся жена села на своего любимого конька, и в погреб пришлось спускаться дважды. Обмен мнениями уже состоялся, стороны не пришли к согласию и удалились каждая в своем направлении: Поликарп Семенович – в гараж, к любимой «Победе» первого выпуска, Олимпиада Ивановна – в дом, к любимой газовой плите с баллоном.
Поликарп Семенович отпер ключом дверцу машины, сел за руль и попробовал, легко ли он ходит. Потом попробовал, как ходят педаль тормоза и педаль сцепления. Обе педали ходили исправно. Иначе и не могло быть: Поликарп Семенович часто смазывал машину и строго следил, чтобы не испарялась тормозная жидкость.
Он посидел в машине с полчаса, и как раз дало знать о себе второе спускание в погреб. У Поликарпа Семеновича появилось желание помузицировать. Но не хотелось заходить в дом и попадаться на глаза Олимпиаде Ивановне. Поэтому Поликарп Семенович стал музицировать в машине, перебирая пальцами по невидимым клавишам и напевая в треть голоса осенний мотив из «Баркароллы» Чайковского.
Намузицировавшись, он запер на ключ машину, запер на замок гараж, сел на скамью, затененную кустом давно отцветшей сирени, взял лежавшую на скамейке брошюрку «Лечение пчелиным медом и ядом», купленную вчера в киоске, надел очки с двойными линзами и стал читать о пользе пчелиного яда и порядках в пчелиных семьях. И в это самое время к нему подошла, прихрамывая на обе ноги, Олимпиада Ивановна, страдавшая отложением солей в ступнях. Она села возле Поликарпа Семеновича и сказала:
– О-ох!.. – Потом сказала: – У-ух!.. – И наконец сказала: – О-ох, как я устала!..
В молодости Олимпиада Ивановна, видимо, была весьма симпатична. Симпатичность, видимо, ей придавал задорно вздернутый носик (он и остался задорно вздернутым), выгодно отличавшийся от толстого, пористого носа Поликарпа Семеновича. И придавали, видимо, ей симпатичность кругленькие, слегка выпуклые карие глазки (они и теперь оставались карими и выпуклыми), не шедшие ни в какое сравнение с бесцветными и косящими глазами Поликарпа Семеновича.
– Значит, ты наотрез отказываешься подарить Гене машину? – очень ласково спросила Олимпиада Ивановна.
– Отказываюсь, мадам. Наотрез, – столь же вежливо ответил он.
– Но ведь ты на ней не ездишь. Она ржавеет и скоро развалится. Тебе не кажется, что ты похож на собаку на сене: сам не гам и другому не дам? – почти нежно проговорила Олимпиада Ивановна.
– Не кажется, мадам, – вежливо ответил Поликарп Семенович, устремив двойные линзы в брошюрку. – Всю мою трудовую жизнь вы держали меня на полуголодном пайке и копили на дом и машину. И я это терпел. Почему я должен все отдать?
– Не все, а только машину. Ведь ты на ней выезжаешь раз в год и то не дальше нашей лужи.
– Ошибаетесь, мадам. В прошлом году я выезжал в Чернигов и возил вас. И еще хочу вам напомнить вот что. У нас существует принцип: каждому по труду. Я его придерживаюсь. Пусть Геннадий сам заработает на машину, как заработал я.
– Вы подлец, – тихо сказала Олимпиада Ивановна, тоже переходя на «вы». – И негодяй. К тому же изверг.
– Такой негодяйки, как вы, мадам, я не встречал, – вежливо ответил Поликарп Семенович. – Вы отпетая негодяйка.
– Зачем же ругаться, как сапожник? Всю жизнь твердить мне, что вы отпрыск благородных дворян, – и оскорблять женщину? Фу!
– Мадам, вы сами знаете, что мои предки – дворяне. А ваши – мелкие купчишки. Так что лучше заткнитесь, – вежливо попросил Поликарп Семенович.
– Лучше вы заткнитесь. Мне неприятно на вас смотреть! – ответила Олимпиада Ивановна.
– А мне, простите, на вас. Вы малограмотная женщина. В одном письме делаете сто ошибок.
– Куда уж мне! Ведь я не получила дворянского образования!
– Зато получили тунеядское образование. Вы никогда не работали, жили, как эти трутни, – Поликарп Семенович взмахнул брошюркой «Лечение пчелиным медом и ядом». – А я был для вас рабочей пчелой-труженицей.
– Если бы не я занималась хозяйством, вам не видать бы ни машины, ни такого дома, – сказала Олимпиада Ивановна и повела рукой на дом, показывая, какой он замечательный.
А дом действительно был хорош: на высоком фундаменте, с высоким чердаком и широкими окнами, да еще имел три крыльца и три отдельных входа – два с улицы, которыми не пользовались, и один со двора. Это не считая дворовых построек: гаража, прекрасного глубокого погреба, двух сараев, дощатой уборной и собачьей будки.
– Вот, вот! – отвечал жене Поликарп Семенович. – Вы экономили на моем желудке. В доме никогда не было натурального пчелиного меда. Почитайте, что такое пчелиный мед. – Он взмахнул брошюркой. – Это источник здоровья!
– Ну, вы здоровы, как бык! Вы на двадцать лет меня переживете. Отдайте Гене машину, пока я еще жива.
– О, вас переживешь! Вы любого загоните в могилу. Машину я не отдам.
– Что, уже сбегали в погреб и насосались?
– Не ваше дело. Я произвожу продукт, и я его потребляю.
Этот разговор, в котором со стороны супругов было много выдержки и такта, прервал прибежавший внук Игорь, сын сына Гены, присланный на летний отдых к бабушке и дедушке. Олимпиада Ивановна вторично посылала внука к Огурцам за книгой Кристофера Марло.
– Баб, а он догадался, что ты обманула, – сообщил внук, отдавая Олимпиаде Ивановне книгу. – Он сразу сказал: никакая тетенька не пришла.
– Ты, наверно, проболтался? Ну-ка, посмотри мне в глаза, – сказала внуку Олимпиада Ивановна. – Сейчас узнаю, лгун ты или нет.
Игорь вытаращил глаза и застыл на мгновение.
– Теперь расскажи, как было, – потребовала Олимпиада Ивановна.
– Я ему сказал, как ты сказала: «Дядя, это чужая книжка, за ней тетенька пришла», – докладывал Игорь, честно глядя в глаза Олимпиаде Ивановне. – А он сказал: «Твоя бабушка обманщица. Эту книжку ей твой папа подарил».
– Что, съели, Олимпиада Ивановна? – едко заметил Поликарп Семенович. – Налицо характеристика вашей персоны.
– Нет, это вам наука, Поликарп Семенович, – не менее едко отвечала Олимпиада Ивановна. – Чтобы не выносили тайно из дому мои вещи. Вы думаете, я не вижу, а я все вижу. И теперь вам будет стыдно идти к Огурцам. А я знаю, что вам очень хочется сходить. Спасибо, Игорек, – Олимпиада Ивановна погладила внука по аккуратно причесанной головке. – Теперь спрячь книгу в диван и возьми себе за это конфетку в шкафчике.
– Спасибо, баб, – вежливо ответил внук и убежал в дом.
– Ведьма купеческая! – тихо сказал жене Поликарп Семенович.
– Черт дворянский! – тихо ответила она.
И опять их обмен любезностями был прерван стуком в калитку. Дремавшая у гаража Пирка немедленно пробудилась, залаяла и забегала, гремя цепью.
– Открой, пожалуйста. Это к тебе, – сказала мужу Олимпиада Ивановна.
– Нет, ты открой, пожалуйста. Это к тебе, – ответил он, продолжая читать брошюрку.
Поскольку Пирка исходила лаем, нужно было кому-то встать и открыть запертую калитку. Поликарп Семенович пошел к воротам.
Оказывается, пришла жена машиниста Колотухи, которую Поликарп Семенович, конечно же, знал, с которой, конечно же, здоровался при встрече, но которая, конечно же, никогда прежде к ним не заходила.
– Здравствуйте, Поликарп Семенович. Может, вы отдыхали, а я помешала? – извинительно начала она.
– Нет, ничего, – ответил он и спросил: – Вы ко мне или к жене?
– К вам, Поликарп Семенович, лично к вам, – ответила Настя. – У меня большая просьба. Такая большая, что прямо от вас все зависит.
Поликарп Семенович приготовился выслушать Настю. Но тут подошла к ним и Олимпиада Ивановна.
– Вы ко мне или к мужу? – спросила она Настю, которую, конечно, тоже знала и здоровалась с нею при встрече.
– Да, наверное, к вам обоим, – ответила ей Настя. И повторила, уже для Олимпиады Ивановны: – Большая у меня к вам просьба. Вы уж только не откажите. Сын наш Толик женится, и мы с мужем решили…
И стала Настя рассказывать, что решили они с мужем. А решили они встретить сына, который будет ехать из Чернигова с молодой женой, на машине Поликарпа Семеновича. И красиво, чтоб запомнилось молодым и всем другим, въехать на двух машинах в город. Пусть люди видят, что у них свадьба.
– Понимаю ваше желание, – ответила, выслушав Настю, Олимпиада Ивановна. – Но у нас машина не на ходу.
– Нет, Липочка, почему же? – вежливо ответил жене Поликарп Семенович, желая тут же доказать ей, что не она, а он распоряжается машиной. – Наша «Победа» в прекрасном техническом состоянии, нужно лишь колеса надеть.
– По-моему, на «Победе» треснул кардан, – вежливо, но твердо сказала Олимпиада Ивановна, давая понять мужу, что выезда не будет.
– Ты просто забыла, Липочка, что на прошлой неделе я его подварил, – сказал Поликарп Семенович, давая понять жене, что выезд состоится.
– Ох, какое ж вам спасибо! – обрадовалась Настя. – А я боялась, что вдруг откажете.
– Почему же мы должны отказать? – ответил ей Поликарп Семенович. И стал спрашивать, в какой день и в котором часу Настя с мужем хотят встретить сына.
Настя ушла от Кожухов очень довольная, сто раз поблагодарив Поликарпа Семеновича и Олимпиаду Ивановну.
Поликарп Семенович закрыл за ней калитку на крючки и на засов и вместе с Олимпиадой Ивановной вернулся к скамье, где они до этого сидели.
– Учти, ты никуда не поедешь! – сказала ему Олимпиада Ивановна.
– Позвольте спросить, почему вы так думаете? – ответил Поликарп Семенович, снова берясь за брошюрку о целебных свойствах пчелиного меда и яда.








