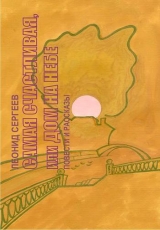
Текст книги "Самая счастливая, или Дом на небе (сборник)"
Автор книги: Леонид Сергеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц)
Мать же была и самым восторженным зрителем: после спектакля хлопала и смеялась, только это был уже не тот смех, что на Правде, это был отзвук былого звонкого переливчатого смеха. На фоне тех лет, полных невзгод и лишений, наши спектакли – как свет в конце длинного мрачного тоннеля.
Что немаловажно, помимо спектаклей мать рассказывала нам о многих литературных героях, обращала наше внимание на стихи и картины великих поэтов и живописцев в настенном отрывном календаре, и на музыкальные передачи по радио (и сама часто напевала довоенные песни и арии из оперетт), и тем самым прививала нам определенный вкус; во всяком случае, многое из того, что я полюбил в детстве, я и сейчас люблю.
Я вспоминаю праздники, когда мы с утра выскакивали из общежития и возбужденные бежали к заводу, где собирались демонстранты с лозунгами и бумажными цветами. У завода играл оркестр, рабочие пели и танцевали. Мы ходили среди знакомых и незнакомых людей, заражались чувством товарищества, общности со всем происходящим. Потом, охваченные массовым энтузиазмом, шли с колонной по трамвайным путям к центру, соединялись с идущими от других заводов… Сложнее всего было проникнуть на площадь Свободы, где на трибуне, в сиянии славы, стояли руководители Татарии. Проныривая меж милицейских оцеплений, через дворы, подвалы и заборы, мы пробирались к площади и с какой-нибудь крыши смотрели на празднество.
Стоит отметить, что в то время в провинции призывы и лозунги еще не потеряли своего смысла и демонстрации еще не носили помпезный, показной характер, то есть выглядели вполне достойным зрелищем. Ко всему, в колоннах могли шествовать все желающие, можно было идти под руку, обнявшись, не запрещалось танцевать и петь – не то что сейчас, при «добровольно-принудительном» методе и строжайшем учете.
…Я вспоминаю наши с отцом рыбалки, когда по пути на речку, отец как-то деликатно входил в лес – «чтобы ничего не нарушить», и меня приучал беречь природу, доходчиво объяснял взаимосвязь всего живого на земле. Отец научил меня разбираться в деревьях, грибах и ягодах, различать пение соловья и жаворонка. Собственно, каждая наша вылазка на природу была прекрасным показательным уроком.
Мы удили на обыкновенные поплавочные удочки. Иногда налавливали десятка два рыбешек и я в приливе чувств хвастал, что такого улова на Казанке ни у кого не было.
– Да, нам повезло, – улыбался отец. – Но вот с Ванюшкой, дядей Ваней, на Истре мы и побольше ловили. Раньше ведь ни одной рыбалки без него не обходилось. Вот был заводила! Бывало, только приду на работу, а он уже тут как тут, в нашем отделе. «Вечером махнем на Истру? – и наподдаст мне кулаком в бок. – Я уже и пузырек приготовил», – и вытягивает из кармана бутылку вина и подмигивает. Вот веселяга был, так веселяга! И какой талантище! Сижу, бывало, за кульманом, бьюсь над деталями, а он подойдет и легко так, мимоходом, обронит находку. И я думаю, как раньше-то этого не видел, ведь лежало под рукой, на поверхности… Да, что там говорить! Он из ничего мог сделать что-то, В пустоту вдохнуть жизнь. Ведь все истинное в воздухе, но не всем дано поймать.
Когда начинало припекать и рыба уходила на глубину, мы с отцом выбирали песчаную заводь и плавали… Плавал отец красиво. Он вообще все делал красиво. И когда чертил, красиво держал карандаш, и красиво, экономно чистил картошку и резал ее на лепестки, и красиво курил, и, собираясь на рыбалку, красиво укладывал снасти, даже рогульки для удилищ срезал как-то красиво. Отец и в воду входил красиво – спиной, рассекая водную гладь ладонями. Входил в воду и звал меня за собой. Потом взмахивал руками и некоторое время плыл на спине, оставляя за собой ровную цепочку пузырьков. Потом переворачивался и нырял и долго плыл под водой, и на поверхности крутились завитки от его невидимых движений.
Мы заплывали на противоположный берег (всего-то в десяти метрах) и, пока обсыхали в белом сыпучем песке, отец открывал мне тайны «походной жизни»: показывал, каким листом потереть место, где ужалила пчела, учил делать дымовое «кадило» от комаров и складывать туземский костер пирамидой, и правильно укладывать вещи в рюкзак, и ориентироваться в лесу, и строить шалаши, и многое другое.
Как-то отец сделал из тальника лодку-каноэ, сделал ее без всяких веревок и гвоздей, и казалось просто невероятным, что она не разваливалась. Но чтобы доказать прочность своего сооружения, отец протянул мне ветку-шест:
– Прокатись!
Я сел в лодку и оттолкнулся от берега. Под тяжестью моего веса лодка осела, закачалась, но благополучно описала полукруг.
– Здорово! – сказал я вернувшись.
– Хм, это все дилетантство! А вот он сделал бы так сделал.
– Кто?
– Ванюшка, кто ж еще! Он все делал мастерски, – отец глубоко вздохнул и отвернулся.
Там, на реке, отец рассказывал о своей работе, друзьях, открыл мне настоящие ценности – объяснил, что такое искренность, порядочность и честность. Взгляды отца стали для меня заповедью, обозначили вполне четкие идеалы, и чем дальше отодвигается то время, тем больше я черпаю ценного из того общения с отцом. Оно стало для меня источником житейских премудростей, спасительной жилой в дальнейших передрягах, резервуаром непреложных и вечных истин. Позднее, когда я жил один, мне постоянно не хватало отца, я все время обращался к нему за помощью, ставил его на свое место и думал, как бы он поступил – по нему сверял свои дела и поступки, и во всем старался ему подражать. Я обращался к нему за советом и когда его уже не было в живых, и когда сам стал отцом, и даже когда стал старше его по возрасту.
…Фотографии дяди Вани и отца сейчас на моем столе. Их настоящая мужская дружба – для меня первостепенное в жизни, она помогает мне в минуты неприятностей и хандры.
8.
Недалеко от общежития пролегало асфальтированное шоссе; в жару асфальт плавился и блестел, точно полированный, низины казались лужами. На шоссе находилась бензоколонка, закусочная «обжорка» и мастерская, где стояли покореженные колымаги, как мемориал нерадивым водителям.
За мастерской начинались луга – безграничное раздолье с одиночными деревьями и островами кустарника. Можно было долго бежать по горячим и прохладным местам полян, под деревьями и кустами, и все равно оно не кончалось, это буйство цветов и зелени. Там среди деревьев струились ручьи, а дальше протекала Казанка – в нее, точно фонтаны, свисали ивы. Можно было проплыть под ивами и выйти к старой мельнице, где за плотиной, в омуте темнел тайник подводных растений. В той гуще совершал чародейства водяной: рыбу уводил с куканов, бредень запутывал, делал в лодках щели, плавающих затягивал в воронки… А на мельнице жил домовой: ночью скрипел половицами, просыпал крупу, задувал лампу, останавливал часы… А в лесу около мельницы обитал леший – шишки кидал, цеплял колючки, паутиной затягивал тропу; заведет в болото и гогочет, и стучит по сучьям, и ухает. Захочешь отдохнуть и ляжешь под дерево – подсыплет муравьев, чтоб проснуться от зуда.
По вечерам мы с одноклассником Вишней – Толькой Вишневским прибегали на мельницу к деду Арсению слушать рассказы про «нечистую силу»… После дождя повалит пар от деревьев – ясное дело, леший дует чай у самовара, принесешь из леса корзину грибов – все он, нечистый, навел на места. Наловишь голавлей – кто, как не водяной, нацепил. Все это дед Арсений вещал с вялой меланхолией, как само собой разумеющееся. Он приводил убедительные факты, и они производили на нас безотказное действие… Теперь я думаю – это была не просто особая магия шутливого свойства; своими рассказами дед преследовал определенную цель – расцвечивал наш детский мир, распалял нашу фантазию.
Как-то засиделись у деда до полуночи. Он постелил на полу мешки из-под муки, на них положил овечий тулуп, и мы с Вишней плюхнулись в мягкие завитки. Стало тихо, только слышалось тиканье ходиков, жужжанье мухи в паутине, да дребезжало стекло от шума ночного грузовика, и с потолка на стены сползали полосы от фар.
– Неужели и черти на свете есть? – тихо произнес Вишня.
– А как же, – хмыкнул дед, сворачивая самокрутку из газеты. – Черт, скажу вам, самый что ни на есть бедняк. Живет на болоте. Негде даже отдохнуть толком. Я уж не говорю, хозяйством обзавестись. А тут еще поминают его худыми словами. И зря. С чертом ладить можно. Поручишь что-нибудь, всегда сделает. Услужливый, старательный.
– Так чего ж их не заставят работать? – наивно спросил я. – Пусть пилят дрова, носят воду.
– Ишь чего захотел! А ты будешь лежать, пирогами объедаться! Тогда, брат, такая лень на землю спадет, все и вовсе перестанут работать.
Вишня хихикнул. Дед закурил, закашлял, его щеки то надувались, то втягивались.
– А вот леший живет в добротной избе. Любит выпить медовухи, сразиться в картишки… Все лешие женаты. Лесечихи толстые, ужас какие. Потолще моей бабки Пелагеи, царство ей небесное!.. Так вот, лесечихи работящие, стряпают от зари до зари, а мужья ходят по лесу, шалят, канальи. Наклюкаются медовухи и пугают зверье и людей. Идешь по лесу, подкрадутся, шепнут что-нибудь. Могут и палкой огреть… А так они ничего, не больно досаждают.
Мы с Вишней съежились, замерли. Дед снова закашлялся, покраснел, растер грудь ладонью.
– А лучше всех из нечистой силы домовой. Этот мужик, скажу вам, знает толк в хозяйстве. Может дельный совет дать… Вот у нас жил на прежней избе, где щас амбар. Жили мы душа в душу. Бывало, говорит: «Кто меня любит, того и я люблю». Иногда ворчал: «Холодновато у тебя, хозяин. Не жалей дров-то, не жадничай и шамать побольше оставляй».. Прожили мы этак лет десять, не меньше. Потом Пелагея с домовихой начали ссориться. Известное дело, где бабы, там и ссоры. Под Троицу подзывает меня. «Тесно, – говорит, – нам, хозяюшка, в одной избе. Давай-ка оставь мне эту, а себе новую отгрохай». Вот и срубил я эту избу. Когда расставались, он в три ручья рыдал… Ну, да Бог с ними со всеми. Пора на боковую…
Дед потушил самокрутку, прокашлялся и, как бы приободряя нас, закончил:
– Я в них верю-верю, а потом всех пошлю к ядреной матери… Я ведь и в Бога-то не больно верю. Ежели уж захвораю. Тогда помолюсь, а после пропущу стаканчик первача, хворь и отступает.
Дед Арсений при мельнице разбил сад. Однажды я спросил:
– Зачем тебе столько деревьев?
– Разве ж это мне? – усмехнулся. – Да если б не сад, разве ж я мог спокойно умереть? Ну жил, ну муку молол всю жизнь, и что? Нет у меня ни детей, ни, скажем, не строил я самолеты, как ваши отцы. А ведь каждый должен после себя что-то оставить. Вот я и оставлю сад. Небольшое дело, но все ж полезное.
Сад деда Арсения в моем детстве – прекрасный пример человеческой щедрости. Как некий зеленый храм я вижу его до сих пор, и среди деревьев – старик, переполненный счастьем…
Конечно, счастье – понятие относительное. Тот, кто живет в благоустроенной квартире и смотрит на мир из автомобиля, считает разных бессребреников несчастными людьми, а те в свою очередь считают его несчастным, ведь у них другие понятия о ценностях.
По утрам над мастерской качались верхушки сосен и в разрывах хвои клубилась яркая синь, а над лугами параллельно земле скользил веер лучей. Мы с Вишней спускались к Казанке, подбегали к плотине, где вода бурлила, пенилась и бросалась вниз в шипящие завитки… Уплывали к затону, где разноцветные тыквы служили поплавками для сетей рыбаков, где над травами висели дрожащие стрекозы. Барахтались среди плавающих широких листьев и пахучих кувшинок, тянули тугие, будто резиновые, стебли, которые шумно лопались, поднимая множество серебристых пузырьков.
Возвращаясь с Казанки, заходили в мастерскую, смотрели, как ремонтировали какой-нибудь драндулет, или просто лежали у шоссе, рассматривали проезжающие грузовики и легковушки.
Часто по шоссе на мужском велосипеде ездила тонкая девушка. У нее были светлые волосы, завязанные узлом, но главным украшением являлась улыбка. Эта улыбка была как чудо. И вся девушка, яркая, гибкая, выглядела неотразимо. Она жила в соседнем кирпичном доме. Каждое утро привязывала к багажнику книги и ехала в рабочий поселок, а в полдень возвращалась обратно. В полдень я всегда стоял у мастерской и смотрел на нее, и весь мой дурацкий вид выражал тихий триумф. Несколько раз она замечала меня, улыбалась и кивала, как хорошему знакомому, и всегда, когда она смотрела на меня, я испытывал какое-то возвышенное чувство. Однажды она подъехала и спрыгнула с велосипеда:
– Что ты так смотришь? Как тебя зовут? Я нравлюсь тебе, да?
Я хотел убежать, но был не в силах сдвинуться с места.
– Если я тебе нравлюсь, почему не подаришь мне цветы? – засмеялась, наклонила велосипед, перекинула ногу через раму и оттолкнулась.
– Смотри, в следующий раз подари! – крикнула, отъезжая.
В романтической приподнятости я стоял с незабудками на шоссе весь день, но ее не было. Я расстроился до тоски. Она показалась только к вечеру с парнем из нашего общежития; он вез ее на раме, что-то говорил в самое ухо, и она смеялась. Около закусочной они остановились, и парень скрылся за дверью. Она достала из кармана платья карандаш, стала постукивать им по зубам. Вдруг заметила меня и весело, с неизменной улыбкой, сказала:
– А, это ты, мальчуган? И кого это ты здесь ждешь с цветами? Кому назначил свидание? Ну отвечай!
От внезапного потрясения я не мог произнести ни слова. Где ей было знать, какую она причиняет мне боль, как унижает небрежность в ответ на любовь. Я протянул ей букет и хотел сказать, как сильно ее ненавижу, но тут подошел парень с бутылкой вина. Она сунула букет в карман, они сели на велосипед и с залпами смеха покатили к Казанке. Я бежал за ними, прятался за деревьями, терял их из вида и выслеживал снова и задыхался от жгучей ревности. До позднего вечера они бродили в лугах, обнимали друг друга, падали на землю и жадно целовались.
То далекое время! Струящийся, бьющий свет, разгул теплого ветра, качающиеся кусты, шелестящие травы, цветочная пыльца, бронзовые жуки, трепещущие крылья стрекоз, шершавая, чешуйчатая кора сосен, красочные тыквы в сетях, лодки, исхлестанные волнами, удушливый дым в мастерской, побитые колымаги, блуждающие огни на вечернем шоссе… наш зеленый поселок, заборы из штакетника, увитые вьюнком, на грядках желтые граммофоны цветов и за ними пупырчатые огурцы, домашний борщ из свеклы с ботвой, хлеб грубого помола… простые люди, размеренная бесхитростная жизнь… Почему все это вспоминается? Что за наваждение?! Так наседает прошлое, и никуда от него не деться! Ведь если живешь прошлым, значит, что-то не так в настоящем, а хочется верить, что и в настоящем все не так уж и плохо.
…Я отправился за этими воспоминаниями, чтобы воссоздать атмосферу того времени, хотел вновь все пережить, осмыслить и навсегда расстаться, чтобы освободиться от прошлого, как бы расчистить свое пространство, чтобы дальше с открытой душой впитывать новые впечатления. Но у меня получается всего лишь ностальгия по прошлому. И ладно б стройная хроника – свидетельство сороковых годов, а то ведь одни метания под натиском воспоминаний, тщетная попытка отправить послание другим людям.
9.
Перебравшись в Москву, я все хотел съездить в детство. Я знал, меня помнят: и друзья, и деревья, и кусты, и камни. По еле различимым, стертым полутонам, по растворившимся, но еще улавливаемым запахам, по отзвукам прежних голосов я хотел восстановить прошлое, почувствовать очистительное воздействие воздуха детства. И вот однажды проездом на Урал остановился в Казани.
Выйдя из трамвая, я пошел в сторону шоссе. Раньше от конечной остановки трамвая до мастерской стояли сосны, а теперь их вырубили и построили двухэтажные дома. Около домов пузырилось сохнущее белье и гоняли в футбол мальчишки. Когда я свернул с дороги, еще не было и девяти часов, но уже припекало. Мне казалось, что идти лугами до мельницы довольно далеко, но расстояние оказалось до смешного ничтожным, преодолел его минут за десять; и раньше в лугах был высокий травостой, а теперь виднелись сплошные вытоптанные «пятаки». Кустарник у мельницы вырубили и уже не слышался шум воды, падающей с плотины – речка пересохла и заросла осокой, а мельница развалилась и осыпалась. Все оказалось маленьким, почти игрушечным. Все, кроме кладбища. Оно порядочно разрослось.
Я пошел мимо крестов и скользких мраморных плит и вдруг услышал лязг лопаты; обернулся и увидел деда Арсения. Я узнал его сразу, хотя он и стал дряхлым старцем.
– Доброго здоровьица, мил человек! – прошепелявил старик на мое приветствие и продолжал ковырять лопатой.
Я напомнил о себе, но старик вдруг забормотал:
– Ничего не помню, мил человек. Ничего не помню.
Он отложил лопату, собрал какие-то щепки и зашагал в сторону дома. Я пошел рядом.
– В общаге, говоришь, жил? Не помню, не помню.
Подойдя к дому, старик присел на крыльцо. Я снова начал ему напоминать, но он неожиданно поднял с земли палку и шустро заспешил в сад.
– Куда, куда, черти проклятые! – закричал. – А ну слазь с забора!
С забора спрыгнули двое мальчишек и скрылись в кустах. Старик повернулся и тяжело дыша снова опустился на крыльцо.
– Весь сад вырублю, ни одного деревца не оставлю этим дармоедам. Только и ждут моей смерти… А я не умру. Назло им не умру. Долго буду жить… Я их всех переживу. Всех! – старик затрясся и замахал палкой в сторону забора.
Около кирпичных домов не было видно ни одного человека. В неподвижном воздухе вились осы. Было до звона тихо. Здесь прошло мое детство, а в памяти остались другие дома, высоченные, с огромными соснами и яркой зеленью, дома, где никогда не было тишины. Все, что казалось значительным, оказалось маленьким, жалким.
На двери дома Вишневских висел замок. Соседи сказали:
– Здесь давно никто не живет.
Я разыскал квартиру той девчушки на велосипеде. Не очень-то надеялся ее увидеть, думал, наверняка она вышла замуж и живет где-нибудь в центре, а то и вообще в другом городе. Но дверь неожиданно открыла она – полная, рыхлая женщина в сарафане. Она, видимо, вышла из-за стола – ее щеки горели, губы блестели от жира. Было что-то знакомое в ее лице, но в расплывшемся теле уже не угадывалась прежняя тонкая девушка. Она протянула руку.
– Здравствуйте, я вас признала.
Когда-то у нее были большие красивые глаза, а теперь стали маленькими, как дробинки. Она даже не пригласила меня в комнату, разговаривала на лестнице. Узнав, зачем я приехал, рассказала о новых домах у шоссе и какой-то фабрике, которая все время коптит. Сказала, что живет хорошо, муж шофер и зарабатывает прилично:
– …На даче террасу новую справили… Клубнику разводим. Очень доходное дело и места мало занимает.
Она хотела еще что-то сказать, но ее окликнули из комнаты:
– Извините, зовут. Все дела. Заезжайте как-нибудь.
Я прошел мастерскую, какую-то пристройку и остановился около общежития – оно тоже оказалось намного меньше, чем то, которое осталось в памяти. Отыскал наше окно… Какие-то занавески полоскал ветер… Вахтерша при входе спросила:
– К кому?
– Да так, просто посмотреть.
– Не положено!
Вызвала коменданта. Тот долго вертел мой паспорт.
– Чего смотреть-то?! – пожал плечами, потом махнул рукой. – Пропусти.
И лестница, и стены, и двери были окрашены в неприятный светло-зеленый белесый цвет. Раньше был теплый, коричневый. На стук за дверью раздался девичий голос:
– Входите!
Одна девушка сидела за столом и причесывалась, другая лежала на кровати и читала. В комнате было три кровати, три тумбочки, на стенах портреты киноактеров.
– Вам кого?
– Никого. Понимаете, в этой комнате я жил во время войны. Хотел просто взглянуть, можно?
– Пожалуйста! – девушка за столом поджала губы и снова взялась за расческу, ее подруга уткнулась в книгу.
Комната оказалась крохотной, и как только мы помещались в ней вчетвером?! Неужели в этой неуютной комнате мы грелись долгими зимними вечерами?! А в том углу стояла деревянная грубо сколоченная кровать отца с матерью? А у стены наши с сестрой, впритык, одна к одной?! Нет, кажется, они стояли иначе. И не в этой комнате. И даже не в этом доме… Что-то защемило сердце, и я поспешил уйти. Я решил поскорее уехать, чтобы оставить все каким помнил.
Медленно брел к остановке трамвая. Было удушливо жарко. «В детство нельзя возвращаться, – подумалось, – нельзя».
Только приехав обратно в Москву, я снова увидел теплую речку в извилинах, общежитие, и мельницу деда Арсения, и Вишню, и тонкую девчушку на велосипеде… Детство – это страна, где никто не стареет и ничто не имеет конца.
Я точно не могу объяснить, почему одни картины детства отложились в памяти вполне зримо, а другие почти стерлись. Но что странно: все они не звучат, не пахнут, в них не ощущается пространства. Я собираю те дни воедино, пытаюсь выстроить из них непрерывную цепь, но звенья никак не соединяются. Я напоминаю коллекционера, который собирает красивых мертвых бабочек и пытается их оживить.
10.
Когда несешься в скором поезде, бывает, за окном мелькнет переезд, будка стрелочника, три-четыре дома под деревьями, стог сена, собака дворняжка и дети, машущие руками. Вот на таком полустанке я жил подростком.
Наш поселок Аметьево был в пыли и листьях, в жару сникала листва, плавился вар на крышах сараев, из досок капала смола, в открытые окна и двери текло испарение цветов. Собаки и куры прятались в тени, а посельчане поливали водой полы для прохлады. Все обволакивала леность, дремота. Иногда тянул ветер и разгонял горячий воздух, потом снова стихало, и начинало парить… Вдалеке прогромыхает гром, набегут тучи, стемнеет, деревья зашумят, рухнет ливень – гулко забарабанит по шиферу. Посмотришь в помутневшее окно – все блестит, точно завернуто в целлофан… А после дождя долго стояла мутная тишина, по размытой дороге плыла трава, сверкали лужи с опрокинутым небом. Появлялось солнце, распускались цветы, и радуга повисала низко – прямо доставай рукой.
Вскоре после войны авиазавод построил несколько одноэтажных каменных домов в двух километрах от города. В один из них переехала наша семья. Дома сдали с недоделками, и мы с отцом неделю цементировали щели в шиферной крыше, засыпали шлаком чердак. Покончив с этой работой, отмерили положенные восемь соток и забили колья, распланировали будущие постройки, при этом отец учил меня «экономить пространство».
– На большом участке каждый развернется, – говорил. – Выжать максимум, используя минимум средств, – вот задача… И все надо делать на совесть. Некоторые прибьют что-нибудь на скорую руку, думают – держится, и ладно. Но, как говорится, ничего нет долговечней временных построек, только в нужный момент они рухнут. Мы все будем делать просто, без всяких красивостей, просто и надежно.
В одном углу чулана отец сложил садовый инструмент, в другом – плотницкий.
– Инструмент не кидай, – поучал меня. – Его надо беречь. И вообще все вещи надо беречь. Ведь их кто-то сделал, вложил труд. Надо уважать чужое ремесло.
В то время в магазинах инструмент появлялся редко (стояли одни лопаты и топоры); тиски, дрель, рубанок мы покупали на толкучке – «барахолке». Вот уж где было множество бесценных вещей! Там продавалось все, что угодно – от подержанных велосипедов и мотоциклов до картин старых мастеров и китайского фарфора, и в избытке всякие самоделки – некоторые с техническим совершенством… До сих пор я люблю «барахолки» – на них и сейчас продаются вещи, которых не найдешь в магазинах. К тому же, на этих рынках особая атмосфера – среди продавцов и покупателей немало людей, умеющих ценить вещи, и встречаются истинные мастера своего дела; каждый раз, разговаривая с этими мастерами, я делаю открытия, набираюсь ценных советов.
Отец любил старые вещи – в свободное время что-то ремонтировал, чинил.
– Старые вещи надежнее, они проверены в деле, – говорил (он и одежду предпочитал подшитую, заштопанную – в новой чувствовал себя «как в скафандре»).
Отец учил меня добропорядочному трудолюбию: копать, экономно расходуя силу, пилить дрова, не изгибая полотно пилы, раскалывать чурбаны вдоль сучьев, укладывать поленья «колодцем», строгать лучины «елкой» и разжигать печь одной спичкой. Где и когда отец приобрел эти навыки, было непонятно. Он одинаково уверенно чувствовал себя и в огородничестве, и в столярных и плотницких работах. У него был наметанный глаз: что-то где-то подметил, запомнил, а потом его руки просто повторяли те движения. Но вот тайна – повторяли ловко, играючи, точно все это проделывали сотни раз. И меня отец учил ремеслам в процессе дела.
С каждым днем все больше обживались на новом месте: ставили сарай, вскапывали огород, закладывали сад; мать посадила в палисаднике сирень и шиповник; отец принес щенка – ощенилась собака при заводской проходной, его назвали Челкашом.
Конечно, провинциалами родители стали поневоле, война поломала их судьбу, обрекла на бездуховную жизнь в захолустье. Они еще вспоминали прошлое, то и дело слышалось:
– А до войны в театрах… А раньше в Москве…
Но повседневные нужды все больше «заземляли» их до бытовых забот, постоянных хлопот о заработках… И все же мать была уверена, что рано или поздно мы вернемся на родину… Понятно, тот, кто не пил кокосовое молоко, и не хочет утолить им жажду, но кто пил… Мать выросла в Москве, там остались ее родные и она не представляла жизни вне столицы, и на Аметьево смотрела, как на «временную уступку обстоятельствам».
Скорые поезда никогда не останавливались на нашем разъезде, только притормаживали и помощник машиниста с подножки локомотива кидал на насыпь «паспорт» – железный обруч и тут же хватал из рук дежурного по разъезду новый «документ». Это были настоящие цирковые трюки.
Пригородные поезда останавливались на разъезде утром и вечером, а товарняки – по несколько раз в день. Мы с поселковым мальчишкой Славкой вскакивали на подножки товарных платформ и проезжали мост, потом тоннель, и в том месте, где колея шла в гору и поезд сбавлял скорость, прыгали под откос и кубарем катились по насыпи, и бежали вниз к Казанке удить рыбу и купаться… А иногда садились на пригородный и уезжали просто так куда-нибудь. Мимо мелькали горячие сосновые боры и прохладные березовые рощи и станции: Каменка, Высокая гора, Бирюли. Случалось, по крышам вагонов с другими безбилетниками скрывались от ревизоров, и тогда машинист притормаживал в тоннеле и поддавал пара – «выкуривал зайцев».
Однажды на крыше вагона разговорились с мальчишкой. Он оказался сиротой – его родители погибли на фронте.
– …Качу на Урал, там можно подработать на стройках подмастерьем, – сообщил этот сорванец. – А на зиму отправлюсь в Среднюю Азию… Там тепло, ночуй где хочешь.
Мы слушали случайного попутчика и сильно завидовали его свободе и совсем взрослому опыту. Наш мир заканчивался пригородами Казани, мир этого мальчишки был безграничен.
Со Славкой на кладбище собирали семена липы, клена и акации; сбор сдавали в приемный пункт, а вырученные деньги складывали в копилки-кошки, хотели накопить на… велосипеды! Кажется, мы не накопили даже на одно колесо, но я помню тот азарт, когда мы трясли ветки клена и с них падая крутились «носики», как обрывали стручки акаций и шарики липы, и кричали друг другу:
– Смотри, сколько на том кусте (или дереве)!
Мы вели себя, как в лесу, без всякого почтения к усопшим, которые взирали на нас с фотографий. Слово «смерть» еще не доходило до нашего сознания; погибнуть геройски – на это мы еще могли согласиться, но просто умереть – ни за что. Мы задерживались только у памятника авиаконструктору Петлякову (создателю самолета «П-2»). На той гранитной плите виднелись осколы – по слухам, в нее стреляли летчики, потому что на «П-2» погибло много их товарищей (будто бы из-за слишком высокой посадочной скорости самолета). По тем же слухам, Петляков решил доказать, что создал отличную машину и сам сел за штурвал, но при посадке разбился.
В жаркие дни со Славкой купались в Шаланге; ныряли под плоты, а вынырнув, забирались на мокрые крутящиеся бревна и бежали по ним к берегу. Однажды я нырнул, а когда стал всплывать, ударился головой о бревно; проплыл еще немного, опять ударился. Открыл глаза – вокруг темнота; захлебываясь, в панике поплыл назад. Уже глотая воду, заметил в стороне светлое пятно – вынырнул в маленьком квадрате среди плотов – два бревна оказались короткими… Я висел на обессиленных руках, чихал и кашлял, и глотал воздух, теплый, сладкий воздух, а надо мной носились ласточки. Денек был – лучше нельзя придумать, а я чуть не утонул, вот так нелепо, случайно.
Мать не знала о моем безалаберном времяпрепровождении; отец догадывался, и всячески пытался приобщить меня к чтению. Особенно классиков.
– Классика вечные, доказанные ценности, – говорил он и кивал на толстые однотомники Пушкина, Гоголя, Куприна, Лескова.
Эти послевоенные издания (большого формата, с желтой газетной бумагой и простыми картонными обложками) стоили дешево и имелись во многих семьях. Надо отметить, что даже в те нелегкие годы русской классике придавалось первостепенное значение, и не только в издании книг – по радио передавали целые спектакли и оперы. Но мне было не до театральных постановок и книг; самую интересную книгу я моментально забрасывал, как только слышал свист приятеля за окном – обыденная реальность меня будоражила больше, чем всякое чтиво и тем более оперы. Лет до двенадцати я читал крайне редко, и рисовал только когда не было более «важных» мальчишеских дел.
Мать всегда была хорошим товарищем, с неподдельной радостной готовностью поддерживала любое наше начинание: с сестрой слушала музыкальные концерты по радио, изучала немецкий язык, вышивала; со мной клеила воздушных змеев, играла в городки и лапту. Зимой каталась с нами на лыжах в аметьевских оврагах, а возвращаясь домой, забирала у нас варежки и подкидывала в воздух, с детской непосредственностью изображала «салют». Она устраивала праздник по каждому, даже самому незначительному, случаю. Немногие это умеют. Большинству все чего-то не хватает, а ей нужно было совсем немного для счастья. Именно это качество – умение быть счастливыми – она и пыталась вселить в нас, давала лекарство на все случаи жизни – свое жизнелюбие, свой оптимизм.
Мать излучала теплоту и бодрость, с ней было интересно, поэтому к ней тянулись люди, шли со своими обидами и горестями. У нее был редкий дар – сопереживать, чувствовать за других, она как бы принимала на себя часть чужих болей, успокаивала, приободряла, вселяла надежду на лучшее.
– Все будет хорошо! – ежедневно убежденно говорила она и улыбалась. Не смеялась, только улыбалась.
После смерти матери я долго хранил ее вещи: пишущую машинку, пяльцы, некоторые вышивки, медальон, брошь, цветные открытки, которые она дарила нам на праздники. Все эти вещи пропали во время моих переездов, скитаний по квартирам. Сохранилась только брошь и несколько любительских фотографий, в основном довоенных, со станции Правда: мать танцует с дядей Ваней, на втором плане – им аплодирует отец; мать держит на руках сестру; обнимает и целует Шарика… Есть фотокарточка, которую сделал я в Аметьево: мать стоит под цветущей яблоней. На всех довоенных снимках мать смеется, на последнем, моем, – только улыбается, да и то как-то печально.








