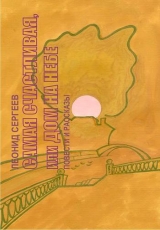
Текст книги "Самая счастливая, или Дом на небе (сборник)"
Автор книги: Леонид Сергеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
Я просто не могу жить без тебя
Если бы все неблаговидные поступки ждала расплата, если бы все проклятия, которые посылают истерзанные души, достигали цели и свершалось возмездие, было бы куда меньше грешников. Быть может, на небесах и существует Великий Суд и грешники получают свое, но на земле, к сожалению, это случается не часто. Иначе как объяснить, что масса подлецов, принесших многим горе и страданье, прожили отпущенное им время припеваючи, купались в счастье до самой смерти?! Дай бог, конечно, чтобы они в аду жарились на сковороде, но хотелось бы, не ради мести, а в назидание другим, и на земле увидеть их наказанье или хотя бы услышать от них покаяние в содеянном. Но все же я знал несколько случаев, когда кое-кого при жизни, прилюдно, настигла кара. В первом случае, правда, всего лишь за порок – невероятную жадность.
В юности я снимал комнату на окраине, где было множество частных домов, среди которых выделялся особняк юриста пенсионера, известного богача и скряги. Этот юрист, плоский, долговязый тип с хищной физиономией, в свое время занимался бракоразводными процессами актеров и за долгую практику скопил приличное состояние. У него имелось немало серебра, драгоценных камней, но больше всего хрусталя – целая коллекция хрустальной посуды, а над столом висела гигантская хрустальная люстра из плафонов-тюльпанов. Отягощенный, скованный богатством, юрист жил неинтересно и замкнуто; ежедневно скрупулезно перебирал сокровища, все что-то подсчитывал, прикидывал, а для чего это делал, было непонятно – наследников у него не было и возраст уже поджимал. Он славился скупостью: никогда не одалживал деньги бедствующим соседям; даже в праздники, когда собирали деньги на подарки почтальону и дворнику, словно в насмешку, выделял сорок копеек. Но однажды, во время тяжелой болезни, сказал врачу:
– Если выздоровлю, устрою пирушку для всех соседей.
Он выздоровел и сдержал слово – видимо, впервые подумал о памяти, которую оставит после себя.
На том застолье побывал и я. Нельзя сказать, что юрист раскошелился – его пирушка выглядела обычным празднеством у людей среднего достатка. Вдобавок, мы пили из обычных стаканов и пользовались алюминиевыми вилками, несмотря на то, что в серванте красовалась батарея хрустальных фужеров и великое множество вилок из мельхиора и серебра. Единственно, чем отличался званный ужин – на стене вдоль стола висело огромное зеркало, в котором бутылки и закуски отражались, множились и производили впечатление стола, ломящегося от яств.
В середине торжества, немного захмелев, хозяин решил сделать широкий жест и под бутылку шампанского достал фужеры. Шампанское решил открыть один из гостей – ближайший сосед юриста, какой-то работяга – то ли плотник, то ли слесарь, добродушный мужик могучего телосложения, с огромными, мозолистыми лапищами, по прозвищу Самосвал. Самосвал возился с бутылкой минут двадцать, но так и не открыл – привык открывать только водку и пиво, а не изысканные напитки. Больше того, корячась с бутылкой, он умудрился задеть локтем хрустальный фужер и тот разлетелся вдребезги. Хозяин, до этого более-менее веселый, моментально помрачнел и обрушил на несчастного Самосвала поток ругани. Все притихли, осмысливая происходящее, кое-кто, поглядывая на дверь, приподнялся из-за стола. Хозяин выхватил шампанское у Самосвала, резко раскачал пробку и она легко поползла наверх. Все замерли в ожидании хлопка. Но хозяин не учел одну существенную деталь – тиская бутылку, работяга своими лапищами изрядно взболтал и нагрел ее. Пробка вылетела точно снаряд и на гостей хлынула струя, посланная, казалось, из брандспойта.
Но самое страшное произошло через несколько секунд, после того, как пробка ударила в люстру: хрустальный исполин закачался и вдруг оглушительно рухнул, засыпав стол осколками. Гости бросились от стола и настолько оцепенели от случившегося, что дали возможность некоторым уцелевшим хрустальным тюльпанам спокойно скатиться со стола и на полу завершить свое существование. Хозяин в полуобморочном состоянии опустился в кресло, а мы, его гости, осторожно ступая по драгоценным осколкам, направились к двери.
Второй случай более поучителен. В двадцать семь лет, после развода с женой, у меня появилась уйма свободного времени и после работы я не вылезал из кафе в Южном порту, благо работал поблизости. Вдобавок, там, в порту, у меня появился приятель со схожей с моей беспощадной судьбой. Его звали Виктор; он работал машинистом на маневровом локомотиве. Виктор развелся на год раньше меня и уже несколько залечил душевную рану.
– Моя жена была не женщина, а черноглазая бестия. Пантера, замаскированная под плюшевую кошку. Только и зыркала на мужиков. Всегда! – рассказывал Виктор. – И много из себя строила, а меня унижала. То, видишь ли, от меня несет соляркой, то вид не тот… затюкала. А сама на мужиков так и зыркала… Надоели ее причуды. Короче, я сказал себе: «Витюня, всегда! Надо давать тягу!»… Теперь живу как надо. Всегда!
«Всегда» было любимым словом Виктора; с разными оттенками, он выражал им абсолютно все.
В кафе мы с Виктором потягивали пиво, вели долгие беседы; прощаясь, я говорил:
– До завтра, Вить!
– Всегда! – бросал мой неунывающий приятель.
Собственно, о Викторе – это предисловие, а история произошла с одним из завсегдатаев кафе. Иногда в том кафе рабочие и железнодорожники устраивали соревнование: кто больше выпьет пива за один присест. Судьей на этих соревнованиях неизменно выступал Матвей, вечно безденежный, придурковатый мужичок, у которого все ощущения были недоразвиты. Среди пивных людей он пользовался некоторой известностью – мог залпом выпить стакан спирта «с огоньком» – этот трюк он частенько устраивал, естественно, когда подносили. Впрочем, у него было еще одно достоинство – он имел историческую память – помнил все довоенные цены крепких напитков. Но как судья Матвей выступал добросовестно и беспристрастно, хотя победитель и без него был ясен – если кто-то один восседал за столом как огурчик, а его соперники падали со стульев.
Матвей работал стрелочником на железнодорожной ветке порта, собирал «стеклянную тару» в кустах «на опохмелку», воровал цветы на кладбище для продажи, при случае мог заняться и другим «мелким бизнесом». Он был прописан в общежитии, но жил у одной широкобедрой упаковщицы. Время от времени он появлялся в общаге и со злостью швырял чемодан в комнату.
– Что выгнала тебя красотка? – усмехались его дружки.
– А то! – мрачно бросал Матвей, но через несколько дней снова упаковывал чемодан.
– Помирились? – интересовались дружки.
– А то! – скалился Матвей.
«А то» он лепил в каждой фразе, к месту и не к месту, и в отличие от многозвучного «всегда» Виктора, лепил с одной и той же интонацией, без всяких вариаций.
С получки, перед тем как идти в кафе на пивное соревнование, железнодорожники устраивали соревнование «на профессионализм»: на ветку лоб в лоб подгоняли два маневровых локомотива и по сигналу Матвея – он и там судил и считал это соревнование главным событием в жизни района – начинали толкать друг друга; побеждал локомотив, который продвигался вперед на метр. Как правило, соревнование выигрывал Виктор со своим помощником – восемнадцатилетним пареньком, за что оба с гордостью носили прозвища Головастых.
Однажды на этих соревнованиях Матвей проштрафился: вначале дал победу Виктору, потом объявил, что его локомотив начал «давить» раньше его сигнала, а под конец вообще брякнул чушь – будто Головастые сыпят под свои колеса песок (я же говорю, у него мозги были набекрень). Головастые, честные мастера своего дела, возмутились; младший заявил, что Матвею «пора в отставку», а Виктор, обращаясь к Матвею, отчеканил:
– Тебя занесло. Больше не суди. Всегда! Так что, бывай!
Матвей оскорбился не на шутку; с горя крепко напился и в общаге учинил «мелкое хулиганство» – разбил оконную раму. К полуночи его «мелкое хулиганство» переросло в большое – о нем рабочие «железки» узнали на следующее утро, когда Матвей явился на работу… в форме майора артиллериста.
– А то! – заносчиво крикнул новоиспеченный офицер.
Рабочие от неожиданности остолбенели. Все, кроме Виктора. Он подошел к «офицеру» и заломил ему руку за спину:
– Пойдем в милицию!
– Как смеешь?! – заорал Матвей.
Оказалось, после мелкого хулиганства Матвей где-то увидел подгулявшего спящего майора и «поменялся» с ним одеждой. Матвей получил десять суток, но на первой же «принудительной работе» в припадке бешенства избил, а потом повесил на дереве бездомного пса-подростка, которого местные алкаши нарекли Мускатом. Это был добродушный кобелек дворняга, и для чего на нем выместил свою придурочную злость Матвей, не поняли даже отпетые воры и портовые бродяги. Вечером того же дня Матвей поплатился за свой садизм – его насмерть сбил грузовик скотовоз, и все это восприняли без особого траура, чуть ли не как должное. Даже поминки устроили слабые – молча опрокинули по стакану водки и все. Только Виктор сказал:
– Пусть, как говорится, земля ему будет пухом. Всегда!
Третий случай, с небольшой натяжкой, можно приплюсовать к первым двум; он произошел с моим личным другом, художником Игорем, который занимал прочное место одного из лучших живописцев, имел отличную жену и в материальном плане был обеспечен как нельзя лучше. И вдруг, в сорок лет, в пик мастерства и семейного благополучия, будучи с женой в Доме творчества «Дубулты», потерял голову от эстонки Ули. Бурный роман проистекал на глазах всех обитателей пансионата и доставил немало страданий жене Игоря и мужу Ули.
Они познакомились на этюдах (Ули тоже была художником). Внешне парочка выглядела крайне необычно: Игорь – невысокий, плотный, лысеющий крепыш и Ули – почти двухметровая, тонкая и пластичная, с зелеными глазами, с копной черных волос. Ко всему, Игорь был выходцем из крестьян Новгородской области, а Ули – из пуританской семьи каких-то шведских королей; ее отец был академик, мать – профессор, и жили они чуть ли не в замке в центре Таллинна. Но, говорят, крайности притягиваются – мой друг сошел с ума от Ули и она влюбилась в него без памяти, как потом говорила, «с первого взгляда».
Надо отметить, что тип женщин, вроде Ули, и раньше волновал Игоря; не случайно на полотнах он изображал высоких темноволосых женщин с зелеными, прямо-таки светящимися глазами – неких колдуний. (Его жена была среднего роста, темноглазая, вполне приятной внешности и отличалась спокойствием и благоразумием). Понятно, что Ули являлась голубой мечтой Игоря. И вот эта мечта стала явью.
Все дни напролет они вдвоем пропадали на этюдах, вечера проводили в кафе, а после его закрытия, гуляли вдоль моря – и все это делали открыто, безбоязненно, без всяких благовидных предлогов, несмотря на бурные скандалы мужа Ули и тихую раздраженность жены Игоря. Их чувства нарастали стремительно – уже через неделю, вызывая кривотолки и пересуды, они, раскаленные от любви, ходили, взявшись за руки, без умолку что-то пересказывали друг другу и смеялись по каждому пустяку. Кончилось это тем, что у жены Игоря случилось нервное расстройство, она собрала вещи и уехала в Москву, а муж Ули в глаза назвал жену «стервой на цыпочках» и «монастырской блудницей», а Игоря «мерзавцем», и быть бы драке, если бы не Ули – она встала между мужчинами и объявила мужу:
– Я люблю этого человека!
– Вот, что значит неповторимость каждого дня, – сказал мне Игорь по возвращении в Москву. – Живешь, работаешь, к чему-то стремишься, а одна встреча, как комета, ворвется в твою жизнь и все изменит. Мы с Улей договорились – подаем на разводы. Через неделю она приедет… Каждый день звонит, «я просто не могу жить без тебя», – говорит… А как художник она сто очков вперед даст мне. И что странно, берется за обыденные вещи и находит в них новые грани, новый смысл. Благодаря ей, до меня дошла простая штука – обыденные вещи, житейские проблемы – неисчерпаемы, бездонны, и чтобы их понять, каждый идет своей дорогой, пусть извилистой, путаной, но при этом масса открытий, а ведь это немалая радость – открывать то, чего не было до тебя… Ули обалденная. Увидишь – закачаешься!
Помнится, я еще усомнился:
– Ну уж! – и, корча из себя матерого волка, изрек: – Красота женщины не только во внешности и всяких талантах, основная красота в легком характере, хорошем настроении…
– Все это в ней есть, – твердо заявил мой друг.
Ули действительно была неотразима: редкой, исключительной красоты, непринужденно-приветливая, она винтообразными движениями танцевала по мастерской (они поселились в мастерской Игоря) и шутливо произносила с небольшим акцентом:
– Какие прекрасные старинные вещи! Какая прекрасная бытовая неустроенность! Я здесь займусь домоводством!
Он подскакивала к Игорю, прижималась к нему всем телом. – Я просто не могу жить без тебя! – и кивала на чемодан: – Это пока наше частичное объединение. Я отправила сюда два контейнера вещей!
У нее был проникновенный голос; она говорила предельно искренне, без всякой позы и кокетства, что свидетельствовало о внутренней гармонии и уверенности в себе. Рядом с ней и Игорь преобразился: обычно замкнутый, весь в себе, теперь был – сама раскованность, душа нараспашку. Их внешняя несхожесть особенно подчеркивала индивидуальность каждого.
А в том, что у них общие взгляды на искусство, я убедился, когда они рассматривали работы Игоря. Они понимали друг друга с полуслова, он начинал фразу и тут же смолкал – дальше его мысль развивала она. В разговоре они многое пропускали, до меня долетали только отдельные слова, но это доказывало – в искусстве они полные единомышленники.
– Я сразу была очарована живописью Игоря, – откровенно призналась мне Ули. – В Дубултах у многих получались скверные работы, они по натуре не художники – пишут, но у них нет своего отношения к тому, что делают. У них не живопись, а почеркуши. Не разберешь чья работа, если внизу нет фамилии… Изобразительная манера не просто форма, это образ мышления… А у Игоря работы самобытные… Он русский Ван Гог…
Все друзья Игоря были в восторге от Ули, все с нетерпением ждали их свадьбы, но через неделю я заметил – Игорь внезапно вновь замкнулся в себе, на его лице появилось выражение каких-то мучений.
– Не знаю, как жена будет без меня, – говорил мне. – Как-то все взбаламутилось в моей жизни…
Он говорил расплывчато и я понял – он попросту трусит сделать последний шаг.
– О чем ты думал раньше? – сказал я.
– Ни о чем не думал. Потерял голову.
– А теперь поздно, поезд ушел. Замахнулся, так бей! – Я уже начинал возмущаться.
– Так-то так, но понимаешь, мы с женой прожили пятнадцать лет и вот так, все в миг разорвать. Жена звонила, говорит – без меня не сможет, все простит… Она вне себя, боюсь что-нибудь натворит… С Ули ведь – это вспышка, а как все будет дальше? А с женой все прочно… Конечно, последние годы мы живем по привычке, как брат с сестрой… Потом, понимаешь, там, у моря, все было романтично, а здесь уже как-то не так… Я запутался в своих чувствах, не могу разобраться, люблю ее или это просто сильное увлечение… Ули-то подала на развод. Для нее это невероятный поступок. Перед ней я, конечно, буду выглядеть негодяем.
– Ты что, уже решил? – удивился я.
Игорь глубоко вздохнул.
– Не знаю, что и делать.
Ули почувствовала перемену в Игоре, ее взгляд стал тревожным, слова сбивчивы; растерянность, гримасы боли то и дело появлялись на ее лице. Она нервничала, выясняла причину подавленности своего избранника, взволнованно спрашивала:
– Я что-то делаю не так?
Он отнекивался, невнятно бурчал, что «злится на самого себя». Она отчаянно пыталась его взбодрить, но он мрачно сопел и ссылался на плохое самочувствие.
Наконец, Ули все поняла и ее самолюбие взяло верх над любовью. Она стойко перенесла страшный удар.
– Ты поставил меня в унизительное положение, – сказала дрогнувшим голосом. – Я уезжаю… Я знаю, в Таллинне надо мной все будут смеяться. Ну и пусть… Ты поступил ужасно – не сдержал слово. Так не поступают благородные мужчины, – она вымученно, горько улыбнулась, чтобы не разрыдаться.
Она уехала из Москвы, даже забыв про контейнеры с вещами.
– Вот квитанции на контейнеры, – сказал мне Игорь. – Съезди на вокзал, отправь их обратно. Я сам не могу. Нет сил…
Я взял квитанции.
– Ты поступил подло, Игорь.
– Я знаю. Прости меня, если можешь…
Я-то простил, но судьба не простила.
Прежняя прочность в семье дала трещину. Жена не показывала вида, но про себя запрезирала Игоря.
– Это было не увлечение, а предательство, – сказала как-то мне.
Друзья Игоря стали относиться к нему прохладно, а некоторые и убийственно-насмешливо, известное дело – то, что люди прощают себе, не всегда прощают другим. Собственно, и я простить-то Игоря простил, но перестал его уважать.
И в быту у него все пошло наперекосяк: в квартире случился пожар, к счастью, небольшой и его во время потушили, в мастерскую залезли бомжи и унесли несколько ценных вещей. Но главное, прощальная горькая беспощадная улыбка Ули, как заклятье, лишила Игоря покоя и душевного равновесия.
И уж совсем трагично сложился его дальнейший творческий путь: в нем началось перерождение – он резко сдал как художник, от его самобытности ничего не осталось.
– Во мне идет борьба, – оправдывался он. – Схватка с самим собой. Я что-то потерял… Что-то важное… Свое восприятие жизни, что ли.
Вскоре он вообще забросил живопись, стал делать макеты журналов, писать шрифты… Если и делал работу для души, то выходило что-то безликое, «почеркуши», как сказала бы Ули.
Стакан газировки в жаркий день
Она пришла на вокзал взволнованная; придерживая сумку, перекинутую через плечо, решительно поднялась на перрон и стала нетерпеливо высматривать его среди стоящих у электропоезда; увидела, что он издали машет рукой, подбежала… Они взялись за руки и некоторое время растерянно смотрели друг на друга.
– Какой сегодня необычно жаркий день, – запрокинув голову проговорила она. – Надо же, только середина мая – и уже такая теплынь!
– Да, с погодой нам повезло. Трудно поверить, что еще недавно стояли холода, – он достал сигареты, закурил.
– И как приятно после зимы скинуть тяжелые одежды, – совсем по-женски сказала она.
Обнявшись, они направились к головному вагону, и ощущение еще неизведанного счастья все больше наполняло их радостью, приводило в такое острое возбуждение, что пассажиры почтительно расступались перед ними, как перед чудаками с симптомами какой-то непонятной болезни.
В вагоне они сели на солнечную сторону около раскрытого окна, в которое тянула мощная горячая воздушная струя.
– Сегодня я волновалась как девчонка, которая идет на первое свиданье, – с обезоруживающей искренностью призналась она.
И эти простые слова сразу подействовали на него успокаивающе. Ему стало приятно, что она, такая маленькая хрупкая женщина, утратив страх и осторожность, совершила ради него, почти незнакомого мужчины, смелый неблагоразумный поступок, доверилась ему, и от этого доверия ему хотелось быть с ней особенно внимательным и чутким, сделать предстоящее романтическое приключение красивым.
Между ними давно существовало некое связующее звено: они встречались два раза в неделю в клубе, где он вел детскую изостудию, а она преподавала детям хореографию. Они занимались в одном и том же зале: она – с полудня, он – двумя часами позднее. Обычно он приходил в клуб раньше времени, чтобы приготовить к занятиям мольберты, и заставал ее с ученицами. Он останавливался в двери и наблюдал за ней. Ему нравилось ее изящество, ее аккуратная гладкая прическа и светлые, чуть туманные глаза. Она была женщиной с хорошим вкусом, какой-то особенной женщиной, у которой с годами красота и обаяние перешли в новую, более совершенную форму, придавшую ей дополнительную привлекательность. Он знал, что она бывшая танцовщица, и догадывался, что ее работа в клубе за небольшой оклад вызвана какой-то семейной необходимостью, но, увидев, с какой увлеченностью она рассказывает ученицам о балете, как самозабвенно танцует с ними, подумал, что она, как и он, занималась бы с детьми, даже если бы ей ничего не платили.
Случалось, заметив, что он смотрит на нее, она останавливалась и в замешательстве смолкала. Потом порывисто, но без всякой театральной манерности, бесшумно и пластично подходила к двери и мягко, с некоторым стеснением, спрашивала:
– Мы вас задерживаем? Извините, мы сейчас закончим.
– Нет, нет, что вы, – торопливо отзывался он. – Мне просто интересно посмотреть.
«Она тонкая, восприимчивая женщина, – думал он. – А застенчивость выдает ее душевную чистоту. Да, собственно, все это читается на ее лице – хорошее в людях всегда проступает на лице. Как, впрочем, и плохое».
Иногда, отпустив учениц, она брала в буфете чашку кофе, садилась за столик и через открытую дверь в зале наблюдала, как он проводит занятия. Она слышала его спокойный, ровный голос, видела, как он терпеливо и вдумчиво поправляет работы учеников и при этом ненавязчиво, с юмором, открывает им тайны живописного ремесла. Она видела, с какой влюбленностью ребята смотрят на своего учителя, и ловила себя на том, что и сама к нему неравнодушна.
Он казался ей необыкновенным человеком, необыкновенным во взглядах на живопись, в словах и жестах, в манере говорить. К тому же, она была уверена – мужчина, работающий с детьми, имеет доброе сердце. Она слышала, что он иллюстрирует книги, и представляла его значительным художником.
Однажды, увидев, что она пьет кофе, он вышел из зала и подошел к ее столику:
– Мы с вами учим детей, а почему бы нам и друг друга не поучить. Давайте я научу вас рисовать, а вы меня – танцевать.
Уловив в его словах легко разгадываемый смысл – желание познакомиться, она тем не менее ответила без всякого притворства:
– Давайте.
Ответила с улыбкой, точно давно ждала этого предложения.
– Я научу вас быстрее, поскольку совершенно бездарен в танцах.
– А я никогда не держала карандаш, так что у нас будет отличное сотрудничество.
Они рассмеялись.
– Я много слышал о вас от учеников. Кое-кто из них до изостудии ходит к вам на танцы.
– Да, я знаю. Они мне тоже говорили о вас. Они вас очень любят. Вы умеете заинтересовать, увлечь ребят. И как вам это удается? – она вопросительно вскинула глаза и немного подалась вперед.
– По-моему, у вас это лучше получается. Я заметил, с каким старанием девчонки копируют ваши движения. Когда вы танцуете, даже я невольно начинаю двигаться… Тогда кажется – вы живете на облаках.
– Нет, я очень земная, – она качнула головой и немного смутилась от такого откровения; потом поспешно заговорила об ученицах: – У меня есть две очень талантливые девочки, и как жаль, что здесь у нас всего лишь любительская студия.
– У меня целое созвездие талантов, – шутливо провозгласил он. – Дети все талантливые, только по мере взросления эти таланты куда-то улетучиваются.
– Нет, нет, правда. Девочки удивительно талантливые. Такие музыкальные, впечатлительные, с прекрасными данными, прямо-таки прирожденные танцовщицы.
– Вот это и есть самое интересное в нашей работе – выявить и развить то, что заложено в ребенке, то, к чему он имеет явную склонность, – рассудительно сказал он. – Ну и конечно, воспитать вкус, помочь ребенку почувствовать радость открытия.
Она слушала внимательно, и улыбка не сходила с ее лица, и он видел в этой улыбке понимание.
Через неделю, в день зарплаты, они встретились в бухгалтерии и потом вместе вышли из клуба. Весна была в самом разгаре, она наступила внезапно, с бешеной взрывной энергией, – казалось, происходило настоящее крушение всего, что прочно устоялось за зиму.
– Какая чудная погода! – ликующим голосом сказала она.
– Да, замечательная, – согласился он и вдруг выпалил одним духом: – А не поехать ли нам на днях за город? У моего приятеля есть дача в Мичуринце. Он живет там только летом, а сейчас дал бы мне ключи, – он посмотрел ей прямо в глаза.
Она не удивилась, только ее улыбка чуть дрогнула от выбранной им скорости. На секунду ее лицо стало серьезным, но она пересилила себя, снова улыбнулась и твердо сказала:
– Поедем!
– Когда вы сможете? Например, в субботу сможете? Дня на два-три?
– Смогу, – она кивнула и покраснела, устыдившись собственной смелости.
Потом, как бы оправдываясь перед собой, сказала:
– Я всю жизнь делала то, что нужно, часто даже против своей воли. Разочек я могу устроить себе праздник, поступить так, как хочется.
Они уехали из города почти бессознательно, забросив все дела, не предупредив домашних, без всяких предосторожностей, забыв о приличиях и границах дозволенного, заранее принимая все обвинения и усмешки. И чем дальше состав удалялся от города, тем на большее расстояние отбрасывались все их заботы. Они ощущали себя пленниками, внезапно получившими свободу.
День был безоблачный и жаркий, – казалось, сама природа благословляла их на бездумный и счастливый отдых. Выйдя из вагона на платформу, они очутились в сверкающем свете – и станция, и поселок были залиты солнцем… Электропоезд скрылся за поворотом, и наступила тишина, только в верхушках деревьев слышался бойкий говор птиц, а внизу, вдоль платформы, звонко журчал ручей.
– Господи, как здесь красиво! – воскликнула она, пронизанная восторгом. – И какой чистый воздух!
– Да, наконец-то мы выбрались из города, – он шумно вздохнул, в полной мере ощущая всю накопившуюся ностальгию по природе.
Они пошли мимо дач с цветущими фруктовыми деревьями, вокруг которых вились осы, миновали какие-то беседки, клумбы, скамейки и очутились около запущенного участка, на котором стоял щитовой летний дом с застекленной террасой.
В доме имелись маленькая прихожая с газовой плитой и рукомойником и большая светлая комната, так сильно пропитанная солнцем, что казалась наполненной золотистым древесным настоем. В комнате была чистота и порядок: на столе – отглаженная скатерть, в углу – шкаф с книгами, около которого стояла корзина с прошлогодними, но еще довольно упругими и ароматными яблоками, у стены – аккуратно застеленная тахта.
– Какой пахучий дом! – зажмурившись и принюхиваясь, она раскинула руки, протанцевала через всю комнату и устало присела на тахту.
– И как здесь спокойно! – проговорил он, распахивая створки окна в цветущие кусты.
Они приготовили обед и отметили свой приезд чаепитием с яблоками. Только теперь они поняли, как истосковались по природе, как хотели пожить без разного рода ограничений, уединенно, вдвоем. С каждой минутой они все больше открывали друг в друге общее, и их смутное влечение все явственней переходило во влюбленность. Они еще не могли смотреть на свои отношения отстраненно, осмыслить счастливую естественность всего происходящего, поскольку сиюминутное счастье трудно оценить; пока они считали свое уединение всего лишь некой компенсацией за годы безотрадной повседневности.
Вечером к ним заглянул сосед, который до этого хлопотал вокруг своего дома и с повышенным интересом наблюдал за вновь прибывшими. Это был пожилой мужчина с гримасой недовольства на лице. Познакомившись, он тут же выложил все поселковые новости и пожаловался на прогнившую за зиму крышу и покосившийся забор. Он начал было рассказывать о каких-то застройщиках стяжателях, но, заметив отрешенные улыбающиеся лица, смолк и сам почувствовал нелепость подобной болтовни. На минуту, заразившись чужой радостью, он захотел сгладить произведенное впечатление: доверительно сообщил о количестве заготовленных солений и пригласил опробовать их.
– Спасибо, – поблагодарила она.
– Как-нибудь в другой раз, – заключил ее спутник с выражением легкой иронии.
Когда сосед ушел, они решили прогуляться по поселку. Он обнял ее за плечи, и, весело переговариваясь, они направились в сторону станции.
Они шли, раскачиваясь в такт шагам, и смеялись по каждому пустяку; они светились радостью и, казалось, одним своим видом высвечивают уже темнеющие проулки. Эта откровенная радость разносилась невидимым ветром и невольно передавалась другим: завидев их дачники в садах приостанавливали работу и начинали улыбаться; подростки, гонявшие на велосипедах, оборачивались и прищелкивали языками; а одна старушка, посчитав их молодоженами, подозвала и предложила взять кактус, который, по ее словам, цветет только в счастливых домах.
– Берите, берите, – повторяла она, видя их нерешительность.
Так, с горшком в руках, они и гуляли дальше. Около станции в одном палисаднике услышали шорохи и заметили – из-за шиповника со жгучим любопытством за ними следят две рыжие девчонки – по виду сестры. Поедая парочку глазами, сестры шушукались и хихикали.
– Видали подарок?! – сказал он, кивая на горшок с кактусом.
Старшая девчонка смутилась, присела на корточки и стала что-то перебирать на земле, а младшая заявила:
– А мы подобрали птицу. У нее перебито крыло. Сейчас принесу.
Она побежала к дому и вернулась с картонной коробкой, в которой на травяной подстилке лежал скворец с неестественно оттопыренным крылом.
– Господи, какое злодейство! – проронила она.
– Какой-то мальчишка-дуралей, – пояснил он и обратился к девчонкам: – Давайте мы его возьмем, попробуем подлечить.
– Пожалуйста, берите.
Дома они осторожно ощупали крыло скворца и пришли к выводу, что оно не перебито, а сильно ушиблено, но все же смазали его йодом и, расправив перья, прижали к тельцу птицы. Потом накрошили в коробку хлебных крошек и поставили блюдце с водой.
Перед сном они некоторое время сидели на ступенях террасы и, вдыхая теплый ночной воздух с запахами цветений, смотрели на зеленоватый полумрак кустов, сквозь которые тускло блестели станционные фонари. Он испытывал радость – чего еще желать? – сидит рядом с красивой умной женщиной у порога уютной обители, никуда не спешит и его совершенно не преследуют суетливые городские картины. Она на мгновенье задумчиво притихла, но когда он спросил: «Взгрустнулось? Что-нибудь дома?», вцепилась в его локоть.
– Нет, нет, все хорошо, – на ее лице появилась прежняя улыбка. – С вами мне легко, – она провела ладонью по его руке.
Они проснулись от утреннего солнца и птичьего щебетанья. Вся комната была освещена желтым светом. Скворец, выскочив из коробки, в сильном возбуждении бегал по столу, подпрыгивал, махал крыльями и громко кричал, но все-таки из-за ушибленного крыла взлететь не мог. Он был очень красив: черный со светлыми крапинками, длинноногий, длинноклювый, с глазами – крупными бусинами.
Когда они встали, скворец начал трогательно прихорашиваться: попеременно вытягивал крылья и клювом расправлял перья.
– Кажется, он поправляется, – с сияющим лицом сказала она, – этот свидетель нашего грехопадения.








