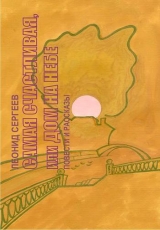
Текст книги "Самая счастливая, или Дом на небе (сборник)"
Автор книги: Леонид Сергеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 33 страниц)
Леонид Сергеев
Чтобы писать о детстве, надо иметь более или менее безошибочный слух на детскую психологию. Слух этот не всем дан, он – особенность духовной памяти данного человека. Есть люди, для которых детство – как первая любовь, она всю жизнь какими-то живительными ключами болей и радостей питает их душу. Есть люди, для которых и детство и первая любовь проходят, как возрастные болезни, о которых потом никак не могут вспомнить, были они или нет. Более того, есть люди, для которых вообще никогда не бывало первой любви и – даже второй, они сразу начали жить с третьей. Это вполне достойные люди, при одном условии, что они никогда не будут пытаться писать о детстве.
Леонид Сергеев помнит детство, у него есть этот слух и, следовательно, его резервуар неисчерпаем. Повесть «Оглянись…» – тому подтверждение, она захватывает читателя своей интонацией, искренностью, ностальгией по ушедшему времени.
Ф. Искандер
Большое удовольствие получаешь, читая эту упругую художественную прозу. Повести цементирует точно найденная авторская интонация, из мастерски выписанных деталей создается привлекательный образ лирического героя – человека доброго, наблюдательного, жизнелюбивого. Признаюсь, последнее время многие произведения наших авторов не вызывают у меня никакого интереса. Повести Л. Сергеева – приятное исключение.
Л. Ленч
Одно из определяющих качеств характера Леонида Сергеева – самокритичность. Быть может потому, что Л. Сергеев художник, он и в писательстве неукоснительно верен натуре. Его рассказы отличаются живописностью и лиризмом.
И. Мотяшов
Перед нами добротная русская проза, произведения, отмеченные печатью таланта несомненного и очевидного. При чтении прозы Л. Сергеева как-то особенно чувствуется глубинная авторская тревога, ощущение своей обязанности, своего долга перед той жизнью, теми судьбами, которые он воссоздает. Жаль, что такой самобытный прозаик мало известен широкому читателю.
В. Сурганов
Повести
Оглянись…
То есть посмотри назад, вспомни свое детство и юность. Это рассказы – размышления, прощания… Автор не знает, как лучше их назвать: «Широкий ромашковый луг», или «До свидания, Аметьево!», или «Прощание с друзьями». Пусть читатель сам выберет, что ему больше нравится.
1.
Там, где прошло мое детство, было два неба: одно над головой, другое под ногами – там столько росло колокольчиков, что рябило в глазах от синевы. А какой там был воздух! С запахами цветов и свежескошенной травы, и зеленых бархатных мхов, и выбитых троп, и древесины, и овощей с огородов… А то утреннее солнце! Вокруг поселка стеной стоял лес, но мы просыпались от солнца. Оно горячими струями просачивалось сквозь ветви, просеивалось сквозь листву и, затопив весь лес, водопадом обрушивалось на поселок. Оно пробивало стекла, золотило мебель, наливало свет в корыта и ведра. В памяти подмосковная станция Правда – бесконечное лето, сплошные желтые дни, беспечные, емкие, насыщенные жизнью. С той станции идет отсчет моего времени.
Я часто вижу отца и мать: они, точно дети, на корточках играют под новогодней елкой, перебирают елочные игрушки, показывают их друг другу, шушукаются, хихикают… Оттуда, с неба, здесь, на земле, все кажется играми: белые – красные, левые – правые, и у тех и других свои идолы, знамена, значки – копошатся люди на шарике, все не могут что-то поделить, найти места для счастья; и вечно у них, неугомонных, зависть, раздоры, обиды. На небесах легко потешаться над житейской всячиной, а попробуй здесь…
Вот стоят передо мной: кустарник в блестках паутины… ручей, полный гладких камней, песчинок и ракушек… стебли, розетки и чашки цветов… и среди плывучего зыбкого разнотравья – лица матери и отца. Все застыло: птицы в воздухе, мальки в ручье, не колышутся травы и шиповник перед домом… Отец в «нарукавниках» склонился над чертежами, во рту папироса, повисла спираль дыма, в руке карандаш, отточенный «лопаткой». А мать, русоволосая, голубоглазая, смеется, запрокинув голову, звонким, чарующим смехом, смеется долго, до слез… От ее смеха сотрясался воздух, дребезжали стекла окон и посуда в шкафу, и было в этом веселье какое-то неприкрытое осмеяние повседневной суеты. Все так и замерло: взметнувшиеся волосы, белозубый рот, завихрения воздуха…
Ни отца ни мать не помню без дела. Отец по утрам, перед тем, как ехать на завод, окучивал и поливал овощи в огороде, а по вечерам работал за «домашним кульманом» (чертежной доской на стопке книг). Он работал даже во сне – бывало, ночью вставал и что-то зарисовывал, записывал…
Руки матери всегда были горячими или влажными: то, смахивая капли пота, она колготилась у плиты, у брызжущей маслом сковороды, то стирала белье в корыте, сдувая волосы, падающие на лоб, и всегда пела – негромко, для себя… Ее пение смолкало только когда она делала форматки на отцовских чертежах или печатала на пишущей машинке…
И отец и мать уже давно в другом мире. Только и осталось от них – отцовские очки, круглые, с перевязанной дужкой да простая брошь матери. Родителей я, грешник, и «Там» не встречу; отец был слишком честен и откровенен для своего лицемерного времени, а мать, по всеобщему признанию, – почти святой.
Отец работал инженером на авиационном заводе. Мать за свою жизнь перебрала множество профессий: во время войны работала на хлебозаводе, в столовой, чертежницей, позднее – проводницей поездов, машинисткой-стенографисткой, киоскером… Я нарочно вначале о них. Ведь в сущности все мы листья одного дерева, звенья в цепи наложений сотен тканей; нам передаются эстафетные палочки наследственности, прошедшие не одну сотню лет. Короче, всякое настоящее – продолжение прошлого.
До войны мы жили в многонаселенной коммуналке у Красных ворот, но летом сорокового года на станции Правда авиационный завод построил двустенные засыпные дома, которые предложили живущим в стесненных условиях. Отец не раздумывая согласился, посчитав, что ему удивительно повезло, хотя ясно – пятнадцатиметровая комната за сорок километров от города не лучше десятиметровой в районе Садового кольца.
В поселке все спали на открытом воздухе, на сеновалах и чердаках, а мы укладывались в саду – стелили матрацы на траве перед домом и, засыпая в душистой траве, смотрели на падающие звезды, слушали стрекотание кузнечиков, кукушку в лесу, голоса в ближней деревне и гудки вечерних поездов. А просыпались от солнца, под высокими клубящимися облаками, когда уже во всю заливались птицы и пес Шарик лаял в уши, стаскивал с нас одеяла… Родителей уже не было. Отец утренней электричкой уезжал на работу в Москву, мать – в Пушкино в магазин и на рынок.
…Так получилось, но только в раннем детстве я просыпался от птичьих голосов; в дальнейшем – от грохота поездов, скрежета и лязга трамваев, а теперь – от болей и тревожных снов.
Нам с сестрой повезло – мы были предоставлены самим себе… Увязистая бузина, липкий желтый сок, красно-зеленые овощи на грядках, высокие спутанные травы, горячий пышный слой пыли на дороге, шпанские мухи с металлическим блеском, шмели, гусеницы, стрекозы… и бахрома тины в канавах, и серебристые жуки, разбегающиеся из-под камней, точно шарики ртути, – вот что нас окружало. Мы ловили марлей мальков в запруде, срывали бело-розовые граммофоны вьюна и пускали их, как маленькие парашюты… А на опушке, под раскаленными соснами, среди ржавой хвои собирали землянику, ловили ежей. И подкармливали белок, бегавших прямо у домов, и возились с собаками и кошками – устраивали бесхитростные игры и, как все земные существа, через игру познавали мир.
По утрам из деревни Тишково приходила молочница Аграфена, приносила в бидоне холодное молоко и горячий круглый хлеб. Как-то зашел муж молочницы дядя Вася.
– Вот что, Анатолий, тебе скажу, – начал он громовым голосом. – Я, пожалуй, твоих детей, этих белоручек, приобщу к труду. Не возражаешь?
Подмигнул отцу, посмотрел на нас с сестрой, преувеличенно строго нахмурился.
– Нет, конечно, – отозвался отец. – Пусть немного поработают.
– Ну и добро! Завтра утречком за ними Гришка и забежит. Я их, благородных, с тонкими пальцами, к труду приучу! – дядя Вася погладил сестру по голове, меня шлепнул по плечу, отцу вновь подмигнул.
Дядя Вася сделал нам грабли по росту, и вместе с его сыновьями, нашими сверстниками, мы ходили в луга. Первую половину дня ворошили скошенную траву, чтобы лучше просыхала, после обеда сгребали сено в валки. Было жарко, и ноги кололи ломкие, пересохшие стебли, грабли зарывались в землю или пролетали мимо травы по воздуху; все чаще то сестра, то я садились на землю и отдыхали. Дядя Вася посмеивался:
– Притомились с непривычки. Ничего! Я вас, благородных, с тонкими пальцами…
Его сыновья сгребали сено как заведенные. Стоило кому-нибудь из них остановиться и смахнуть пот, тут же слышался громовой голос:
– Не отлынивай, Гришка!
– Ну и лоботряс ты, Митька!
– Хватит бездельничать, Петька!
За ужином дядя Вася хвалил нас с сестрой, особенно сестру (он давно хотел иметь дочку); похвалив нас, распекал сыновей:
– Вот лодыри, так лодыри. Только б им груши сбивать! – и дальше, в форме воспитательной лекции, говорил о пользе крестьянского труда.
После ужина дядя Вася отвозил нас на телеге в поселок. Первые дни мы валились с ног от усталости: болела сожженная солнцем кожа и ныли ссадины; постепенно привыкли – сами вскакивали чуть свет. Напьемся молока с хлебом и в луга.
Вскоре у дяди Васи и Аграфены все-таки появилась дочка. В то время девчонка выглядела некрасивой пучеглазой, но родители не могли на нее нарадоваться; когда она возвращалась из школы, встречали с букетом цветов и называли «наша красавица».
Аграфена плела потрясающие кружевные покрывала на подушки – крючком из простых белых ниток вязала полотна легкой витиеватой вязи. Мать и другие женщины в поселке покупали ее шедевры. Позднее, в эвакуации, за эти покрывала мать получила в деревне целый рюкзак продуктов.
По воскресеньям приезжали родственники (с бутылками вина, закусками и конфетами «раковые шейки» для нас, детей). Мать пекла пироги, складывала в корзину, отец взваливал на плечи самовар, брали патефон, гитару и отправлялись на озера в Тишково. Располагались на пропитанной солнцем поляне, шишками разжигали самовар… На природе все было вкуснее: примешивались запахи леса и озера… Купались, слушали пластинки, играли на гитаре, пели песни Козина, Лещенко, Вертинского, Руслановой.
Мой дед, высоченный здоровяк, выпьет, но не захмелеет, не обмякнет, не развалится, только покраснеет немного. Откинется – огромный, плечи развернуты, в холщовой рубахе – наберет воздух в широкую вместительную грудь:
– Ну-с, кого побороть?
Он не мог без борьбы. Вся его жизнь была борьбой. За лучшую долю семьи, за справедливость… Обхватит отца, поднимет в воздух и плюхнет на землю, потом перекидает своих сыновей:
– Слабаки! Что с вас взять-то?! – тихо выругается, перекрестится и попросит прощения у Бога.
Дед работал «почтарем»: начинал с почтальона, закончил начальником почты. Бабка всю жизнь проработала ткачихой на фабрике «Красная Роза». Оба верили в Бога и постоянно твердили матери, что меня с сестрой надо окрестить. Дед считал, что религия воспитывает совесть, зовет к добру, изначальным человеческим ценностям, что это не только вера, но и свод правил поведения, и что вообще нация без религии – безнравственный народ.
В начале войны дед послал письмо брату в Белоруссию, что «в Москве с продуктами плохо», после чего его вызвали на Лубянку и продержали два месяца. Он вернулся весь седой, собрал родню, выкинул иконы и публично отрекся от Бога.
Чаще всех на Правду приезжал друг отца инженер дядя Ваня, веселяга, остроумный насмешник. Он не входил в наш дом, а врывался, не уходил, а исчезал, пропахший хвоей, листвой или дождем, загорелый и улыбающийся, стриженый «бобриком», и непременно с цветком в кармане рубашки.
– Привет, осажденным семейными заботами! – кричал с порога. – А у меня нет ни жены, ни дома, зато полно приключений. У одиноких всегда полно приключений!..
И он рассказывал какое-нибудь происшествие, которое произошло с ним накануне или прямо сейчас по пути от станции… А потом самым серьезнейшим образом рассматривал мои рисунки, делал замечания, обозначал то, что я «просто обязан нарисовать», особо упирая на «живописные предметы» в поселке. В воскресенье с утра я всматривался в дорогу, а завидев дядю Ваню, мчал навстречу. И он ко мне спешил, махал рукой, кричал приветствие. Мы налетали друг на друга и обнимались. И возвращались к станции и пили до икоты газировку.
– Еще по стаканчику! – смеялся дядя Ваня. – Гулять так гулять! Но, бесспорно, здесь надо знать меру. Художнику на полный желудок скверно работается.
Как-то я нарисовал террасу, бочоночный круг, метлу из ореховых прутьев – больше не знаю, что рисовать.
– А что будет, когда вырасту? – поделился с дядей Ваней. – Все уже нарисуют, и мне ничего не останется.
– Ты что говоришь?! Ну, пусть нарисуют ваши дома, дорогу, электричку… Как бы охватят эти темы. А цветы чьи? А леса?! Забирай все! И небо в придачу. И рисуй! И пусть другие рисуют. Не жадничай, на тебя это совсем не похоже! Всем всего хватит, тут и говорить нечего…
«В самом деле хватит, – думал я позднее, вспоминая дядю Ваню, – ведь каждый открывает мир заново и видит его по-своему, по-новому, вбирает в себя то, что ему близко по наклонностям. И природа ни в чем не повторяется, каждая травинка отличается от другой, каждый цветок, каждая пчела».
Только однажды дядя Ваня меня расстроил. Уже ползли слухи о войне и, проявляя жгучее беспокойство, я привел в боевую готовность деревянное оружие, наделал глиняных гранат.
– Дядь Вань! А правда война будет?
– Если будет, я сразу удочки в охапку и в тайгу. Пережду заваруху где-нибудь у реки… А то еще кокнут, – он надул щеки и запыхтел, как бы раздувая свой позор.
Эх, дядька Ванька! Сильно я тебя ненавидел в те минуты! И презирал, называя «трусом», а ты нарочито серьезно оправдывался, ссылался на болезни, изображал хромоту… Где ж мне было знать, что ты одним из первых, не дожидаясь повестки, придешь в военкомат и уедешь на фронт, и в первые же дни войны сгоришь в танке где-то между Полоцком и Минском… Первая моя боль! Первая отметина на мальчишеском сердце… А сколько болей у отца? Сколько его друзей ушло на фронт, и ни один не вернулся!
Странно, дальнейшее, после Правды, – эвакуация и окраина Казани для меня – заброшенности, картины за пыльным стеклом… чтобы их рассмотреть, я стираю пыль, всматриваюсь, но они все равно год от года тускнеют, искажаются, покрываются защитной пленкой, непроницаемым занавесом, только станция Правда смотрится целостно и емко – тот короткий ослепительно радужный мир детства. Те дни – словно прохладная родниковая вода, которой никак не напьешься.
2.
Для меня война началась, когда мы играли посреди поселка, и внезапно в небе появились самолеты с крестами; один завалился на крыло, вошел в пике, послышался нарастающий гул. Самолет низко пролетел над поселком и дал очередь из пулемета. Помню, в те дни в воздухе все время чувствовалась тревога; тревожно шумели деревья и тревожно кричали птицы, тревожно сигналили поезда; в смятении люди собирали пожитки и спешили к платформе, и чуть ли не дрались за возможность поставить ногу на подножку…
В поселок приехали грузовики. Первую машину перехватили Смеяцкие, пообещав шоферу «дополнительную плату»; погрузились и укатили, ни с кем не попрощавшись. Смеяцкие жили по ту сторону шлаковой дороги в доме лесника. Глава семьи, по прозвищу «денежный мешок» (он копил золотые украшения «на черный день»), работал на заводе снабженцем. Его жена и дети с утра до вечера собирали в лесу грибы, ягоды, орехи.
– Одних грибов продали десять ведер, – хвасталась Смеяцкая.
Они были хозяйственные, бережливые, у них ничего не пропадало – все шло в дело. Дети Смеяцких бегали к поездам – продавали колокольчики.
В тот же день прибыли еще две машины. В одну из них мы покидали наспех связанные вещи, мать с сестрой забрались в кабину, отец, я и Шарик – в кузов, и машина покатила в сторону Москвы. По пути шофер завернул в детский сад, и к нам в кузов посадили ребят с воспитательницей. У ребят на руках были бирки с фамилиями и адресами на случай, если потеряются.
В Москве остановились у деда с бабкой на Чудовке. Бабка начала распределять, кому что взять в эвакуацию, дед посмеивался:
– Все надо оставить в квартире. Война больше месяца не продлится. Наши в этой борьбе быстро победят.
– Да будет тебе! – вспыхивала бабка и сразу снимала портрет деда со стены. (Она во время ссоры всегда убирала его портрет в шкаф; потом помирятся – снова ставит на видное место).
Но скоро дед перестал усмехаться. Объявили, чтобы все сдали радиоприемники и замаскировали окна. На Крымской площади появились металлические «ежи» и зенитный расчет, над домами повисли воздушные заграждения, от магазинов потянулись длинные очереди – горожане запасали продукты, соль, мыло, спички… Теперь во дворе мы с сестрой собирали осколки бомб зажигалок и, подражая взрослым, «тушили» их в ящике с песком…
От тех дней остались одни запахи. Запах бабкиных цветов в горшках, которые до войны мы с ней выносили под дождь, запах фарфоровой собаки, причудливого коврика и выцветшего одеяла и подушек из перьев (в эвакуации спали на ватных), запах тряпья и истлевших книг в изломанной корзине на черном ходу, запах бомбоубежища и метро, куда бегали во время налетов на город, запах щей из крапивы, которую собирали на Воробьевых горах.
Началась эвакуация. На вокзале была давка. Плакали женщины, кричали дети. Отец отыскал наш товарняк с вагонами «телятниками». Нам досталась верхняя полка – грубо сколоченные доски. Втиснули тюк с бельем, чемодан, саквояж, рюкзак, небольшой ящик из оцинкованного железа, меж них примостилась сестра с куклой и я с Шариком. В вагоне уже разместилось несколько семей, в том числе Смеяцкие. До отхода товарняка оставался час с лишним, и мне разрешили походить около вагона, но я сразу подошел к паровику. Постоял, посмотрел как курчавится дым над трубой, и вдруг на соседнем пути увидел воинский эшелон. В открытой двери одного вагона, свесив ноги, сидел солдат и играл на гармони что-то веселое; его товарищи смеялись. Я подбежал, приготовился слушать, но солдат сразу перестал играть.
– Эй! Стручок! У тебя есть старшая сестра?
– У Вовки Смеяцкого есть! – выпалил я.
– Тогда беги возьми ее фотографию с адресом, будем переписываться. А то у всех есть девушки, а мне и писать некому.
Помчал я к нашему вагону, крикнул Ленку Смеяцкую, перезревшую прыщавую девицу.
– Давай фото, – говорю. – Тебе солдат писать будет!
– А он какой? – покраснев, тихо спросила Ленка.
– Веселый!
– Подожди, я сейчас! – Ленка достала из чемодана фотографию, спрыгнула на насыпь, но, когда мы подбежали, эшелон уже покидал границы станции – только и успели помахать последнему вагону.
…Состав дернулся, загромыхал и, спотыкаясь о стрелки, покатил с привокзального полотна. Не успели выехать за город, как послышались взрывы бомб; вагон задрожал, заскрипели тормоза, состав встал, раздалась команда: – Выгружаться! Спрыгнув на шпалы, мы увидели, что два головных вагона горят, а в небе к горизонту уходят немецкие самолеты. Отец побежал к месту пожара. Около часа тушили огонь, но пропитанные мазутом доски разгорались все сильнее. В конце концов вагоны, объятые пламенем, паровик оттащил на запасной путь, и вскоре от них остались одни тлеющие остовы. Потом оказывали помощь пострадавшим и распределяли «погорельцев» по другим вагонам. Вернувшись, отец сообщил, что в одном из вагонов разместился детский сад, с которым мы ехали в грузовике, а в другом – вывозят часть зверей зоопарка; после бомбежки несколько клеток открылось, и звери разбежались, но недалеко, в ближние кусты. Переждали налет, снова поползли к вагонам. Наверное, отец это рассказал, чтобы немного приободрить нас с сестрой, но, может, так оно и было.
Наш товарняк тянулся медленно, подолгу стоял на узловых станциях, бункер паровика загружался углем, в цистерну заливали воду из водокачки, прицепляли вагоны, сажали беженцев. Больше не бомбили. В проеме двери виднелись лесные массивы, луга со стогами сена, унылые деревни. Иногда по несколько дней простаивали на запасных путях, пропускали воинские эшелоны, спешившие на запад. Из вагонов солдаты махали нам и кричали, что вернутся с победой. Молодые пареньки, совсем мальчишки, смеялись и пели песни.
Спустя много лет я смотрел телевизор в Доме журналистов, рядом покуривал гардеробщик фронтовик, хороший такой старикан. Показывали военную хронику: солдаты возвращались с Победой.
– А из нашей деревни двадцать шесть ребят призвали в армию, а вернулись лишь двое, – сказал старик. – Я, да еще один парень, оба покалеченные.
Когда я вижу военные ленты, передо мной всегда встает проем двери товарного вагона и веселые лица пареньков. И тут же необъяснимо сокращается временное пространство, и за вагоном встают голые стволы лип, которые я увидел позднее в эвакуации, – град сбил листву деревьев и они погибли.
В нашем вагоне за всю поездку никто не смеялся, не спел ни одной песни. Днем, когда товарняк стоял на каком-нибудь разъезде, мы собирали щепу для печурки-«буржуйки», которая занимала середину вагона и, когда ее топили, раскалялась докрасна. Отцы приносили кипяток, искали грибы на опушках, ловили раков в ближайших прудах, матери ходили в деревни менять одежду на продукты. По вечерам у «буржуйки» женщины молчаливо готовили скудные ужины, мужчины угрюмо курили махорку.
Через месяц товарняк встал под Казанью на разъезде Аметьево. На разъезде было тихо. Тянулись заросшие травой ржавые рельсы и сгнившие шпалы, на бугре стояли станционные постройки, чуть дальше – будка стрелочника, за ней – овраги с красно-бурой глиной и деревня, за которой виднелся город.
Вначале нас привезли в какой-то клуб и каждой семье отгородили закуток простынями на веревках, но вскоре переселили в общежитие на Клыковке, окраинной улице, где росли кряжистые тополя, тянулись канавы с мутной водой, а частные дома, вместо заборов, огораживал колючий кустарник… Сколько я помню, нашу улицу всегда заполняла глубокая грязь; только с первыми морозами, грязь костенела, а канавы затягивались хрупким ледком.
Я вспоминаю двор своего детства – место, объединяющее всех независимо от национальности и положения: обшарпанные дома, пожарные лестницы, крапиву, чертополох, громкоговоритель на столбе и лавки, где обсуждались последние новости, и непременное музыкальное обрамление – патефон с довоенными пластинками, и площадку «пятак», на которой мы допоздна гоняли «мяч» – ушанку, набитую бумагой. Ничем не примечательный клочок земли, в душные летние вечера пропитанный запахами керосина и копоти, но в памяти – просторный двор со свободной циркуляцией воздуха, где солнце бьет в окна, наполняя комнаты жаром, превращая клоповники в приличное жилье. В памяти – добрососедство, душевность, взаимовыручка – все то, что теперь в новых микрорайонах исчезло навсегда. Мое поколение прекрасно знает воспитательную силу двора, а усвоенная с детства определенная уличная дипломатия помогла нам в дальнейшей жизни.
3.
Рассматривая пожелтевшие дымчатые картины, приближая детство, я вновь перешагиваю пороги возраста, событий, воскрешаю людей, с которыми когда-то свела судьба.
Юсупка Абдуллин, мой Абдулла! Умница Алик, общение с которым действовало на нас облагораживающе! И «Баба Яга», старуха, похожая на греческую богиню! Со временем многое безвозвратно уходит из нашей жизни, но их помню до сих пор. Настоящее быстро превращается в прошедшее, но оно еще не прошлое, поскольку не отстоялось, в нем еще много случайных, несущественных деталей. Только с годами остается главное, как свидетельство своего времени.
Юсуп был загорелый, с горящими раковинами ушей и узкими раскосыми глазами, над которыми торчала жесткая челка.
– Из Москвы, что ли? Эвакуированный? – небрежно бросил он и сразу ввел меня в курс местных достопримечательностей. – За общагой подземный ход. Вон в тот замок тянется.
Возбуждая во мне таинственный интерес, Юсуп показал на развалины за полем чечевицы.
– А в речке черт живет. Пойдешь по берегу, за тень схватит и затащит в глубину… А в замке по ночам привидения бродят… В конце улицы живет гадалка. Все точно гадает. И лечит здорово. Болит у тебя сердце – дает цветок, у которого листья сердечком. Болит желудок – дает круглые травы. Говорит, Бог все предвидел… А еще по улицам ходит Баба Яга. У нее дурной глаз. На тополь взглянет – тополь сохнет… Ей на глаза лучше не попадайся, вмиг болезнь схватишь, или змея укусит.
На Клыковке появилось несколько семей из Ленинграда, все мальчишки худые, молчаливые. Один из них – Алик – рассказал, как однажды они с матерью голодали целую неделю, а потом он полез в шкаф и обнаружил сумку сухарей – их сдавали до войны молочнице, а про те забыли. Алик был начитанным, знал множество историй про мореплавателей и отлично рисовал; он имел перед нами явное достоинство, и кто-то из ребят предложил ему быть вождем нашей ватаги, но Алик сразу отказался, сказав очень серьезно, что к власти рвутся недалекие люди.
– Главарем должен быть тот, кто знает все на Клыковке, – заявил Юсуп с агрессивной навязчивостью.
– А я думаю, кто ответит на вопросы, которые ему зададим, – сказал Алик.
Юсуп поморщился, надулся, его узкие глаза совсем исчезли. Алик отошел в сторону. Я уж подумал – начнется драка, но они вдруг одновременно вспомнили обо мне и переглянулись.
– Давай, ты скажи, как будем выбирать.
Я посмотрел на худых ленинградцев и, пытаясь скрыть очевидную хитрость, сказал, с невероятным напором чувств:
– Кто всех поборет (дед кое-чему научил меня).
Это было постыдное условие, но ребята согласились.
Я быстро перекидал всех мальчишек и начал бороться с Юсупом. Мускулистого напористого Юсупа не так-то легко было припечатать к земле, пришлось попотеть; но в какой-то момент я все-таки провел фирменный прием деда и Юсуп рухнул на спину. Ребята забросали меня травой и дали клятву верности. Вот так я и получил колоссальную власть. Через некоторое время ребята пожалели, что выбрали вождя таким образом, но было уже поздно – мы успели наломать дров.
И все-таки нашим истинным главарем оставался Юсуп – он был как бы генералом, временно находящимся не у дел. В тот день Юсуп показал нам поле чечевицы и шалаш сторожихи, пересыхающую речку Блу с зарослями тростника и перекатом в кружевах пены. Когда прошли деревянные мостки, Юсуп кивнул на забор, из-за которого пахло горячим медом; сквозь щели виднелись дикие розы.
– Брошенный сад. Раньше здесь жил хан. Вон его замок…
Посреди сада возвышалось великолепное сооружение с башнями и тяжелыми чугунными воротами, правда, время уже наложило свой отпечаток: стены потрескались и разрушились, башни покосились, осели, от ворот осталась часть решетки – короче, замок стоял только в вашем воображении, на самом же деле вдали виднелась груда диковинных развалин.
– Да-а, – тихо произнес я, подавленный роскошью замка.
– К нему ведет подземный ход. – Юсуп хотел еще что-то добавить, но я остановил его, как бы напоминая, что он слишком разговорился – забыл, кто главный в клане.
Я решил перехватить у него инициативу и на обратном пути сорвал несколько сухих стеблей чечевицы. Сторожиха заметила и закричала:
– А ну, шалопай, отходи! Щас солью из берданки влеплю!
Стерпеть такое унижение – значило потерять уважение подчиненных, и, как атаман, я приказал вечером совершить набег на поле… Дождавшись темноты, мы подкрались к чечевице и набили карманы стручками. И на следующий день поразбойничали. Сторожиха пожаловалась матерям, и нам грозила расправа. Накануне я собрал свое войско и приказал сломать шалаш сторожихи, Юсуп сказал, что лучше удрать на несколько дней из Клыковки. Интеллигентный Алик предложил нарвать роз и подарить матерям. Приняли предложение Алика – не как разумное, а как наиболее выполнимое.
Я не верил, что цветы замолят мои грехи, но неожиданно розы так растрогали мать, что она прослезилась и только велела мне сидеть дома весь вечер. И остальные ребята легко отделались, только Юсупа мать отлупила подаренным букетом – похоже, была бессердечной.
Первое время мне казалось, будто на Клыковке и не знают о войне, ведь в этом захолустье не раздавались воздушные тревоги, не слышался гул бомбардировщиков, разрывы бомб… Но потом заметил, что после прихода почтальона то в одном, то в другом доме раздаются вопли женщин, а около гадалки по вечерам выстраивается длинная очередь. И наконец, однажды я понял, что и на Клыковке хорошо знают, что такое война.
В то утро под нашими окнами раздался условный сигнал – свист суслика. Я выбежал во двор и увидел запыхавшегося Юсупа.
– Бери скорей рогатку! – забормотал он. – Баба Яга идет!
Про Бабу Ягу Юсуп прожужжал нам все уши. Мы знали, что она ходит с двумя оборванными детьми, просит милостыню, но ей редко подают, потому что она из крымских татар, которые помогали немцам.
Когда мы выбежали на улицу, там уже собрался весь наш отряд. Ребята целились из рогаток в какое-то темное пятно, пылившее вдалеке по дороге. Постепенно пятно вырисовывалось и приобретало очертания старухи с палкой и двух детей. Они были одеты в лохмотья и шлепали босиком по пыли. Как только нищие поравнялись с крайним домом, из него выскочила какая-то женщина и заголосила.
– Ведьма! Чтоб тебе сдохнуть! Это ты убила моего сына!
Старуха ниже опустила голову, участила шаги. Чем дальше шли нищие, тем больше из дворов раздавалось проклятий.
– Чтоб твоим внукам быть горбатыми!
– Чтоб тебе сгореть на том свете!
Женщины кидали в старуху тухлые овощи.
Старуха приблизилась, и я смог ее рассмотреть. Она была тощая, сгорбленная, с крючковатым носом, из-под рваного платка свисали длинные седые волосы; ее лицо было серого цвета, в сетке морщин, а взгляд усталый, безразличный. Одной рукой старуха опиралась на палку, другой держала за руку маленькую девчонку; девчонка жалась к старухе и испуганно озиралась. За старухой семенил широкоскулый мальчишка с мешком.
Как только нищие поравнялись с нами, Юсуп крикнул:
– Бей Бабу Ягу! – и выстрелил из рогатки.
Мы тоже открыли пальбу, подбадривая себя криками. Старуха прикрыла девчонку лохмотьями и зашагала быстрее. Они удалялись, и наши выстрелы уже не достигали цели. От меня, как от вождя, зависели дальнейшие действия. Я поднял камень и с криком «Огонь по Бабе Яге!» – помчал за нищими. Ребята ринулись за мной. Догнав старуху и детей, я размахнулся и бросил камень. Я не был уверен в своей меткости, но острый голыш попал прямо в щеку старухи. Она вскрикнула, остановилась и приложила ладонь к щеке; между пальцами потекла темная струйка. Мы замерли. Я думал – услышу яростный крик, посыпятся ругань, угрозы, но старуха только посмотрела на меня, укоризненно и долго. Тот взгляд я запомнил на всю жизнь.









