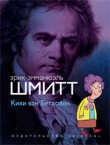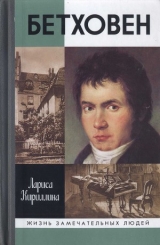
Текст книги "Бетховен"
Автор книги: Лариса Кириллина
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц)
Активными членами боннского Общества любителей чтения были старшие коллеги Людвига – его учитель Кристиан Готлоб Неефе, скрипач Франц Антон Рис, валторнист Николаус Зимрок. И хотя нам почти ничего не известно о вхождении в этот круг молодого Бетховена, логично предположить, что и ему кое-что перепадало, поскольку читать он, вопреки изъянам своего образования, очень любил.
О том, что читал Бетховен в пору своего духовного созревания, отчасти можно судить по цитатам из его ранних писем и по текстам, положенным им на музыку в конце 1780-х – начале 1790-х годов. Бетховен цитирует драмы Шиллера и Шекспира, ссылается на Плутарха. Среди поэтов, чьи стихи он выбирает для своих песен, – Гёте, Фридрих фон Маттисон, Людвиг Хёльти, Иоганн Вильгельм Людвиг Глейм, Готфрид Август Бюргер. Кумиром Бетховена, как и многих юношей и девушек его времени, был Фридрих Готлиб Клопшток, автор звучных од и лирических стихотворений, – но как раз их молодой композитор по каким-то причинам класть на музыку не отваживался. Впрочем, воздерживался он до поры до времени также от творческого прикосновения к поэзии Шиллера. В зрелые годы Бетховен признался, что Шиллера, по его мнению, класть на музыку гораздо труднее, чем Гёте, ибо он воспаряет мыслью в запредельные выси, куда за ним угнаться почти невозможно.
Общаясь с весьма начитанными людьми, молодой Бетховен быстро навёрстывал пробелы в своём образовании. И, к счастью, как раз в годы правления Макса Франца приобщиться к новинкам культурной жизни стало возможно и в Бонне. В маленьком городке на Рейне была осуществлена настоящая просветительская реформа в духе идей Иосифа II.
Во-первых, курфюрст преобразовал существовавшую с 1777 года в Бонне придворную академию в университет (императорский указ об этом вышел в 1784 году, но реализован был лишь в 1786-м). Ныне главное парадное здание Боннского университета располагается в бывшем дворце курфюрста. Однако в конце XVIII века это учебное заведение размещалось в куда более скромном доме на Боннгассе, недалеко от того дома, в котором родился Бетховен. Церковь Имени Христова, принадлежавшая ордену иезуитов, являлась университетской и гимназической церковью.
Университет имел четыре факультета: богословский, юридический, медицинский и философский. По соседству, в Кёльне, существовал очень старинный и уважаемый университет, основанный ещё в XIV веке. Однако им руководили крайне консервативно настроенные клерикалы, что совершенно не устраивало вольнодумного архиепископа Макса Франца. Поэтому он открыл новое учебное заведение, куда мог приглашать людей, которых никто бы не потерпел на профессорской кафедре в Кёльне. Так, в Бонне до 1791 года преподавал учёный монах Антон (Таддеус) Дерезер, профессор герменевтики (то есть толкования Библии) и восточных языков. Казалось бы, специализация Дерезера была сугубо академической. Однако одно из его богословских сочинений угодило в 1789 году в список запрещённых католической церковью книг. Библию Дерезер стремился толковать исключительно рационально, причём спорить с ним оппонентам было трудно, поскольку профессор, знаток древнееврейского языка, мог цитировать Ветхий Завет в подлиннике. Этот страстный в отстаивании своих взглядов человек нигде не мог обосноваться надолго. В 1791 году он покинул Бонн и отправился в Страсбург, захваченный позднее французами. Дать присягу новым властям он отказался, за что едва не погиб на гильотине – его спасло падение Робеспьера; смертную казнь Дерезеру заменили высылкой в Гейдельберг.
То ли по личной инициативе, то ли под воздействием своих приятелей, восемнадцатилетний Людвиг ван Бетховен записался в 1789 году в студенты философского факультета Боннского университета (его ровесник и сослуживец, композитор Антон Рейха, уверял позднее, что именно он уговорил Людвига на этот шаг). Какие-либо иные документы о студенческих занятиях Бетховена, кроме вышеупомянутого списка, отсутствуют. Можно предположить, что с учёбой у него не заладилось. Во-первых, должно было сказаться отсутствие школьного образования (в частности, тогдашнему студенту обязательно требовалось хорошее знание латыни). Во-вторых, у него могло не хватить времени на регулярное посещение лекций и выполнение заданий. Ведь он продолжал кормить семью, работая там и тут, бегая по урокам, а в свободное время пытаясь что-то сочинять. Но контакты с университетской средой у Бетховена завязались; его имя было хорошо известно не только студентам-сверстникам, но и профессорам, которые после лекций захаживали и на заседания Общества любителей чтения, и в погребок вдовы Кох… Вечером все эти люди шли в театр, а там из оркестра им вновь приветственно кивал смуглый юноша с пронзительным взглядом и независимыми манерами.
Национальный театр был основан Максом Францем в 1788 году и открыл свои двери в январе 1789-го. Под театр было отведено одно из помещений во флигеле дворца. Как выглядели сцена и зал, ныне трудно сказать, но о репертуаре имеются достоверные сведения. Слово «национальный» в названии театра означало, что спектакли шли на немецком языке. Однако репертуар был пёстрым и включал как очень трудные произведения («Похищение из сераля», «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» Моцарта), так и популярные итальянские оперы-буффа, французские комические оперы, нетрудные немецкие зингшпили и модные тогда мелодрамы – декламации с музыкой.
Особенно бурной стала интеллектуальная жизнь Бонна в 1789–1790 годах, когда штат университета пополнился некоторыми чрезвычайно яркими личностями.
Едва ли не самым примечательным человеком среди них был отец Евлогий (Иоганн Георг) Шнейдер, земляк, сверстник и приятель вышеупомянутого Антона Дерезера, по рекомендации которого и был принят на должность профессора красноречия и эстетики Боннского университета. Интересно, кстати, отметить, что и Дерезер, и Шнейдер, и курфюрст Макс Франц принадлежали к тому же поколению, что и Моцарт, – все они родились в 1756–1757 годах; время их духовного расцвета, «акмэ», совпало с эпохой реформ императора Иосифа.
Монашество явно не было призванием Шнейдера, но выбор за него сделали родители. Духовная карьера открывала карьерные возможности, немыслимые для обычного бедного простолюдина. Он получил теологическое образование, а в 1777 году постригся в монахи, вступив в орден францисканцев и взяв себе имя Евлогий (по-гречески – «красноречивый»). В качестве священника и проповедника он поступил в 1786 году на службу при дворе вюртембергского князя Карла Евгения, но тут, можно сказать, нашла коса на камень: этот князь славился своим деспотическим нравом. Одного из своих подданных, молодого поэта Фридриха Шиллера, князь вынудил тайно бежать из Вюртемберга; другого, известного журналиста и музыканта Карла Фридриха Даниеля Шубарта, продержал без суда в заключении десять лет. Знакомство с камерой в вюртембергской крепости грозило и Шнейдеру, но тут подоспело приглашение в Бонн, где он тоже вскоре сделался возмутителем спокойствия.
Обычно одним из верных признаков симпатий юного Бетховена к французской революции считается факт его подписки на сборник стихов Евлогия Шнейдера, опубликованный в 1789 году и включавший в себя оду «На разрушение Бастилии». Однако следует учитывать некоторые нюансы. Во-первых, среди подписчиков на этот сборник фигурируют очень высокопоставленные люди, начиная с курфюрста-архиепископа Макса Франца. Так что в поступке «придворного музыканта Бетховена», как он значится среди прочих, ровно ничего революционного и оппозиционного не было. Во-вторых, наряду со стихами про падение Бастилии в сборник входили стихи патриотического свойства – например, большая ода памяти короля Фридриха Великого. В-третьих же… Достаточно прочитать оду Шнейдера на разрушение Бастилии, чтобы удостовериться: к революции она не призывала, а лишь выражала радость по поводу падения оплота тирании и деспотизма. Но подобная фразеология была в ходу и в немецко-австрийской публицистике времён императора Иосифа; в этом не видели ничего крамольного. Нельзя также забывать и о том, что в 1789 году революция всё ещё воспринималась как праздник освобождения, а не как разгул кровавых репрессий, которые пока ещё не начались.
Конечно, беспрепятственный выход в свет такого сборника в 1790 году был символом перемен (позднее его распространение было запрещено). Однако, помимо стихотворения о Бастилии, в книге содержалась ещё одна «бомба». Шнейдер поместил в конце своё эссе «Речь о нынешнем состоянии и о препонах к развитию изящной литературы в католической Германии». С этой речью он выступил в Боннском университете, и вот она-то, на взгляд окружающих, звучала едва ли не революционно. Учёный монах-францисканец во всеуслышание утверждал, что именно засилье консервативно настроенного духовенства привело к значительному отставанию литературы в католических землях Германии по сравнению с землями протестантскими. Критика клерикального обскурантизма была в эпоху Иосифа II совсем не редкостью, но особую остроту ей придавало то, что звучала она из уст католического священника и монаха.
Шнейдер недолго продержался на кафедре. Уже в 1791 году его уволили из университета, и он был вынужден покинуть Бонн. Но изгнали профессора Шнейдера совсем не за вольнолюбивые стихи, а за публикацию, казалось бы, рутинного пособия по катехизису для гимназистов. Церковные власти во главе с папским нунцием усмотрели в этой книжке зловредное влияние протестантизма или же воспользовались ею как предлогом для расправы с «отщепенцем». Курфюрст Макс Франц пытался смягчить конфликт, запретив распространение учебника, но не трогая самого Шнейдера, но мятежный профессор громко настаивал на своей правоте, и князю пришлось уволить его, выплатив, однако, приличную сумму на дорогу.
Дальнейшая судьба Шнейдера напоминала остросюжетный роман с трагической развязкой. Из Бонна изгнанник подался в приграничный Страсбург, где, после прихода туда французов, решительно встал на сторону новой власти, сделавшись председателем якобинского клуба и участвуя в деятельности революционного трибунала в качестве обвинителя. Подсчитано, что с его «подачи» было вынесено не менее тридцати смертных приговоров. С церковной карьерой также было покончено; гражданин Шнейдер сложил с себя духовный сан, вступив в брак с местной горожанкой. Но спустя всего несколько часов после свадьбы счастливый новобрачный был по доносу арестован и препровождён для суда в Париж, где его через некоторое время казнили на гильотине в 1794 году. Воистину, «революция пожирает своих детей» – в том числе и приёмных…
Судьбы этих незаурядных людей имеют некоторое отношение к жизни Бетховена. Не только потому, что он общался в Бонне и с Дерезером, и со Шнейдером, но и потому, что сами факты наводят на мысль о том, не был ли юный музыкант интуитивно мудрее профессоров философии и красноречия, когда в 1792 году, встав перед решающим выбором в своей жизни, предпочёл не связывать своё будущее ни с какими революционными соблазнами, а заниматься тем, к чему считал себя призванным.
Вопрос об отношении Бетховена к Великой французской революции всегда был ключевым для биографов композитора. В России и во Франции ещё в XIX веке сложилась традиция воспринимать Бетховена как прямого выразителя идей революции в музыке и чуть ли не как революционера в его житейских делах и поступках. Взлохмаченный суровый гений, плебей по рождению и по взглядам, готовый крепко приложить любого попавшегося под руку аристократа и шокировать салонных дам громогласными импровизациями на тему «Марсельезы»…
Таков собирательный образ Бетховена-революционера в массовом сознании, воспитанном на книгах Ромена Роллана и популярной литературе советского времени.
Но в реальности всё обстояло гораздо сложнее.
Императорские кантаты
Новый, 1790 год начинался тревожно. События в соседней Франции разворачивались стремительно. Уже через несколько месяцев после падения Бастилии стало ясно, что революция – это не только череда народных гуляний с песнями и плясками, а нечто куда более страшное и неуправляемое. Впрочем, до поры до времени французские дела Германии и Австрии напрямую не касались. Король Людовик XVI и королева Мария Антуанетта пока ещё сохраняли свои титулы (а об угрозе их жизни речь вообще не шла). Восстание роялистов в Вандее, якобинский террор и наплыв в Германию беженцев, в том числе изгнанников королевских кровей, также были впереди. Однако обстановка внутри самой Священной Римской империи ухудшалась с каждым месяцем.
Война против Турции, в которую Австрия вступила, следуя союзническим обязательствам перед Россией, обернулась для императора Иосифа военной, политической, финансовой и моральной катастрофой. Никто из его подданных воевать не хотел, полагая, что коварная царица Екатерина попросту обманула Иосифа, заставив отвлечь на себя главные силы турецкой армии, дабы поскорее завладеть причерноморскими землями. Султан не нападал на Австрию и не давал никаких поводов к разворачиванию военных действий на Балканах. И если бы эти действия шли успешно!.. Но ведь австрийцы гораздо чаще терпели поражения, чем одерживали победы. Войной были недовольны все: и аристократы, вынужденные, по примеру императора, участвовать в ней лично или опосредованно; и коммерсанты, терпевшие большие убытки из-за денежных вливаний в армию; и простой народ, на которого падала вся тяжесть рекрутчины и прочих повинностей, включая снабжение войск скотом и продовольствием. Император Иосиф быстро терял остатки популярности даже у тех, кто его всегда поддерживал: среди крестьян, ремесленников, образованных представителей третьего сословия. Всем стало плохо. Доходы резко упали, жизнь утратила предсказуемость, – а главное, почти улетучились надежды на то, что положение вскоре исправится.
В Бонне тревоги и тяготы военного времени пока не ощущались так остро, как в Вене и в некоторых других частях империи. Всё шло своим чередом: церковные службы, приёмы у курфюрста, репетиции и спектакли в театре, дружеские встречи любителей чтения, студенческо-профессорские пирушки в кабачке Кохов, балы и концерты в ратуше…
Весть о смерти Иосифа II резко всколыхнула Бонн, хотя о безнадёжном состоянии здоровья императора говорили уже с начала зимы. Иосиф знал, что умирает, и видел, что венский двор с нетерпением ждёт его ухода, мечтая приблизить неизбежную смену власти, чтобы наконец-то покончить с ненавистными реформами. Самые трезвые головы понимали, что перевести назад часы истории уже не удастся, – нельзя даже помыслить о том, чтобы восстановить крепостное право и многие феодальные привилегии или отменить патент о веротерпимости, – но от этого понимания ненависть к Иосифу становилась лишь яростнее и ядовитее. Даже покоя, положенного умирающему, император оказался лишён. До самых последних дней и часов от него требовали подписать то одну, то другую бумагу – и он покорно подписывал, отрекаясь почти от всего, что считал главными свершениями своей жизни и своего десятилетнего единоличного царствования… Иосиф сам сочинил себе эпитафию: «Здесь лежит государь, намерения коего были чисты, но ему не суждено было увидеть успеха ни одного из своих начинаний».
Смерть положила конец физическим и душевным страданиям императора Иосифа 19 февраля 1790 года. А 24 февраля весть об этом достигла Бонна – резиденции его младшего брата Макса Франца.
Помимо государственных и церковных траурных почестей, Общество любителей чтения решило воздать покойному должное на своём торжественном собрании, назначенном на 19 марта – день именин Иосифа II. Собрание намеревался посетить сам Макс Франц. Длинную речь об императоре-реформаторе готовился произнести профессор Евлогий Шнейдер. А музыку кантаты, которая должна была прозвучать сразу вслед за речью, заказали девятнадцатилетнему Бетховену. Текст написал его сверстник, двадцатилетний Северин Авердонк, племянник Шнейдера; стихи вышли ходульными и беспомощными.
Мёртв!.. Мёртв!..
Вопль звучит сквозь пустынную ночь,
Эхо скал ему вторит плачем…
О волны морские, вы тоже
Воздымайте ваш вой из глубин —
Великий Иосиф – мёртв!
Иосиф, родитель бессмертных деяний —
Он мёртв! Увы, мёртв!..
У Бетховена оставалось очень мало времени, ведь требовалось не просто написать партитуру, но и расписать партии для исполнителей, выучить, отрепетировать… Он успел, причём постарался превзойти самого себя, создав мощное и монументальное произведение, достойное величия дел покойного императора. Но кантата, представленная Обществу любителей чтения за пару дней до торжественного собрания, была признана «неподходящей для исполнения в силу многих причин» – так было записано в протоколе от 17 марта 1790 года. И причины эти заключались прежде всего в масштабности и сложности произведения, резко выходившего за рамки обычной «музыки на случай».
Однако, хотя собрание состоялось без музыки Бетховена, о неслыханно трудной и мастерски написанной кантате заговорили и при дворе, и в городе. Более того: поскольку предстояли уже не траурные, а праздничные церемонии, связанные с восхождением на престол Священной Римской империи Германской нации нового императора, Леопольда II, то Бетховену была заказана ещё одна кантата – на сей раз хвалебная. Текст вновь написал Северин Авердонк, и эти стихи вышли ещё нелепее прежних (так, в арии сопрано поётся о том, как бог Иегова смотрит на Германию… с Олимпа!), но музыка оказалась, пожалуй, не менее интересной, чем в траурной кантате. Правда, сильные и вдохновенные моменты чередовались здесь с явно проходными эпизодами, да и общий тон оказался несколько более отстранённым – и немудрено, ведь Бетховен почти ничего не знал о личных качествах нового императора, который до своей коронации много лет прожил в Италии, будучи великим герцогом Тосканским.
Император Леопольд II считался гуманным, либеральным и просвещённым правителем, поэтому резких поворотов во внутренней и внешней политике от него не ожидали. Но всем было ясно, что перемены несомненно грядут, ибо чрезвычайно тревожные известия о фактически восставших австрийских Нидерландах, о бурлящей возмущением Венгрии и о нарастании антимонархических настроений во Франции требовали от нового императора принятия срочных мер. Леопольду удалось пригасить массовое недовольство слишком уж радикальными реформами покойного брата, вернув провинциям часть старинных прав и сделав ряд миролюбивых жестов в сторону титулованной аристократии и верхушки католического духовенства. Что же касалось людей искусства, то здесь ничего обнадёживающего ждать не приходилось. У Леопольда II были свои вкусы, свой двор, свои многочисленные родственники, которые совсем не разделяли пристрастий и симпатий покойного Иосифа.
Так, Моцарт, бывший протеже и в какой-то мере единомышленник императора Иосифа, пытался снискать благоволение нового властелина, но нисколько в этом не преуспел. В 1790 году он отправился в свою последнюю гастрольную поездку по Германии, конечной целью которой был Франкфурт-на-Майне, где должны были состояться коронационные торжества. Поездка эта оказалась финансово провальной, да и большого успеха Моцарту не принесла, при том что, возможно, именно во Франкфурте он исполнил какую-то из своих великих поздних симфоний – не исключено, что симфонию до мажор, названную впоследствии «Юпитер».
В 1791 году, когда император Леопольд II должен был короноваться ещё и в качестве короля Богемии, пражские почитатели Моцарта решили в очередной раз помочь любимому композитору и заказали ему оперу для коронационных празднеств. Прервав работу над «Волшебной флейтой» и «Реквиемом», чрезвычайно утомленный и уже больной Моцарт ринулся в Прагу, чтобы успеть за пару недель сочинить и поставить «Милосердие Тита» – оперу, которую некоторые современники (например, первый биограф Моцарта, пражский профессор Франтишек Нимечек) сочли выдающимся шедевром. Некоторые современные исследователи склонны считать, что моцартовское «Милосердие Тита», которое можно принять за обычную коронационную оперу на условный псевдоисторический сюжет, на самом деле заключало в себе скрытую эпитафию императору Иосифу – правителю, который хотел быть идеальным, но в итоге оказался предан всеми, включая ближайших сподвижников. Музыка «Милосердия Тита» полна какого-то отрешённого спокойствия и внутреннего пессимизма. Ходили слухи, будто супруга императора Леопольда II обозвала эту оперу «немецким свинством». Даже если на самом деле императрица высказалась не столь обидно, самому Моцарту, вероятно, стало ясно, что при новом дворе ни повышения в должности, ни добавки к жалованью, ни выгодных заказов он не дождётся. Императрица была итальянкой и благоволила прежде всего к соотечественникам – впрочем, далеко не ко всем. Обходительный и дипломатичный Сальери сохранил своё влияние и положение. А вот шумный, язвительный и скандальный придворный поэт Лоренцо да Понте, автор либретто трёх гениальных опер Моцарта, «Свадьбы Фигаро», «Дон Жуана» и «Так поступают все женщины», был с позором уволен и фактически изгнан из Вены. Моцарт же, неизлечимо больной и погрязший в огромных долгах, умер 5 декабря 1791 года, оставив Констанцу с двумя малышами почти без средств к существованию.
«Дух Моцарта из рук Гайдна»
Смерть Моцарта потрясла всех музыкантов, но особенно тех, кто знал его лично. Йозеф Гайдн писал в январе 1792 года из Лондона их общему с Моцартом другу Иоганну Михаэлю Пухбергу: «Из-за его смерти я долгое время был вне себя и не мог поверить, что Провидение так скоро забрало в иной мир столь незаменимого человека»[4].
Рассказывали, будто Моцарт, узнав о намерении Гайдна отправиться с концертами в Англию, пытался его отговорить: «Но, Папа, куда же вы поедете, ведь вы человек несветский и плохо владеете иностранными языками…» – «О, это неважно! – ответил якобы Гайдн. – Мой язык понятен во всём мире!» Накануне отъезда из Вены, 15 декабря 1790 года, Гайдн провёл весь день с Моцартом. Оба были невеселы. После обеда, когда пришла пора расставаться, Моцарт вдруг сокрушённо произнёс: «Мне кажется, мы видимся в последний раз». Гайдн, вероятно, подумал, что Моцарт тревожится за его здоровье: далёкое путешествие, напряжённые многомесячные гастроли, капризный английский климат – всё это было нелегко для Гайдна, который, по тогдашним представлениям, считался почти стариком. Но Гайдну и в голову прийти не могло, что Моцарт уйдёт первым…
Путь Гайдна в Англию лежал через Бонн. Импресарио Иоганн Петер Саломон, уговоривший Гайдна принять это приглашение, был уроженцем Бонна и потому выбрал такой маршрут. Забавно, что Саломон и Бетховен были не просто земляками: они даже родились в одном и том же доме 24 на Боннгассе, пусть и в разное время, в 1745 и 1770 годах соответственно. Начало их профессионального пути также было сходно. Саломон, с детства блистательно владевший скрипкой, уже в 13 лет был зачислен в штат придворной капеллы. Но талант молодого виртуоза быстро перерос рамки провинциального оркестра. Саломон покинул Бонн, а в 1780 году перебрался в Лондон, где сделал блестящую карьеру уже не столько как скрипач-солист, сколько как талантливый и удачливый импресарио.
Гайдна принимали в Бонне со всем провинциальным радушием, помноженным на праздничную атмосферу Рождества, когда всюду звучала музыка, и даже самые прижимистые и приземлённые бюргеры проникались духом радостного милосердия и вновь, как в детстве, начинали тайно верить в чудеса.
Таким чудом было само появление в Бонне одного из величайших композиторов столь редкостно богатого гениями XVIII столетия. Не было ни одного музыканта и любителя музыки, который не знал бы произведений Гайдна и не любил бы их. Вдобавок сам композитор отличался приветливым и благожелательным характером, снискавшим ему прозвище Папа Гайдн. Его называли так совершенно открыто, и он ничего не имел против. Некоторая простоватость манер Гайдна иногда принималась порой за недостаток образованности, но это впечатление было очень обманчивым. Действительно, Гайдн, как и Бетховен, не имел возможности учиться ни в гимназии, ни в университете, но знал и читал он очень много, говорил и писал на нескольких языках (латынь, итальянский, французский, в 1790-е годы к ним прибавился английский), а главное, обладал качествами, которые невозможно приобрести никакими учёными штудиями: житейской мудростью и беззлобным чувством юмора.
Саломон и Гайдн прибыли в Бонн в субботу 25 декабря, и было решено посвятить следующий день отдыху. С утра они отправились на праздничное богослужение в придворную церковь, находившуюся во дворце курфюрста. Здесь их ждал первый сюрприз: во время литургии исполнялась одна из месс Гайдна (за органом, позволим себе предположить, сидел Бетховен). Незадолго до окончания службы к Гайдну приблизился некий человек, пригласивший композитора в трапезную, где его ожидал сам курфюрст-архиепископ Макс Франц. Этот либеральный князь взял Гайдна за руку, представил членам своей капеллы, собравшимся там же, и пригласил к своему столу. Времена, когда Гайдна сажали за один стол с прислугой, давно прошли, но на княжеский пир композитор вовсе не рассчитывал; небольшой званый ужин был приготовлен в боннской квартире Саломона, и отменять приглашение гостям было уже поздно. Гайдн изложил это всё Максу Францу, который, опять-таки, ничуть не рассердился, а решил сделать маэстро очередной рождественский подарок: по распоряжению курфюрста, скромный стол у Саломона был заменён роскошным ужином на 12 персон, а развлекать гостей были посланы «самые искусные музыканты».
Можно с почти полной уверенностью сказать, что Бетховена среди них не было: застольную музыку играли в XVIII веке чаще всего ансамбли духовых или струнных инструментов. Фортепиано в таких ансамблях не использовалось, а Бетховен в то время уже определил своё исполнительское призвание как пианист.
К сожалению, источники хранят молчание о том, был ли в декабре 1790 года Бетховен представлен Гайдну лично или он присутствовал на встречах с Гайдном вместе со всей капеллой. Может быть, давний знакомый семьи Бетховен, Саломон, назвал Гайдну имя юного музыканта, которого в Бонне многие считали гениальным. Но скорее всего, содержательно пообщаться им тогда не удалось. Да и какой был в этом практический смысл? Гайдн надолго отправлялся в Англию и никакой реальной помощи Бетховену оказать не мог. К тому же упрямый юноша, несомненно, продолжал лелеять мечту о новой встрече с Моцартом. И проситься в ученики к Гайдну казалось ему тогда, вероятно, неуместным и неловким.
Смерть Моцарта сделала такой шаг не просто возможным, а даже единственно разумным. Но случилось это лишь при следующей встрече Бетховена с Гайдном в Бонне, летом 1792 года.
К этому времени Бетховен явственно начал ощущать, что столь милую его сердцу боннскую среду он уже перерос.
Осенью 1791 года ему представилась возможность впервые за несколько лет выехать за пределы Бонна, причём за казённый счёт. Курфюрст-архиепископ Макс Франц являлся одновременно гроссмейстером старинного рыцарского Тевтонского ордена (существующего и в наши дни). Резиденцией ордена был городок Бад-Мергентхайм в княжестве Баден-Вюртемберг, где с 18 сентября по 20 октября 1791 года происходил своего рода съезд тевтонских рыцарей во главе с Максом Францем. Поскольку князю предстояло пробыть там долгое время, а помимо официальных мероприятий предполагались также различные увеселения, то Макс Франц взял с собой и капеллу. Для поездки были отобраны 25 певцов и музыкантов, размещённых на двух кораблях, совершивших плавание из Бонна в Мергентхайм по великим рекам – Рейну и Майну, – а также по менее значительной реке Таубер, на берегу которой была расположена резиденция Тевтонского ордена.
Капелла тронулась в путь в конце августа или первых числах сентября. Погода стояла великолепная. Было по-летнему тепло и солнечно, воды Рейна светились глубокой синевой, под внешним спокойствием которой ощущалось стремительное и мощное течение. Перед глазами Бетховена и его спутников проплывали пейзажи дивной красоты – лесистые холмы, кое-где выходящие на поверхность отвесные скалы, старинные рыцарские замки, тихие излучины, идиллические деревушки вдоль зелёных лугов, на которых паслись стада… Видел он всё это в последний раз, о чём пока и сам не подозревал. Он просто наслаждался путешествием по Рейну.
Артистический люд вовсю веселился, затеяв своеобразную игру. Ещё в Бонне в «короли» находившейся на борту компании выбрали главного комика капеллы, актёра и певца-баса Йозефа Лукса, который присваивал всем «подданным» потешные должности и чины. Бетховен и его приятель, виолончелист Бернгард Ромберг, были удостоены звания «поварят». Неизвестно, в чём заключались их обязанности, но, видимо, «поварята» проявили себя настолько блестяще, что в процессе плавания Лукс возвысил их до более высокого положения (неизвестно точно какого). Вегелер вспоминал, что соответствующий «диплом», скреплённый куском от корабельного каната, долгое время, вплоть до 1796 года, висел у Бетховена на стене в его венском жилище, а потом куда-то затерялся. Выглядел диплом внушительно и издали производил впечатление настоящей жалованной грамоты.
Не вспоминал ли Бетховен о своей корабельной «карьере», подписывая одно из шутливых писем первых венских лет псевдонимом Галушка?.. Зингшпиль Венцеля Мюллера, в котором фигурировал «повар Галушка», в Вене шёл с 1797 года. Однако в основе либретто лежала куда более старая пьеса: фарс Филипа Хафнера «Домоправитель», изданный ещё в 1765 году. Может быть, в Бонне знали эту комедию? В таком случае прозвище Повар Галушка могло прилепиться к Бетховену после путешествия по Рейну.
Но не только шутки и забавы сопровождали это счастливое плавание. На Майне, в городке Ашаффенбурге, где князь сделал остановку, Бетховен познакомился с одним из знаменитых виртуозов того времени – аббатом Францем Ксавером Штеркелем. Свидетелем этой встречи был, в частности, скрипач Франц Антон Рис, который потом поделился своими впечатлениями с другом Бетховена Вегелером, а тот уже донёс их до нас в своих мемуарах. Другими очевидцами были валторнист Николаус Зимрок и кузены Ромберги.
Штеркель славился на всю Германию своей виртуозной фортепианной игрой в «жемчужном» стиле, когда каждая нотка подобна безупречно отшлифованной драгоценности. На инструментах того времени добиться этого было, в общем, не так уж трудно: лёгкая в нажатии клавиатура позволяла играть виртуозные пассажи даже обладателям небольших и не очень сильных рук.