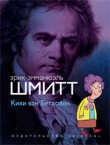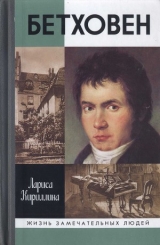
Текст книги "Бетховен"
Автор книги: Лариса Кириллина
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
Переговоры о так и ненаписанной оратории велись в течение ряда лет, вплоть до начала 1824 года, и Йозеф Карл Бернард даже сочинил для Бетховена либретто «Победа креста» на тему борьбы христианства и язычества на закате Древнего Рима. Однако текст Бернарда не устроил композитора, и денежный аванс, уже полученный Бетховеном от общества, пришлось возвратить.
В том же 1818 году Бетховен сделал в эскизной тетради словесный набросок сочинения совершенно особенного жанра, некоей вокально-симфонической мистерии, сочетающей в себе черты как будущей Торжественной мессы, так и Девятой симфонии:
«Adagio cantique. Благочестивое песнопение в симфонии, в старых ладах. Либо само по себе, либо как вступление к фуге. „Господи Боже, мы хвалим Тебя, аллилуйя“. Возможно, этим будет характеризоваться вся вторая симфония, где потом в последней пьесе или уже в Adagio вступят певческие голоса. <…> В Adagio текст – греческий миф, церковное песнопение. В Allegro – празднество Вакха».
Идея «празднества Вакха» могла восходить к заброшенному оперному замыслу 1815 года, «Бахусу», и в таком случае она также имела религиозный характер. В либретто Рудольфа фон Берге нимфы и пастухи воспевали Вакха (Бахуса) в выражениях, встречавшихся и в христианской гимнографии:
Дриада
:
– Всесильные боги!
Неужто Спаситель
К нам завтра придёт?
Пастухи
:
– Придёт он, наш Бог,
Отец и Спаситель!
О, счастья восторг!
Мы не знаем, каким именно текстом для задуманного «празднества Вакха» собирался воспользоваться Бетховен, но этот сюжет оказался в христианском контексте явно не случайно. Замечание же о «песнопении в старых ладах» перекликается с дневниковой записью 1818 года: «Чтобы писать истинную церковную музыку, нужно изучить все церковные хоралы монахов и проследить за расположением цезур в самых правильных переводах и за безупречностью просодии во всех христианско-католических псалмах и напевах вообще». Здесь речь идёт уже о глубоком изучении средневековой традиции по старинным певческим книгам, которые лучше всего сохранялись именно в монастырях. Музыка венских церквей была ориентирована на стиль Нового времени, и к началу XIX века в ней уже практически не осталось «песнопений в старых ладах» – средневековый григорианский хорал звучал лишь фрагментами, а его гармонизации делались в современном вкусе, с ориентацией на мажор или минор.
Для уединения в монастырских библиотеках у Бетховена не было ни времени, ни возможности. Но сам интерес к подобным материям говорил о том, что он задумывал писать какое-то значительное церковное произведение, пока ещё не имея ни заказа, ни повода.
Повод обозначился в 1819 году, когда эрцгерцог Рудольф, давно готовившийся к духовной карьере, был возведён в сан кардинала и назначен архиепископом города Ольмюца (ныне Оломоуц) в Чехии. Торжественная интронизация Рудольфа состоялась 9 марта 1820 года. Казалось бы, если о предстоявшем назначении в Вене знали заранее (возможно, уже в 1818 году), у Бетховена было в распоряжении достаточно времени, чтобы успеть сочинить новую мессу и исполнить её во время богослужения в честь своего августейшего ученика. Увы, этого не случилось: хотя композитор обещал эрцгерцогу, что месса «скоро будет закончена», партитура была полностью завершена лишь к началу 1823 года. Слишком грандиозным оказался замысел, слишком сложным вышло произведение, совершенно не умещавшееся в рамки даже праздничной литургии.
Бетховен придавал Торжественной мессе особое значение и неоднократно подчёркивал это и словами, и делами. Именно за сочинением мессы он запечатлён на одном из поздних портретов, который до сих пор остаётся одним из самых популярных изображений композитора.
Писал его известный художник-портретист Йозеф Карл Штилер (1781–1858), приехавший в Вену зимой 1820 года. Заказ был сделан супругами Францем и Антонией Брентано. Как можно установить по разговорным тетрадям, в мастерской Штилера композитор был пять раз, с 11 февраля по начало апреля 1820 года; в мае портрет уже демонстрировался на художественной выставке в Вене, так что его могли увидеть все желающие. Скорее всего, художник предварительно обсуждал с Бетховеном концепцию изображения. Так, на апрельском сеансе между Штилером и Бетховеном состоялся диалог, зафиксированный в 11-й разговорной тетради:
«Штилер: В каком тоне ваша Месса? Я хотел бы написать просто: Месса в Ре.
Бетховен: Торжественная Месса в Ре [Missa Solemnis aus D]».
Присутствовавший на сеансе Франц Олива помогал уточнить детали, осведомляясь у Бетховена: «А ключ? Вы хотите там Credo или Gloria?» Все обозначения на партитуре, которую держит в руках Бетховен, сделаны, стало быть, со слов композитора. Ему было важно, чтобы это была именно Торжественная месса, и именно Credo: «Верую во Единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого»…
Неизвестно, от кого исходила идея изобразить Бетховена на фоне густого леса, сквозь который слева пробивается солнечный свет, падающий на рукопись Мессы. Возможно, эта мысль также была подсказана композитором, который мог рассказать Штилеру о своей привычке сочинять где-нибудь в лесном уединении и о присущем ему восприятии природы в пантеистическом духе («В лесу каждое дерево говорит мне – свят, свят!» – записал он однажды в эскизной тетради). Ведь и мэлеровский портрет 1804 года изображал Бетховена на фоне пейзажа, поскольку искусство и природа были для композитора неразрывными сторонами Божественного Творения. Между тем в ту эпоху творческую личность чаще всего изображали за письменным столом или, если речь шла о музыкантах! за инструментом. Другие заказчики портретов Штилера также обычно позировали либо на нейтральном фоне, либо в привычном для себя окружении (Гёте и Гумбольдт – в своих кабинетах, монархи – во дворцах, полководцы – на фоне грозного неба). Природа как важный смысловой элемент в работах Штилера не акцентировалась; портрет Бетховена – заметное исключение из правила. При этом ясно, что ранней венской весной 1820 года лес, тёмный от густой зелени, писался не с натуры.
Образ Бетховена на штилеровском портрете откровенно идеализирован. Лицо 49-летнего композитора выглядит гораздо более моложавым, чем на портрете работы Мэлера 1815 года или на сохранившемся наброске Августа Клёбера к утраченному портрету Бетховена с племянником 1818 года. Седина пышных, естественно вьющихся волос контрастирует с гладкостью щёк, покрытых здоровым и свежим румянцем, а морщины на лбу едва просматриваются. Взгляд устремлён одновременно и внутрь себя, и ввысь, к Божеству, словно бы диктующему звуки Мессы.
Мнения друзей Бетховена об этом портрете разошлись. Франц Олива уверял: «Штилер уловил дух вашей внешности» (12-я разговорная тетрадь); Йозеф Карл Бернард, видевший портрет на выставке, был им недоволен: «Он должен был бы изобразить вас как можно точнее и ничего не добавлять» (13-я разговорная тетрадь). Судя по тому, что далее Бернард продолжил критиковать манеру Штилера в целом, как слишком «приукрашенную», Бетховен пытался защитить художника. Да, портрет ему льстил, но он выражал главное, что его на тот момент поглощало: идею прославления земным творцом – Творца небесного и всего Творения, включая вечную и неиссякаемую природу.
В письмах Бетховена есть пара высказываний, из которых явствует, что он воспринимал Бога как своего рода «сверхмузыканта». Эта идея была не нова, поскольку восходила и к Античности (недаром Бетховен часто именовал коллег-композиторов «собратьями в Аполлоне» или даже подписывался – «Ваш во Христе и Аполлоне»), и к мыслителям XVI–XVII веков (например, Марену Мерсенну и Афанасию Кирхеру). Но в устах Бетховена эта мысль приобретает иной, очень индивидуальный оттенок. Сообщая 29 декабря 1824 года издателю Иоганну Йозефу Шотту об успехе у венской публики Увертюры «Освящение дома», Бетховен замечал: «Меня по этому поводу восхваляли, превозносили и т. д. Чего стоит, однако, всё это в сравнении с Величайшим Композитором наверху – наверху – наверху; высочайшим по праву, ибо здесь, внизу, достигается лишь смехотворное подобие. И этакая мелюзга есть высочайшее!!!???»… На портрете, написанном Штилером, взгляд Бетховена был устремлён к «Величайшему Композитору наверху», из благоговения перед которым Месса должна была получиться совершенно экстраординарной.
Если о своей первой Мессе до мажор, написанной в 1807 году, Бетховен горделиво говорил, что «обработал текст Мессы так, как его редко кто обрабатывал», то в Торжественной мессе он в этом отношении превзошёл самого себя. Каждое слово литургии было рассмотрено словно бы под увеличительным стеклом. Получилось, с одной стороны, чрезвычайно авторское произведение, крайне далёкое от тогдашних требований, предъявлявшихся к церковной музыке. С другой стороны, как доказали исследователи XX века, в партитуре Торжественной мессы нет ничего, что не опиралось бы на освящённые веками традиции, в том числе традиции экзегезы – богословского толкования священных текстов и образов. Уильям Киркендейл в своём очерке, опубликованном в 1970 году, выявил ряд поразительных «отсылок» Бетховена к источникам, о которых вряд ли знали многие его современники, а уж тем более критики, порицавшие впоследствии Торжественную мессу за чрезмерно субъективный подход к тексту и «нецерковный» стиль. Возможно, потому Бетховен и сочинял Мессу так долго, почти четыре года, что обдумывал каждый такт и каждое словесное выражение. Изощрённость Бетховена как учёного мастера немецкой традиции достигла в Торжественной мессе очевидной кульминации, превзойдённой затем разве что в последних струнных квартетах. Его слух, утраченный для внешнего мира, раскрылся в глубь веков. Бетховен вдруг начал слышать и понимать и пресловутые «средневековые хоралы монахов», и «старые лады», и строгий стиль Палестрины и прочих полифонистов XVI века, и барочную музыкальную риторику времён Баха и Генделя. Всё это присутствует в звуковом мире Торжественной мессы, но ни один из источников прошлого не стилизуется напрямую. Напротив, всё пропущено через пристрастное восприятие мошной бетховенской личности, всё доведено до предельного напряжения, всё укрупнено или, наоборот, утончено до едва уловимых намёков.
Над первой страницей партитуры Торжественной мессы Бетховен начертал эпиграф-напутствие: «От сердца – да идёт это – снова к сердцу!» («Vom Herzen – moge es wieder – zu Herzen gehen!»). Казалось бы, перед нами почти романтическое послание, призывающее воспринимать молитву Kyrie eleison (Господи, помилуй) как непосредственное выражение религиозного чувства. Это и так, и не совсем так. Как указывал Уоррен Киркендейл, в своё время знаменитый французский теолог эпохи Людовика XIV, Жак Боссюэ, называл молитву Kyrie «языком сердца»[35]. Возможно, Бетховен ничего не знал о Боссюэ и произошло всего лишь совпадение. Однако в библиотеке Бетховена имелся трактат по композиции Йозефа Рипеля «Общие основы музыкальной композиции» (1755). В трактате, написанном в форме обучающего диалога, Ученик говорит: «Что исходит из сердца, то снова идёт к сердцу» («Was von Herzen gehet, geht wieder zu Herzen»)[36]. Этим словам непосредственно предшествует дискуссия о сущности патетического, где Ученик утверждает: «Патетическим моё сердце признаёт только лишь церковное пение» – а Учитель, возражая ему, говорит, что, конечно, медленное хоральное пение патетично, однако не всякая музыка в медленном темпе обладает этим качеством. И после этого Ученик завершает свою мысль: «Прежде всего нужно стараться произвести на слушателя такое же воздействие, какое производит проповедник».
Музыкант в роли проповедника? Почему же – нет, если понимать музыку как «божественное Искусство»? Рипель, трактаты которого (их всего три) изучал Бетховен, был протестантом, а в лютеранской традиции музыка с самого начала играла выдающуюся роль, и именно потому на свет появились духовные концерты, страсти и оратории Генриха Шютца, органное творчество мастеров северонемецкой школы и, в конце концов, колоссальный массив богослужебных сочинений Иоганна Себастьяна Баха. К сожалению, из-за того, что подавляющее число баховских рукописей в первой трети XIX века ещё не было опубликовано, Бетховен не мог познакомиться с самыми грандиозными его произведениями – Страстями по Иоанну, Страстями по Матфею и Мессой си минор. Но, по крайней мере, он знал об их существовании, а Месса си минор сильно занимала его воображение в течение многих лет. Две первые части баховской Мессы, Kyrie и Gloria, в своё время распространялись в рукописных копиях. Общаясь с ван Свитеном и Гайдном, молодой Бетховен мог видеть эти ноты, и даже, скорее всего, видел. Но после смерти ван Свитена и Гайдна оба экземпляра, принадлежавшие им, оказались недоступны для Бетховена. Полный же баховский автограф Мессы си минор находился в Цюрихе у композитора, издателя и литератора Ганса Георга Негели. В 1818 году Негели пытался собрать средства на издание партитуры и поместил в лейпцигской «Всеобщей музыкальной газете» рекламное объявление, в котором назвал Мессу Баха «величайшим творением всех времён и народов». Воззвания к общественности ни к чему не привели, и Негели не удалось осуществить свой замысел.
Другим ориентиром для Бетховена был Гендель. Его оратории неоднократно исполнялись в Вене. Особенную популярность завоевала оратория «Мессия», которую сразу же после премьеры, состоявшейся в Дублине в апреле 1742 года, критики объявили «совершеннейшим произведением в истории музыки»[37]. Несмотря на то, что весь текст оратории представляет собой компиляцию из различных фрагментов Ветхого и Нового Завета, в которых говорится о Спасителе (имя Христа нигде прямо не называется), произведение всегда звучало только в концертных залах. В Вене с 1789 года исполнялась редакция Моцарта, в которой «скуповатая» оркестровка Генделя была изменена на красочную современную. Бетховен однажды заметил, что Гендель бы «обошёлся без этого», но «Мессию» он хорошо знал и тщательно изучал.
В Торжественной мессе он принял оба вызова со стороны «старых мастеров». Его шедевр, его opus magnum, должен был встать вровень и с загадочной, нигде целиком не звучавшей Мессой Баха, и с широко известной ораторией Генделя «Мессия». Об этих ориентирах он сам писал эрцгерцогу Рудольфу 29 июля 1819 года, с большим уважением говоря обо всех старых мастерах, но делая важную оговорку: «Гением, однако, обладали среди них лишь немец Гендель и Себастьян Бах». Далее следовало рассуждение, которое можно поставить эпиграфом ко всему творчеству Бетховена: «Целью мира искусства, так же как и всего великого Творения, являются свобода и движение вперёд. И если мы – новые – ещё не продвинулись так далеко в мастерстве, как наши предшественники, то утончением наших манер тоже кое-что развито».
Парадоксальным образом, вступая в состязательный диалог с мастерами эпохи барокко и с традициями далёкого прошлого, вплоть до Средневековья, Бетховен создал произведение, которое выглядело ошеломляюще новым, дерзновенным, попирающим все представления о привычных канонах. Неприемлемые для литургии масштабы (Торжественная месса длится почти полтора часа), небывалая трудность сольных и хоровых партий, слишком многочисленный и мощный оркестр, непривычное музыкальное воплощение некоторых важных эпизодов… Так, например, в части Benedictus («Благословен») непрерывно солирует скрипка, что вызывало у некоторых критиков ассоциации с сугубо светскими жанрами. А в финальной части, Dona nobis расет («Даруй нам мир»), мольба о мире дважды прерывается звуками войны – фанфарами труб и громовыми раскатами литавр, сама же молитва в какой-то момент приобретает характер патетического оперного речитатива. У каждого из этих решений имелись исторические прототипы, в том числе в творчестве Гайдна, но в целом Торжественная месса, конечно, не укладывалась ни в какие официальные рамки.
В 2005 году, предваряя напутственным словом концертное исполнение Торжественной мессы в Кёльнском соборе, папа римский Бенедикт XVI сказал, что эта Месса – «нечто большее, нежели сугубо литургическая музыка»[38]. Такая оценка весьма дорогого стоит, но в момент завершения работы над Мессой подобное мнение не рискнул бы высказать никто, за исключением, может быть, самого Бетховена. Он же, осознав, что перешёл все допустимые границы, стал думать, как теперь распорядиться судьбой своего шедевра.
Исполнить Торжественную мессу в церкви было почти невозможно даже по формальным причинам. Ведь в таком случае литургия должна была бы длиться более двух часов, что допускалось лишь в случаях каких-то грандиозных празднеств, которых в Вене не предвиделось. С другой стороны, цензура не допускала исполнение произведений с литургическим текстом вне церкви. В письмах своим издателям и коллегам, жившим в протестантских землях Германии, Бетховен говорил, что Мессу можно исполнять в концертах как ораторию, особенно если снабдить её немецким текстом. Такая практика действительно существовала, но никто не брался за эту задачу применительно к Торжественной мессе. Тут был невозможен дословный перевод с латыни, требовался новый, свободный текст, который хорошо подходил бы к музыке Бетховена, – а значит, нужно было вслушиваться в эту необычайно трудную музыку, где каждый мелодический оборот имел важное значение.
Издатели, которым Месса поначалу была предложена, реагировали весьма сдержанно. С венскими издателями он почему-то связываться не хотел, то ли не считая их фирмы достаточно солидными, то ли не доверяя им в коммерческом отношении (его отношения со Штейнером испортились до того, что в 1823 году издатель угрожал ему судом за задержку с выплатой давнего долга). Заграничные же предприниматели не видели для себя выгоды в столь дорогостоящем начинании, как печатание огромной партитуры нигде не исполнявшейся и, как тогда думалось, не имеющей шансов на успех Торжественной мессы. Бетховен долгое время вёл переписку сразу с несколькими владельцами крупных фирм (Зимроком в Бонне, Петерсом и Пробстом в Лейпциге, Шлезингером в Берлине), всем обещал скорую присылку Мессы, но в итоге никому из них её не отдал.
К началу 1823 года в окружении Бетховена созрел проект, который казался весьма перспективным: распространить Торжественную мессу в уникальных авторизованных копиях по подписке среди самых состоятельных монархов, князей, меценатов, а также музыкальных обществ. Брат Иоганн, Бернард, Шиндлер и прочие, кто входил в ближайший круг общения Бетховена, полагали, что если со всей Европы найдётся несколько десятков подписчиков, то при цене 50 дукатов за каждый экземпляр наберётся намного больше денег, чем композитор получил бы от любого издателя (Месса обычно предлагалась издателям по цене тысяча флоринов, то есть примерно 222 дуката). Универсальный текст «Приглашения к подписке» был разослан по адресам двадцати восьми европейских дворов и нескольких музыкальных объединений. Но пускать столь важное дело на самотёк было нельзя; требовалось ходатайствовать перед сильными мира сего, наведываться в посольства иностранных государств в Вене, направлять параллельные письма с доверительными просьбами к влиятельным знакомым, которые могли содействовать принятию нужного решения. В основном канцелярскую работу и хлопоты в посольствах взял на себя безотказный Шиндлер. Однако Бетховен лично писал, например, Гете, Керубини, Крейцеру, Цельтеру, Шпору, надеясь, что «собратья в Аполлоне» помогут ему достичь желаемого.
Амбициозный план распространения рукописных экземпляров Мессы стоил Бетховену уймы времени, нервов, хлопот и отчасти даже унижений, но не принёс ожидаемого результата. Со всей Европы набралось всего лишь десять подписчиков, причём двое из них – в России. Почётный перечень владельцев рукописных копий впоследствии был опубликован в первом печатном издании партитуры, вышедшем в свет посмертно, в мае 1827 года, в майнцском издательстве «Сыновья Б. Шотта»:
«Его величество император России,
Его величество король Пруссии,
Его величество король Франции,
Его величество король Дании,
Его величество король Саксонии,
Его королевское высочество великий герцог Тосканы,
Его королевское высочество великий герцог Гессена,
Его светлость князь Николай Голицын, полковник русской императорской гвардии,
Его светлость князь Радзивилл,
Общество святой Цецилии во Франкфурте-на-Майне».
Князь Николай Борисович Голицын ещё в ноябре 1822 года обратился к Бетховену с просьбой сочинить для него три струнных квартета, на что тот с готовностью откликнулся (об этой истории мы ещё вспомним). Зная о восторженном отношении Голицына к его музыке, Бетховен послал ему приглашение подписаться на копию Торжественной мессы и просил посодействовать тому, чтобы на другие экземпляры подписались император Александр I и Санкт-Петербургское филармоническое общество. Голицын сделал даже больше, чем Бетховен мог ожидать. Согласие императора было получено через императрицу Елизавету Алексеевну, которая, вероятно, не забыла своих впечатлений от музыки Бетховена во время Венского конгресса. Филармоническое общество участие в подписке не приняло, но Голицын за свой счёт организовал мировую премьеру Торжественной мессы, состоявшуюся в Петербурге 26 марта (7 апреля) 1824 года – за месяц до того, как части Мессы были исполнены в Вене. В России, где католичество не было государственной религией, исполнить Мессу с латинским текстом в концертном зале оказалось возможно, хотя ради осторожности она была названа в афишах «Новой большой ораторией». Этот исторический концерт, данный силами Филармонического общества, хора Придворной певческой капеллы и солистов Немецкого театра в Петербурге, состоялся в доме купца Михаила Семёновича Кусовникова у Казанского моста (в настоящее время – Малый зал Петербургской филармонии). Концерт носил благотворительный характер; сбор шёл в помощь вдовам и сиротам музыкантов. Вряд ли, конечно, петербургская публика поняла и оценила такое грандиозное и сложное сочинение, но впечатление было сильным. Сам князь пришёл в полный восторг от услышанного и на следующий день писал Бетховену:
«Эффект, произведённый этой музыкой на публику, невозможно описать, и со своей стороны, не боясь преувеличения, я могу сказать, что никогда не слышал ничего более прекрасного; я не исключаю даже шедевры Моцарта, которые, при всех своих бесконечных красотах, не могли во мне породить таких ощущений, какие вызвали Вы, милостивый государь, посредством Kyrie и Gloria из Вашей Мессы. Искусная гармония и трогательная мелодия Benedictus переносят душу поистине в счастливый край. Наконец, всё сочинение являет собой сокровищницу красот, и можно сказать, что Ваш гений опередил века и что, быть может, пока нет настолько просвещённых слушателей, которые смогли бы сполна насладиться красотой Вашей музыки, однако потомки воздадут Вам почести и благословят Вашу память в гораздо большей мере, чем это в состоянии сделать Ваши современники. Князь Радзивилл, который, как Вы знаете, является страстным любителем музыки, несколько дней тому назад приехал из Берлина и присутствовал на премьере Вашей Мессы, которую он до сих пор не знал: он был так же потрясён ею, как я и все прочие слушатели».
Петербургское исполнение осталось единственным полным прижизненным исполнением любимого детища Бетховена, которое должно было идти «от сердца к сердцу». В Австрии Торжественная месса впервые целиком прозвучала лишь в 1830 году, причём – едва ли не единственный раз за всё время её существования – именно в рамках литургии, в церкви Святых Петра и Павла в небольшом селении Варнсдорф. Уже в XIX веке закрепилась традиция исполнять Торжественную мессу в концертах, как, собственно, и предполагал сам Бетховен.
Девятая симфония создавалась как «духовная сестра» Торжественной мессы, хотя получилась совершенно иной по своему характеру. Бетховен смог вплотную приступить к работе над ней лишь в 1822 году, когда Месса в общих чертах была уже готова и близилась к завершению.
Сочинение двух столь огромных, новаторских, вселенских по размаху произведений происходило по большей части в тихом уютном курортном Бадене, где Бетховен в 1820-е годы пристрастился проводить лето и часть осени. Останавливался он там в разных местах, как весьма фешенебельных (отели Вассерхоф и Зауэрхоф), так и в скромных бюргерских домах в центре города. Три сезона подряд, с 1821 по 1823 год, Бетховен был постояльцем «Дома медника» близ Ратушной площади, который принадлежал члену городского магистрата Иоганну Байеру. Именно в этом доме в настоящее время работает единственный в Бадене Музей Бетховена, а на прочих зданиях, отмеченных пребыванием композитора, висят мемориальные доски. Хотя подлинных бетховенских реликвий в «Доме медника» не сохранилось, в музее можно воочию увидеть, в какой аскетической обстановке создавалась Девятая симфония. Бетховен снимал жильё, которое выглядит явно не подобающим столь знаменитому человеку. Боковая лесенка ведёт в крохотную прихожую с угловой печью, тут же в тесной нише (спальней её назвать никак нельзя) помещалась кровать, рядом – единственная относительно просторная комната, в которой Бетховен и работал, и принимал гостей, приезжавших к нему из Вены. Сейчас музейная экспозиция развёрнута повсюду, включая подвальное помещение, но экскурсантам объясняют: у Бетховена здесь не было ни музыкального кабинета, ни столовой. Он мог пользоваться балконом и «садиком» – но что это был за «садик»? Крошечный кусочек земли, на котором росли, вероятно, цветы и пара деревьев. Там можно было посидеть и подышать свежестью, но не более того.
На прогулки Бетховен отправлялся в окрестности Бадена, которые полюбил так же сильно, как в юности любил окрестности родного Бонна. Правда, здесь не было большой величественной реки, вроде «батюшки Рейна»; через Баден протекает неширокая речка Швехат. Если идти по её течению на запад, можно прийти в живописную долину Хелененталь с руинами средневекового замка. Другая «бетховенская тропа», отмеченная на туристических путеводителях, ведёт от баденского курортного парка вверх, к воздвигнутому в 1927 году «храму Бетховена» – ротонде с рельефной маской композитора в стене и с аллегорической фреской под куполом. От ротонды путь лежит на лесистые холмы. Там растут сосны, дубы, клёны, бересклет, а по земле, камням и стволам деревьев густо вьётся плюш. Над узкой тропкой, огороженной ныне перилами, нависают скалы, между которыми, сражаясь за жизнь, высятся молодые и старые сосны, корни которых порой расплющены каменной тяжестью, но кроны героически устремлены к небу. Несмотря на то, что уютно-сказочный Баден – всего в нескольких минутах ходьбы, природа выглядит здесь дикой, а кое-где даже грозной, особенно в сумрачную и бурную погоду.
Как два этих мира, бытовой и неукротимо-стихийный, были связаны с Девятой симфонией? Возможно, никак, ибо в этом произведении нет ни «пейзажных» моментов, ни тем более нарочитой «народности». Тем не менее стоит попристальнее присмотреться к той реальности, которая окружала тогда композитора.
После Наполеоновских войн и Венского конгресса социальная среда, в которой раньше вращался Бетховен, сильно изменилась. Раньше в круг его общения входили венские аристократы, которых не пугала, а зачастую привлекала трудность и необычность его музыки. Но большинство этих людей в силу разных обстоятельств ушли из жизни (в 1812 году погиб князь Кинский, в 1814 году умер князь Карл Лихновский, в 1816-м – княгиня Каролина Лобковиц, а в конце года – её супруг, князь Франц Йозеф Максимилиан Лобковиц). Некоторые вельможи и аристократы разорились и были вынуждены сократить свои расходы на меценатство. Другие, являвшиеся скорее друзьями Бетховена, чем его покровителями, отошли в сторону по самым разным причинам. После 1817 года фактически прервалось близкое общение Бетховена с бароном Цмескалем – неизвестно, случилось ли это само собой или возникли какие-то трения (моралист Бетховен явно не одобрял беспорядочную личную жизнь Цмескаля). Нет сведений о том, что в этот период Бетховен переписывался или встречался с Брунсвиками, Францем и Терезой, хотя, согласно извещениям в «Венской газете», между 1817 и 1820 годами они оба неоднократно бывали в Вене. Поздравительный канон «Всех благ на Новый год», написанный 31 декабря 1819 года, стал последним памятником давней дружбе Бетховена с графиней Эрдёди: после затеянного против неё летом 1820 года скандального судебного процесса, где её пытались обвинить в причастности к смерти сына, графиня навсегда покинула Вену. Уехал в 1816 году за границу и князь Андрей Кириллович Разумовский, который всегда поддерживал Бетховена.
Из венских титулованных аристократов в кругу постоянных собеседников композитора остались лишь эрцгерцог Рудольф и граф Мориц Лихновский. Все остальные друзья, приятели, поклонники и добровольные помощники Бетховена принадлежали либо к нетитулованному дворянству (Стефан фон Брейнинг), либо к «третьему сословию» – очень пёстрой по своему составу среде, которая включала в себя и мелких государственных служащих, и сотрудников частных банков и фирм (в частности, издательств), и коммерсантов, и врачей, и преподавателей разных учебных заведений, и журналистов, и театральных деятелей, и, конечно же, музыкантов всех уровней и всех специальностей. Нетрудно заметить, что вокруг Бетховена практически не было военных, полицейских и священников. Правда, он сохранял почтительные отношения с престарелым аббатом Максимилианом Штадлером, другом Моцарта, и с отцом Игнацием Томасом, настоятелем венской церкви Святого Михаила, но общение с ними носило эпизодический характер. Окружение Бетховена 1820-х годов можно определить как мелкобуржуазное, а то и мещанское (брат Иоганн и его семья). Но это не значило, что в этой среде царил сытый конформизм. Скорее напротив: большинство друзей Бетховена были недовольны сложившимся положением дел.
После Венского конгресса 1815 года победная эйфория быстро улетучилась, и с каждым годом нарастала политическая реакция. Душились на корню любые поползновения на свободу мысли, не говоря уже о свободе выражения в искусстве и литературе. Вена была переполнена полицейскими осведомителями, и любое слишком вольное высказывание в кафе, театре или в университетской аудитории могло обойтись неосторожному оратору очень дорого. Увольнение со службы, предписание немедленно покинуть имперскую столицу, обыск, арест или даже тюремное заточение – такой была обратная сторона быта «старой доброй Вены» времён императора Франца I и его бессменного канцлера князя Клеменса фон Меттерниха. Да, венцы по-прежнему любили вкусно поесть, весело потанцевать, послушать приятную музыку, посмеяться в театре над оперой-буффа или комедией, и правительство по-отечески поощряло эти забавы. В моду входил новый бальный танец – вальс, который кое-где в Европе считали неприличным из-за близкого соприкосновения партнёров. В парке Пратер по-прежнему работали кофейни, рестораны, балаганы и даже цирк. Но говорить о политике вслух в таких местах было не принято, да и мало кто на это решался даже в кругу знакомых – рядом мог оказаться доносчик или же кому-то из соседей могло показаться подозрительным собрание молодёжи, которая не танцевала под звуки фортепиано, а что-то страстно обсуждала. Впрочем, и некоторые роды музицирования полиция считала предосудительными. В Германии, например, в первой трети XIX века стали весьма популярными любительские объединения певцов – певческие «круглые столы» или прочие общества, большей частью мужские по составу. Однако в Австрии их деятельность не поощрялась. В январе 1820 года в Вене было закрыто Общество любителей хорового пения, поскольку его репертуар показался властям политически окрашенным. Зато в Пруссии, где петь хором было всё-таки можно, в 1819 году запретили Гимнастическое общество, а его основатель Франц Людвиг Ян был посажен в тюрьму за насаждение опасных взглядов среди юношества и выпущен на свободу лишь в 1825 году.