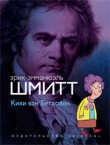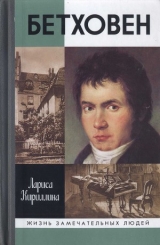
Текст книги "Бетховен"
Автор книги: Лариса Кириллина
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
Увертюра к «Эгмонту» была готова. Бетховен начал сочинять её ещё прошлой осенью, как только получил заказ. Она должна была непременно понравиться всем. Наконец-то Бетховена перестанут ругать за то, что он пишет бесформенно и непонятно. Здесь всё очевидно и ясно, но не в ущерб вдохновению и мастерству. Суровая сила испанской власти, жестокость герцога Альбы, геройство восставших брюссельцев, отвага графа Эгмонта, его гибель на плахе – и посмертный триумф.
Больше всего Бетховена тревожили песни. По ходу действия Клерхен должна была исполнить одну лирическую песню и одну воинственную. Роль возлюбленной Эгмонта была поручена молоденькой актрисе Антонии (Тони) Адамбергер. Эта девушка хорошо показала себя в драматических пьесах. Но – петь под оркестр? Бетховен решил встретиться с Адамбергер и лично выяснить, каковы её музыкальные способности. В их наличии он почти не сомневался: рано осиротевшая Тони была дочерью знаменитого тенора Валентина Адамбергера, первого Бельмонта в моцартовском «Похищении из сераля», и известной актрисы, служившей в Бургтеатре. И Бетховену тоже довелось убедиться в том, что Тони – не просто актриса, а очень незаурядная личность. Никаких романтических отношений между ними не возникло, однако о том, как протекала их первая встреча, рассказывала впоследствии сама Антония.
Из мемуаров Антонии фон Арнет, урождённой Адамбергер:
«Я была тогда ребячливым, весёлым, юным созданием, которое не отдавало себе отчёта в том, с каким человеком я общалась. Тогда он вообще мне не нравился, и только сейчас, в мои шестьдесят семь лет, я сполна понимаю, каким счастьем было познакомиться с ним. Потому, когда моя покойная тётушка, ставшая мне воспитательницей и благодетельницей, позвала меня в свою комнату и представила ему, я держалась очень непринуждённо. На его вопрос: „Умеете ли вы петь?“ – я без колебаний ответила: „Нет“. – „Но я должен написать для вас песни к ‘Эгмонту’“. – Я честно ответила, что в течение четырёх месяцев брала уроки пения, но прекратила их, поскольку возникли опасения, что чрезмерное напряжение при одновременном обучении декламации повредит моему голосу. Тогда он весело пошутил на венском диалекте: „Ну, сейчас мы вас выведем на чистую воду“. И случилось нечто восхитительное. Мы пошли к фортепиано и взяли мои ноты из наследия моего отца. Когда-то я всё повторяла за ним как попугай и многое отлично помнила наизусть. Бетховен увидел лежавшие сверху очень популярные тогда речитатив и рондо из „Ромео и Джульетты“ Цингарелли.
„Вот это вы сейчас споёте!“ – воскликнул он с усмешкой и с некоторым сомнением сел аккомпанировать мне. Столь же беспечно, как я с ним болтала и шутила, я пропела эту арию. Его взгляд преисполнился благожелательностью. Он прикоснулся к моему лбу и сказал: „Ага, теперь я всё знаю“.
Через три дня он снова пришёл и спел мне те песни. Когда спустя несколько дней я их выучила наизусть, он мне сказал: „Да, теперь всё в порядке. Ну да, да, вы можете петь, не заставляйте себя упрашивать и не притворяйтесь передо мной, будто сейчас умрёте“.
Он ушёл, и больше я его у себя не видела. Лишь на репетиции, когда он сам дирижировал, он мне часто кивал с дружеской симпатией».
Радость, страданье, раздумья в тиши,
Страхи и вздохи смятенной души,
То ликованье, то смертная боль:
Счастлив лишь тот, кем владеет любовь!
Иоганн Вольфганг Гёте «Эгмонт», первая песня Клерхен
Бетховен – Францу Герхарду Вегелеру в Кобленц, 2 мая 1810 года:
«…Около двух лет тому назад моё тихое и безмятежное существование закончилось, и я оказался насильно втянутым в светскую жизнь. Никакой пользы я от этого ещё пока не вижу; скорее, наоборот. Но на кого же не воздействуют бури, бушующие вокруг? Тем не менее я был бы счастливым человеком, быть может, одним из счастливейших, когда бы не демон, поселившийся в моих ушах. Не прочти я где-то о том, что человек не имеет права самовольно распроститься с жизнью, пока он в состоянии совершить ещё хоть одно доброе дело, меня бы давно уже не было, я бы покончил с собой. О, жизнь так прекрасна! Но моя навсегда отравлена.
Ты не откажешь мне в дружеской услуге, если я попрошу тебя, чтобы ты для меня раздобыл моё свидетельство о крещении. <…> Кое-что тут, между прочим, надобно принять во внимание, а именно: что был ещё один брат, названный тоже Людвигом, но с добавлением Мариа, который родился раньше, чем я, но умер. Для верного определения моего возраста следует, стало быть, найти сперва сведения о нём, ибо я заведомо знаю, что тут возникла ошибка и что есть люди, полагающие, будто я старше, нежели на самом деле. К сожалению, я прожил какое-то время, сам не зная, сколько мне лет. Была у меня раньше родословная, но она, бог весть как, затерялась. Итак, не сердись на меня за горячую просьбу о розысках как Людвига Мариа, так и теперешнего Людвига, увидевшего свет после него. Чем скорее ты пришлёшь мне свидетельство, тем более меня обяжешь…»
Попытка Бетховена посвататься весной 1810 года к Терезе Мальфатти завершилась болезненным для него ударом. В письме Вегелеру от 2 мая содержалась просьба прислать в Вену копию свидетельства о крещении – этот документ был необходим при заключении брака. Стало быть, в начале мая Бетховен ещё надеялся, что его предложение будет принято, как было принято примерно в те же дни брачное предложение Глейхенштейна, сделанное Анне Мальфатти.
Неизвестно, что именно привело к разрыву. Судя по некоторым намёкам в письмах Бетховена, причиной могла стать его собственная эмоциональная импульсивность – уже считая себя женихом любимой девушки, он мог допустить в общении с ней какие-то вольности («безумства», по его собственному выражению). Хотя семья Мальфатти не принадлежала к высшему свету, определённые правила этикета должны были соблюдаться и здесь. Однако Мальфатти явно стремились избежать скандала. Бетховен был знаменитостью, и к тому же – близким другом Глейхенштейна, уже помолвленного с одной из сестёр. Поэтому семья Мальфатти решила не отказывать Бетховену от дома совсем, но ограничиться лишь его приглашением на музыкальные вечера. Это решение было воспринято им самим как едва ли не оскорбительное. Бетховен с едкой горечью писал Глейхенштейну в начале мая 1810 года:
«…Твоим известием я снова низвергнут из сферы высшего блаженства в глубокую пропасть. К чему эта приписка, что ты-де, мол, меня оповестишь, когда там снова будет музыка? Да неужто же я не что иное, как только состоящий при тебе или при ком-нибудь игрец? Так, по крайней мере, можно понять. Опору свою, стало быть, я снова должен искать лишь в себе самом; вне меня её, стало быть, не существует. – Нет, ничего, кроме страданий, не приносит мне ни дружба, ни подобные ей чувства. – Ну что же, пусть будет так. Для тебя, бедный Б[етховен], не существует счастья вовне. Всё для себя ты должен создавать в себе самом, и только в мире идеалов ты найдёшь друзей. – Я прошу тебя меня утешить – не сам ли я виновен в том, что вчера произошло? Если ж ты не можешь утешить, то скажи мне правду, я её выслушаю так же охотно, как высказываю. Сейчас ещё есть время, и правда ещё может послужить мне на пользу…»
Видимо, он надеялся, что ошибку можно исправить. Тем временем семья Мальфатти покинула Вену и переехала в своё имение под Кремсом, в Валькерсдорф, примерно в 60 километрах от столицы. Бетховен собирался под любым предлогом приехать туда, но, видимо, Глейхенштейн убедил друга в том, что его внезапное появление лишь подольёт масла в огонь. К тому же музыка к «Эгмонту» ещё не была полностью готова – на 24 мая была назначена премьера, но объёмистую партитуру только начали расписывать по голосам. К премьере Бетховен со всем этим справиться не успел, и первый спектакль с его музыкой состоялся лишь 15 июня.
Глейхенштейн, уехавший в начале мая в Валькерсдорф, привёз с собой письмо от Бетховена Терезе, написанное накануне поздно вечером, причём, как сообщал Бетховен другу, выдержанное в таком стиле, «что его может читать весь мир». Письмо оказалось во всех отношениях поучительным.
Бетховен – Терезе Мальфатти, май 1810 года:
«С этим письмом, досточтимая Тереза, я посылаю Вам то, что обещал, и если бы мне не помещали серьёзнейшие препятствия, я бы послал ещё больше, дабы показать Вам, что для своих друзей я всегда делаю больше, чем обещаю. Надеюсь и не сомневаюсь, что Вы так же хорошо занимаетесь, сколь приятны и Ваши развлечения, – последние, однако, не должны Вас увлекать настолько, чтобы Вы вовсе не вспомнили о нас – впрочем, я, конечно, обольстил бы себя иллюзиями относительно Вас или же преувеличил свои собственные достоинства, если бы применил к Вам изречение: „Люди не только тогда бывают вместе, когда они друг подле друга. И оторванные от нас, и ушедшие от нас – живы для нас“. Кому придёт в голову приписывать нечто подобное непостоянной, беспечно порхающей Т[ерезе]?
Что до Ваших занятий, то не забрасывайте фортепиано или вообще музыку в широком смысле. У Вас к ней такой прекрасный талант, почему же его не культивировать должным образом? Обладая столь развитым чувством всего прекрасного и доброго, почему Вы не хотите направить своё дарование к тому, чтобы распознать в таком дивном искусстве то совершенство, которое в нас постоянно вновь отражается?
Я веду теперь очень одинокую, тихую жизнь. Хотя и мигают кое-где огоньки, зовущие меня пробудиться, но с тех пор, как вы все уехали, я ощущаю такую пустоту, что даже моя муза, которая обычно никогда меня не покидает, ещё не смогла её восполнить и одержать победу. Ваше фортепиано заказано, и Вы вскоре его получите. Какую разницу заметите Вы в теме, придуманной однажды вечером, по сравнению с тем изложением, что записал я для Вас недавно! Уясните себе это сами, но только не прибегайте к помощи пунша.
Какая Вы счастливая, что так рано отправились за город! Я же смогу наслаждаться сельской жизнью лишь начиная с восьмого числа, чему радуюсь как дитя. Я испытываю такое блаженство, когда получаю возможность пройтись по лугам и лесам, среди деревьев, кустарников и скал. Никто так не может любить деревню, как я, – ведь леса, деревья и скалы отвечают человеку эхом, которое он жаждет услышать. —
Будьте любезны передать Вашей милой сестре Наннетте песню в переложении для гитары. Я переписал бы и мелодию, не будь у меня так мало времени.
В скором времени Вы от меня получите ещё несколько композиций, на трудность которых Вам не придётся сетовать. Читали ли Вы „Вильгельма Мейстера“ Гёте и сочинения Шекспира в переводе Шлегеля? Живя в деревне, имеешь много свободного времени; думаю, что Вам будет приятно, если я пришлю Вам эти книги.
По воле случая неподалёку от Вас живёт один мой знакомый, так что, возможно, как-нибудь ранним утром я на полчасика к Вам заявлюсь и снова уйду. Как видите, я намерен докучать Вам очень недолго. Препоручите меня расположению Вашего батюшки и Вашей матушки, хотя право на подобную претензию мною ещё не заслужено. Поклонитесь от меня и Вашей сестре Н[аннетте].
Прощайте, досточтимая Тереза, желаю Вам всего, что есть в жизни лучшего и прекраснейшего. Вспоминайте обо мне чаще и забудьте моё безрассудное поведение. Не сомневайтесь в том, что никто Вам не желает более радостной, счастливой жизни, чем я, причём даже в том случае, если Вас совершенно не интересует Ваш преданнейший слуга и друг
Бетховен.
NB. Было бы очень мило, если бы Вы мне черкнули пару строк относительно того, чем могу я Вам быть здесь полезным».
Нелишне ещё раз напомнить, что «досточтимой Терезе» было всего 18 лет, и было бы совершенно несправедливо винить её в том, что она не смогла ответить на любовь почти сорокалетнего Бетховена, внешние изъяны которого явно перевешивали в глазах девушки все его внутренние достоинства. Об истинной цене этих достоинств она, как и Тони Адамбергер, вряд ли вообще тогда догадывалась.
Приведённое выше письмо ясно говорит о том, что Бетховен искал в своих подругах не только «вечной женственности» (das ewig Weibliche), но и, если воспользоваться другим выражением Гёте, «избирательного сродства» – духовной близости, основанной на общности литературных и музыкальных интересов. Письмо Терезе Мальфатти – своего рода маленькая «педагогическая поэма», в которой Бетховен пытается привить юной возлюбленной вкус к серьёзной литературе (Шекспир, Гёте) и к собственной музыке. Вместе с письмом он послал сёстрам Мальфатти пакет с нотами. Хотя из текста письма неясно, какие произведения туда входили, это стало в какой-то мере известно впоследствии, когда исследователи добрались до архива Терезы. Тереза, в замужестве баронесса фон Дросдик, умерла в 1851 году, передав принадлежавшие ей ноты другу семьи, пианисту и композитору Рудольфу Шахнеру. Тот, в свою очередь, отдал на хранение это нотное собрание своей матери, Бабетт Бредль. Известный бетховенист Людвиг Ноль навестил в 1865 году в Мюнхене эту даму, которая позволила ему ознакомиться с коллекцией бетховенских рукописей. Вероятно, после смерти Бредль ноты вернулись к Шахнеру, умершему в 1896 году, однако судьба его наследия доселе неизвестна.
Среди нот, полученных Терезой от Бетховена в 1810 году, были песни на стихи Гёте: «Миньона» (№ 1 ор. 75 – «Ты знаешь край»), «Блаженство скорби» и «Стремление» (из ор. 83), а также вторая песня Клерхен из «Эгмонта» («Гремят барабаны»). В одном из писем Бетховена Глейхенштейну упоминается также некая соната. Он мог послать ей одну из своих небольших сонат. Таковых в то время было две: Соната ор. 78 фа-диез мажор (№ 24), посвящённая Терезе Брунсвик, и Соната ор. 79 соль мажор (№ 25), оставшаяся без посвящения. Возможно, речь шла именно о последней сонате. Существует, правда, предположение, что Соната ор. 79 могла быть предназначена для Вики Дейм – дочери Жозефины, которая не только являлась ученицей Мари Биго, но и вплоть до весны 1809 года находилась в её доме в качестве воспитанницы. Однако в фактуре Сонаты ор. 79 есть места, трудноватые для маленьких рук девятилетней девочки.
Архив Терезы Мальфатти преподнёс исследователям загадку, связанную с одной из самых знаменитых пьес Бетховена – фортепианной багателью «К Элизе» (на самом деле, если переводить буквально, «Для Элизы»). В 1865 году Людвиг Ноль видел бетховенский автограф этой пьесы, текст которой впервые опубликовал два года спустя. Посвятительная надпись, согласно его расшифровке, гласила: «Für Elise am. 27 April zur Erinnerungan L. v. Bthvn» – «Для Элизы. 27 апреля, на память от Л. в. Бтхвн».
Тут же возникли вопросы, на которые пока нет ответов. Прежде всего – кто такая Элиза и какое отношение она могла иметь к семье Мальфатти и к Бетховену? Год написания багатели в автографе не значился, но, зная об увлечении Бетховена Терезой, напрашивается 1810 год, и дата «27 апреля» этому не противоречит. До начала мая Бетховен надеялся, что его предложение о браке будет принято, и к тому же знал, что семья Мальфатти собирается за город (поэтому музыкальный сувенир был вполне к месту). Намёк на свежесочинённую пьесу содержится и в письме Бетховена Терезе: «Какую разницу заметите Вы в теме, придуманной однажды вечером, по сравнению с тем изложением, что записал я для Вас недавно!» Никакой другой фортепианной пьесы в этот период им создано не было.
Но всё-таки: при чём тут «Элиза»?..
К сожалению, автограф пьесы бесследно исчез. Зато обнаружился ранний набросок основной темы багатели, записанный среди эскизов «Пасторальной симфонии» ещё в 1808 году, так что никаких сомнений в авторстве Бетховена быть не может. Однако Макс Унгер, бетховенист первой половины XX века, высказал предположение, что Ноль мог ошибиться в расшифровке надписи, сделанной, вероятно, готической скорописью. Унгер выдвинул версию, что вместо «Für Elise» следовало читать «Für Therese». Тогда всё вставало на свои места: дата, романтическая история неудачной влюблённости и имя девушки. Но, с другой стороны, Людвиг Ноль, опытный текстолог, вряд ли принял бы «Терезу» за «Элизу». Он и сам удивлялся этому расхождению, предполагая, что во владении Терезы Мальфатти случайно могла оказаться пьеса, адресованная другой приятельнице Бетховена.
Однако, насколько это известно, в близком окружении Бетховена в тот период не было девушки или молодой дамы с таким именем. Все знакомые Бетховену Элизы не годились на роль адресаток этого музыкального послания. Посвящение, в котором указывалось только имя, подразумевало, что речь идёт о незамужней особе, и говорило либо о совсем юном возрасте девушки, либо о её близких дружеских отношениях с Бетховеном.
В начале XXI века поиски загадочной «Элизы» резко оживились. Клаус Мартин Копиц выдвинул в 2010 году предположение, что багатель могла быть написана для сестры тенора Йозефа Августа Рёккеля – певицы Марии Евы Рёккель, иногда выступавшей под псевдонимом Элиза Рёккель, а в 1813 году ставшей женой друга Бетховена – Иоганна Непомука Гуммеля. Она вспоминала на старости лет, что Бетховен слегка с ней флиртовал до её замужества. Но, во-первых, она никогда и нигде не упоминала о какой-либо посвящённой ей пьесе Бетховена, во-вторых, не носила имени Элизабет ни официально, ни в семейном кругу, а в-третьих, никак не была связана с семьёй Мальфатти.
Исследовательница Рита Стеблин попыталась найти подходящую «Элизу» в окружении Мальфатти. В 2012 году ей удалось обнаружить Элизу Баренсфельд, юную певицу и пианистку, ученицу механика и музыканта Иоганна Непомука Мельцеля. Эта Элиза проживала в доме, стоявшем напротив дома семьи Мальфатти. Если допустить, что Элиза и Тереза были знакомы, то, конечно, они могли бы обмениваться и нотами. Однако всё это – крайне зыбкие предположения. Не слишком верится в то, что, будучи влюблён в Терезу Мальфатти и спешно занимаясь завершением музыки к «Эгмонту», Бетховен стал бы писать пьесу для ученицы Мельцеля, даже если бы он знал эту девушку. Но никаких доказательств их знакомства нет.
Австрийский музыковед Михаэль Лоренц, раскритиковавший в 2014 году версию Стеблин, предположил, что разгадку тайны содержал исчезнувший автограф багатели. Ибо никто ныне не может сказать, были ли написаны слова «Для Элизы» и «27 апреля, на память от Л. в. Бтхвн» одной и той же рукой. Лоренц обратил внимание на то, что и жена, и дочь Рудольфа Шахнера, владевшего автографом пьесы, носили имя Элизабет. Следовательно, дарственную надпись «Для Элизы» мог добавить Шахнер, а к Бетховену она не имела отношения. Однако и эта версия остаётся лишь гипотезой.
Но, если надпись «Für Elise» принадлежала всё-таки Бетховену, а пьеса тем не менее была подарена Терезе Мальфатти, за всем этим, как нам думается, мог таиться литературный шифр. В письме Глейхенштейну от 12 марта 1809 года Бетховен просил друга подыскать ему в Баварии красивую невесту, оговаривая, что «Элизой Бюргер она быть не должна».
Нашумевшая история любви поэта Готфрида Августа Бюргера и его жены, актрисы и поэтессы Элизабет Хан, была понятна современникам без разъяснений. Сейчас такие разъяснения, пожалуй, необходимы. Элизабет Хан принадлежала к плеяде «немецких амазонок» рубежа XVIII–XIX веков – одарённых, независимых и свободных в своих поступках женщин. Заочно влюбившись в Бюргера, Элизабет направила ему стихотворное признание с предложением руки и сердца. Бюргер, тронутый порывом талантливой девушки, ответил стихотворением «К Элизе» («An Elise»), содержание которого чем-то перекликается с настроением бетховенской пьесы.
О, что звучит из рощи миртов?
Невесты ль сладостный призыв?
Как сердца страх и стук неистов
В ответ на чувств твоих прилив!
Певунья, что ты затеваешь?
Со мной ты в поддавки играешь,
Чтоб бросить, нежно подманив?..
Готфрид Август Бюргер «К Элизе»
Намёк на «Элизу Бюргер» в письме Глейхенштейну подтверждает возможность подобной ассоциации. Только та давнишняя история любви завершилась печально: Элиза не смогла ужиться с супругом и вскоре его покинула, вернувшись на сцену (она успешно выступала в Дрездене). Стихотворение же Бюргера осталось памятником этому поэтическому роману.
Той же весной 1810 года, едва успели немного утихнуть страсти вокруг Терезы Мальфатти, к Бетховену самочинно явилась другая чаровница. Гостью, кстати, вполне могли бы звать Элизой, поскольку полное её имя было Элизабет. Но все с детства называли её Беттиной – Беттиной Брентано.
Удивительным образом их знакомство напоминало историю Элизы Хан и Бюргера, хотя отношения 25-летней Беттины Брентано с Бетховеном остались сугубо платоническими и она вовсе не помышляла выходить за него замуж. Однако многосторонняя одарённость Беттины (она хорошо владела словом, пела, сочиняла музыку, рисовала), её яркая внешность и смелость поведения произвели на Бетховена огромное впечатление. Важным было для него и то, что эта девушка была тесно связана с Гете.
Впоследствии, в 1830-х годах, она стала известной писательницей, Беттиной фон Арним. Можно было бы поддаться очарованию её беллетристической манеры и цитировать обширные фрагменты из книги «Переписка Гёте с ребёнком» или из романа «Илиус Памфилиус и Амброзия», где целые страницы посвящены описанию встреч и разговоров с Бетховеном. Но если сопоставлять написанное Беттиной с документами и свидетельствами других людей, не склонных к фантазиям, то вскоре выяснится, что её тексты носят скорее художественный, нежели мемуарный характер.
Беттина происходила из франкфуртской семьи Брентано, имевшей итальянские корни. Основатель семьи, Петер Антон Брентано, поселился в 1762 году во Франкфурте. От трёх браков он имел 20 детей. Вторая из его жён, Максимилиана Ла Рош, некоторое время была возлюбленной Гёте, и Беттина, её дочь, писала впоследствии, что великий поэт, ставший к тому времени просто другом дома, был первым, кто взял на руки родившуюся 4 апреля 1785 года девчушку и поднёс её к окну, за которым сияло солнце. История поэтическая, но, возможно, такая же вымышленная, как и многие другие рассказы Беттины. На самом деле в круг Гёте она вошла, будучи уже взрослой и подружившись сперва с матерью поэта, продолжавшей жить во Франкфурте-на-Майне.
Старшим единокровным братом Беттины был Франц Брентано (1765–1844). После смерти отца в 1797 году он стал главой семейной фирмы, которая под его руководством достигла процветания. И в следующем году он женился на Антонии фон Биркеншток – уроженке Вены, дочери богатого и влиятельного коллекционера предметов искусства, Мельхиора фон Биркенштока.
Биркеншток выдал восемнадцатилетнюю Тони замуж, не интересуясь её желаниями; 32-летний Франц на первых порах казался ей совершенно чужим человеком, с которым она никак не могла решиться перейти на «ты». В доме мужа во Франкфурте ей пришлось взять на себя роль хозяйки огромной семьи, поскольку на попечении Франца оказались все его несовершеннолетние братья и сёстры, а вдобавок у четы появились свои дети. Всё это лишь усилило тоску Антонии по родному городу. Согласно брачному контракту, ей позволялось раз в два года приезжать в Вену и оставаться там на довольно продолжительный срок.
Была ли Антония Брентано знакома с Бетховеном до 1810 года? Сама Антония на старости лет это отрицала. Но трудно представить себе, что, периодически гостя в Вене у отца, она совсем не появлялась в обществе, не ходила на концерты и не бывала в театрах. Бетховен же, вопреки своей репутации мрачного анахорета, общался с весьма широким кругом людей. Скорее всего, он был знаком и с Биркенштоком.
В октябре 1809 года Антония и Франц перебрались в Вену, поскольку Биркеншток был при смерти. Он оставил после себя огромный дом в пригороде Ландштрассе, до предела заполненный хаотично собиравшимися коллекциями. Чтобы расстаться с этим имуществом, требовалось составить полную опись, чем Антония и занималась. Каталог библиотеки, включавшей около семи тысяч названий, был опубликован 18 сентября 1810 года; в июле 1811-го Бетховен рекомендовал библиотекарю эрцгерцога Рудольфа приобрести некоторые редкие ноты из этой коллекции.
Беттина в книге «Переписка Гёте с ребёнком» (1835) дала колоритное описание дома, которого сейчас больше нет (он был снесён в 1911 году):
«Я живу здесь в доме покойного Биркенштока, среди двадцати тысяч гравюр, примерно такого же количества рисунков, сотен древних урн и этрусских светильников, мраморных ваз, обломков рук и ног античных статуй, картин, китайских одежд, монет, минералов, коллекций насекомых, линз, бесчисленного количества карт и чертежей исчезнувших царств и государств, искусной резьбы, драгоценных документов и, в довершение всего, тут есть меч императора Карла. Вся эта пёстрая мешанина окружает тут нас, и её следует привести в порядок, так что ничего нельзя трогать и ни в чём нельзя разобраться».
Франц Брентано часто уезжал по торговым делам и месяцами жил во Франкфурте вместе с сыном Георгом (дочери оставались с матерью в Вене). Антония нередко болела в капризном венском климате и чувствовала себя одинокой. Поэтому приезд в мае 1810 года родственников мужа – сестёр Беттины и Кунигунды, и жениха последней, берлинского учёного Фридриха Карла де Савиньи – стал для неё радостным сюрпризом. И именно Беттина, если верить позднейшим воспоминаниям Антонии, познакомила её с Бетховеном. Впрочем, тут тоже есть свои неясности: например, откуда Беттина могла узнать адрес Бетховена? Может быть, его всё-таки знала Антония?
В книге «Переписка Гёте с ребёнком» Беттина приводит своё письмо поэту, датированное 28 мая 1810 года. Думается, публикуя его в 1835 году, Беттина многое присочинила:
«Я хочу рассказать Тебе о Бетховене, рядом с которым я забыла весь мир и даже Тебя. Дар речи почти покинул меня, но вряд ли я ошибусь, если скажу (а этого сейчас никто не понимает и никто в это не верит), что он намного обогнал в развитии всё человечество. Догоним ли мы его когда-нибудь? Сомневаюсь. <…>
Все человеческие потребности кажутся ему чем-то преходящим. Он свободно отдаётся чему-то неслыханному и неизбывному. Что значит для него общение с миром? Уже на восходе солнца он занят своим священным трудом, а после наступления тьмы уже не смотрит вокруг; он забывает о необходимости питать свою плоть, а поток вдохновения возносит его на своих крыльях высоко над скучными житейскими потребностями. Он сам говорил: „Когда я открываю глаза, у меня вырывается вздох – окружающий мир настолько противоречит моей религии, что мне остаётся лишь его презирать, ибо он не понимает, что музыка – куда более высокое откровение, нежели вся мудрость и философия. Она – вино, внушающее новые открытия, а я – тот Вакх, что готовит это вино для человечества и доводит его до духовного опьянения; если люди смогут этим воспользоваться, они обретут то, что потом вынесут на твёрдую почву. У меня нет ни одного друга; я должен жить в одиночестве, но я знаю, что Бог ко мне ближе, чем к кому-либо другому в моём искусстве. Я взираю на него без страха, я понял его и принял. И я не тревожусь за будущее своей музыки. У неё не может быть превратной судьбы, ведь любой, кто сможет её понять, избавится от всякой духовной нищеты, в которой влачатся все прочие“.
Всё это Бетховен сказал мне при первой встрече. Меня пронзило чувство благоговения; ведь он общался со мной так дружески и откровенно, хотя я должна была показаться ему незначительной особой. Ещё больше я удивилась, когда мне сказали, что он сторонится людей и вообще ни с кем не разговаривает. Никто не хотел сопровождать меня к нему, пришлось разыскивать его в одиночку. У него три квартиры, в которых он по очереди скрывается: одна за городом, другая внутри городских стен, а третья у бастиона. Там-то я и нашла его на четвёртом этаже и вошла без доклада. Он сидел за фортепиано. Я назвала своё имя; он очень дружелюбно спросил, не хочу ли я послушать только что сочинённую им песню. Он спел её резким и пронзительным голосом, вызывающим у всякого слушателя болезненное ощущение: „Ты знаешь край…“
– Правда, это прекрасно? – спросил он воодушевлённо.
– Просто чудесно! Я хочу услышать её ещё раз!
Моё горячее одобрение обрадовало его. „Большинство людей бывают растроганы чем-то хорошим. Но это не художественные натуры. Художники сделаны из огня, они не плачут“. Потом он спел ещё одну песню на Твои стихи, сочинённую им на днях: „Лейтесь вновь, слёзы любви бесконечной“. Он проводил меня домой и по пути высказал много прекрасного об искусстве, причём говорил настолько громко, останавливаясь посреди улицы, что требовалось немалое мужество, чтобы его слушать. Он говорил с огромной страстью такие удивительные вещи, что я тоже забывала о происходящем вокруг.
Когда я привела его с собой к нам на обед, где собралось большое общество, люди были безмерно удивлены. После обеда он, не заставляя себя упрашивать, сел за инструмент и играл долго и чудесно. Его гордость неотделима от его гения. В таком состоянии его дух постигает непостижимое, а его пальцы творят невозможное».
Если сравнить эти вдохновенные пассажи со свидетельством пожилой Антонии Брентано, то выяснится, что всё обстояло куда прозаичнее. Во-первых, мнение Беттины о нелюдимости Бетховена было явно преувеличенным. Во-вторых, первая его встреча с Беттиной происходила совершенно иначе. Девушка из приличной семьи не могла бы в одиночку явиться на квартиру к неженатому мужчине. Беттину сопровождала её замужняя родственница, Антония Брентано. Адрес указан верно – это была квартира в доме барона Пасквалати на Мёлькербастай. Никаких трёх квартир у него в мае 1810 года не было: загородное жильё ещё не было снято, а с прежней квартиры на Вальфишгассе он съехал в конце апреля.
Антония Брентано вспоминала, что Бетховен принял посетительниц не сразу. Он, по своему обыкновению, заработался и забыл с утра побриться и, пока они дожидались в гостиной, приводил себя в порядок.
С Беттиной как источником информации всё обстоит очень непросто ещё и потому, что в описанных ею эпизодах вполне могли содержаться и зёрна истины. Бетховен-молчун, произносящий при этом длинные монологи, насыщенные поэтическими метафорами и философскими понятиями, выглядит чисто литературной фигурой. Но кое-что из мыслей, вложенных в его уста, вовсе не противоречит тому, что он действительно высказывал в письмах. Комментаторы текстов Беттины обращали внимание, в частности, на одну важную деталь, содержавшуюся в последующей части того же самого, очень длинного, письма, а именно – на словечко raptus («блажь», «наитие»), которое было в ходу в доме Брейнингов в Бонне и которое Беттина никак не могла выдумать. Беттина, глубоко потрясённая его словами, якобы записала его монологи об искусстве и дала ему на другой день прочитать. Бетховен удивился: «Я это говорил? Ну, значит, у меня был raptus».