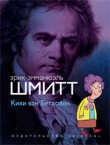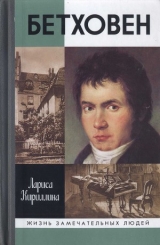
Текст книги "Бетховен"
Автор книги: Лариса Кириллина
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
Всё вокруг продолжало рушиться, все связи рвались, все дружбы обращались в ничто…
Уехали супруги Биго. Они решили податься в Париж. В родном Эльзасе им было нечего делать, а в Австрии они превратились в нежелательных иностранцев.
Из города эвакуировали Военное министерство, придворную канцелярию и всё, что не должно было попасть в руки врага. Вместе со своим департаментом Вену покинул Цмескаль. Подчиняясь служебному распоряжению, уехал и Брейнинг – возможно, это было и лучше, поскольку, оставаясь дома, он доходил в своей скорби по юной жене до потери рассудка.
1 мая 1809 года стало для Вены «чёрным» днём. Столицу покинул императорский двор. Всем стало ясно, что война, начатая во славу австрийского оружия, обернулась чудовищной катастрофой. Эрцгерцог Карл, потеряв убитыми, ранеными и пленными около пятидесяти тысяч солдат, был вынужден отступить в Чехию и оставить столицу врагу.
Наполеон шёл прямо на Вену – в точности как осенью 1805 года. Правда, на сей раз городской гарнизон и ополченцы не собирались сдаваться без сопротивления. 2 и 3 мая фельдмаршал-лейтенант Хиллер с невероятным упорством и героизмом пытался удержать мосты на Дунае, дабы остановить наступление французов на Вену и дать возможность организовать оборону до ожидаемого подхода эрцгерцога Карла. Но эрцгерцог не мог рисковать остатками армии.
Вена была обречена, хотя до последнего надеялась на спасение.
Одна из поздних месс Гайдна носила название In tempore belli — «Месса времён войны». Но тогда, в 1797 году, война обошла Вену стороной. В мае 1809 года стало ясно, что следует ожидать самого худшего.
В эти дни Бетховен начал писать свою Двадцать шестую сонату для фортепиано, над первой частью которой пометил: «Прощание. На отъезд его императорского высочества эрцгерцога Рудольфа 4 мая 1809». Если не знать, что творилось в это время в Вене, можно подумать, будто речь шла об отправлении эрцгерцога в приятное путешествие. На самом деле Рудольф, человек сугубо мирный, бежал от войны. В музыке бетховенской сонаты нет никаких намёков на военные события, она о другом – о человеческих чувствах в момент расставания. Эти чувства столь тонки, многозначны, пронизаны мерцающими нитями зашифрованных ассоциаций, что как-то не слишком верится, что истинным героем данного «романа в звуках» мог быть собственно Рудольф. Не в одном эрцгерцоге было, конечно, дело. Просто он был единственным, которому в тот момент можно было открыто и безбоязненно посвятить эту поэму о разлуке, одиночестве и надежде на новую встречу.
Эрцгерцогу же оказалось посвящено и крупнейшее произведение, созданное Бетховеном предвоенной весной 1809 года, – Пятый фортепианный концерт, в котором слышны и фанфары, и громоподобная поступь полков, отправляющихся с парада прямо в сражение, и ярость битвы, и мольба к небесам, и всеобщий пляс в честь победы. Этот концерт, самый грандиозный, сложный и виртуозный из всех концертов классической эпохи, сам Бетховен уже не играл. Возможно, создавая его, он надеялся, что в конце года получит зал Ан дер Вин для очередной академии и там триумфально исполнит этот нечеловечески трудный шедевр. Но из-за военных событий Бетховену не удалось устроить бенефисной академии ни в 1809 году, ни в три последующих года. Эрцгерцог тоже не мог позволить себе исполнять Пятый концерт на публике. Единичные попытки других пианистов представить публике этот концерт при жизни Бетховена не имели большого успеха. Так что великое произведение, воплотившее в себе героический и воинственный дух своего времени, осталось практически неизвестным тем самым венцам, которые в 1809 году записывались в ополчение, защищали свой город, погибали в сражениях, претерпевали – как и сам Бетховен – все бедствия, выпавшие на долю поверженных…
Вслед за сонатой и концертом был завершён Струнный квартет ор. 74 (№ 10), ми-бемоль мажор, посвящённый князю Лобковицу. Это произведение озадачило критика лейпцигской «Всеобщей музыкальной газеты». Рецензент напоминал композитору, что «квартет – это не тот род музыки, в котором надлежит выражать скорбь по усопшим или выражать отчаяние; напротив, он должен радовать слух добродетельно-мирной игрой воображения». Видимо, критика смутили две средние части квартета: мажорное, но проникнутое томительной скорбью Адажио – и гневное, страстное, вихревое минорное Скерцо с упорно колотящимся ритмом, в котором угадывается «мотив судьбы» из Пятой симфонии. У Бетховена было кого и что оплакивать весной и летом 1809 года и было по поводу чего негодовать и бросать укоры немилосердному Небу.
В ночь с 11 на 12 мая французы начали массированную артиллерийскую бомбардировку Вены. На город обрушилось примерно две тысячи снарядов, вызвавших в центре города сильные разрушения и пожары. Горожане прятались в подвалах. Бетховен спасался вместе с семьёй брата Карла Каспара. Война их вновь примирила и сблизила. В подвале дома, где жил брат, Бетховен лежал на матрасе, обложив уши подушками – видимо, он опасался, что вследствие адского грохота может совсем оглохнуть.
В половине третьего пополудни 13 мая растерзанная, задымлённая, покинутая императорскими войсками Вена капитулировала.
Уже 14 мая возобновились спектакли в театрах. В Бургтеатре шло «Похищение из сераля», в Кернтнертортеатре – зингшпиль «Весёлый сапожник». Названия пьес и опер, как и в 1805 году, отныне дублировались на французском. Жизнь продолжалась, хотя смерть была совсем рядом.
31 мая умер 77-летний Гайдн. Когда началась бомбардировка, ветхий старец успокаивал домочадцев: «Не бойтесь, дети мои, там, где Гайдн, не может случиться ничего плохого». Действительно, его дом уцелел, а вошедший в Вену Наполеон распорядился поставить у ворот караул, чтобы никто не смел потревожить Гайдна бесцеремонным вторжением. Но дни его были сочтены, и кончина его прошла почти незамеченной – объявление в «Венской газете» появилось лишь 7 июня.
«Венская газета» от 7 июня 1809 года, раздел объявлений:
«Умершие в предместьях 31 мая
Дочь ткача Венцеля Матеса, фрейлейн Вильгельмина, 9 лет, Гумпендорф, № 272.
Дочь торговца пивом Франца Маара, фрейлейн Анна, 20 лет, Химмельпфорт, № 61.
Господин Йозеф Гайдн, доктор музыки, член Французского национального института наук и искусств, член Шведского королевского и здешнего музыкального обществ, действительный капельмейстер господина князя фон Эстергази, 79 лет, в его собственном доме у Виндмюле, № 79».
Поднимаясь в квартиру Бетховена, Луи Жиро почти не рассчитывал на хороший приём. Скрипач с какой-то непроизносимой немецкой фамилией, давший ему адрес, отказался сопровождать его. Похоже, он сам побаивался крутого нрава своего знаменитого друга. Если Бетховен, увидев французского офицера в мундире, захочет саморучно спустить его с лестницы, то заодно достанется и приятелю. Пусть уж мсье Жиро, коли истинно храбр, сам испытывает судьбу.
О том же самом говорили Жиро накануне его отъезда из Парижа и другие музыканты, к которым он обращался за рекомендательными письмами к Бетховену. Керубини отказался черкнуть хоть две строчки, обозвав своего коллегу «медведем». Лишь Антон Рейха, знавший Бетховена с юности, рискнул дать Жиро просимую рекомендацию, однако честно предупредил: «Боюсь, моё обращение мало поможет. С тех пор как Наполеон сделался императором, Бетховен не выносит французов. Даже первый скрипач Европы Род тщетно пытался встретиться с ним, когда был в Вене. И вообще он – человек нелюдимый, капризный и склонный к мизантропии. До чего это доходит, вы можете заключить по тому, что однажды он получил приглашение в Хофбург от новой императрицы – и ответил, что ему, дескать, некогда, но если завтра он будет свободнее, то постарается с утра к ней пожаловать».
Возле дома, украшенного вывеской «Клеппершталь», Жиро ещё раз помедлил, сверяясь с адресом. На самом деле он почти не верил в удачу. Всё было против него. В том числе и методичная работа сапёров под бастионной стеной. Наполеон приказал взорвать эту часть городских укреплений. О да, как раз под окнами у маэстро…
Жиро был предупреждён, что Бетховен туг на ухо, и поэтому, если слуги при нём нет, то он может не услышать ни дверного звонка, ни даже громкого стука. Но хотя бы тут повезло: после третьей попытки достучаться дверь внезапно открылась.
На пороге стоял человек, показавшийся Жиро ужасно уродливым, раздражённым и вдобавок одетым в какую-то рвань.
– Я… имею честь видеть господина ван Бетховена? – спросил Жиро по-французски.
– Да. Что вам угодно, сударь?.. – последовал ответ на немецком… – Учтите, я говорю по-вашему плохо, а понимаю ещё того хуже.
– Мой немецкий также совсем не хорош! – признался Жиро. – Но я привёз вам письмо от вашего друга Рейхи из Парижа.
– Войдите, сударь.
Жиро снял треуголку и, сам не веря своей удаче, вошёл в обиталище гения, которое выглядело так, будто бомба разорвалась прямо в комнате, а не под крепостной стеной.
Бетховен освободил для гостя ближайший стул, жестом пригласил его сесть и вскрыл письмо. Рейха, видимо, сообщал ему о своей жизни в Париже, а в конце добавлял несколько лестных слов о подателе.
Отложив письмо, Бетховен смерил Жиро пронзительным взглядом.
– Я не участвовал в бомбардировке, – поспешил заверить его Жиро. – Моя должность – советник при штабе. Аудитор, если точнее. Финансист.
Бетховен покачал головой:
– Простите, сударь. Вы могли бы всё-таки говорить по-немецки? И помедленнее. Мой слух ослаб, но чёткую речь я пока разбираю. Так что вы сказали последнее?
Царственное спокойствие, с которым Бетховен всё это произносил, поразило Жиро. Он перешёл на корявый немецкий:
– Я сказал, что… Мсье фон Бетховен, я восхищён вашим гением.
– Вот как! В Париже знают мои сочинения?
– К сожалению, мало. Симфонии совсем не играют. Но сонаты, терцеты, квартеты, чудесный септет – всё это известно нашим любителям музыки. Я мечтал познакомиться с вами.
– Вы музыкант?
– Не осмелюсь назвать себя этим словом. Я играю на фортепиано. Я вижу, у вас французский рояль?..
– Себастьен Эрар. Точно такие же инструменты были у Гайдна и, как мне говорили, у Бонапарта. Но мой уже сильно нуждается в настройке.
Бетховен подошёл к раскрытому фортепиано и провёл рукой по клавишам. Да, рояль был расстроен, но тембр оказался глубоким и тёплым.
– Много я дал бы, чтобы услышать вашу игру! – вырвалось у Жиро.
И… он не верил своим глазам и ушам: Бетховен, немного подумав, сел за инструмент и начал на ощупь извлекать из небытия какую-то странную музыку – поначалу лишённую темы и состоящую из сумрачных тремоло, разрозненных возгласов и аккордов то в нижнем, то в самом верхнем регистре. В этом не было никакой красоты, и всё-таки то, что рождалось на свет из бесформенной тьмы, пронимало до дрожи.
Так звучала Война. Без победных маршей, без песен, без барабанных ритмов, без ярких мундиров и белых лосин, без плюмажей и эполет, без гарцующих перед полками военачальников, без восторженных криков «виват!», без салютов в честь победителей…
Жиро не мог шевельнуться, пока это длилось. Он воочию видел чудовище, пожиравшее жаркую плоть миллионов и изрыгавшее за ненадобностью их смятенные души, которые, сплетаясь в сумрачные клубки, вздымались в дымное небо… Но когда ужас от превращения бытия в небытие сделался невыносимым, откуда-то – словно бы из надзвёздного света – зазвучала простая и чистая песня надежды, которая постепенно обретала силу и протяжённость, разрастаясь от вариации к вариации, пока не достигла пределов могущества.
На последних аккордах за окнами загрохотало. Стёкла зазвенели, но выдержали.
– Что там такое? – спросил Бетховен.
– Не тревожьтесь, это взрывают крепостную стену.
– Чем вам помешала стена? Город сдался…
– Приказ императора, – развёл руками Жиро.
Бетховен скривился от боли и гнева:
– Знай я военное дело, как контрапункт, он бы у меня поплясал…
Раздалось ещё несколько взрывов. Говорить под такой аккомпанемент стало невыносимо. Жиро встал и почти прокричал:
– Как говорили раньше у нас во Франции, le roi est mort – vive le roi!.. Я был счастлив познакомиться с величайшим из музыкантов нашего времени.
– Заходите ещё, – с неожиданным дружелюбием предложил Бетховен гостю. – Вы умеете слушать, мсье Жиро. Это редкое свойство.
«Я ушёл от него, гордясь сильнее, чем Наполеон после взятия Вены: мне удалось покорить Бетховена!» – вспоминал позднее Жиро.
* * *
Из мемуаров Луи Жиро (с 1810 года – барона де Тремона), находившегося в Вене с 22 мая по 12 июля 1809 года: «Некоторые мои знакомые музыканты, которым я это рассказал, сочли всё это выдумкой. „А вы мне поверите, – спросил я, – если я покажу вам письмецо от него, написанное по-французски?“ – „По-французски? Такого не может быть, он почти не знает французского, да и по-немецки-то пишет ужасно неразборчиво. На подобные подвиги он неспособен“. – В доказательство я показал им то письмо. – „Ну, тогда, – ответили мне, – он возымел к вам особое пристрастие. Диковинный человек!“… Письмо, столь драгоценное для меня, я велел поместить в рамку.
Импровизации Бетховена стали, пожалуй, одним из самых сильных впечатлений в моей жизни. Дерзну утверждать, что те, кто не слышал, как он импровизирует, не могут осознать всего масштаба его гения. Часто он говорил мне в своей импульсивной манере, взяв несколько аккордов: „Что-то у меня сейчас не идёт, давайте в другой раз“, – и тогда мы долго беседовали о философии, религии, политике и особенно страстно – о Шекспире, который для него был полубогом. Говорили мы на такой причудливой смеси языков, что любой рассмеялся бы, если бы подслушал нас.
Бетховен не принадлежал к так называемым „умникам“, если понимать под таковыми тех, кто умеет делать глубокомысленные и отточенные замечания. Он был слишком молчалив, чтобы беседа с ним могла течь оживлённо. Мысли возникали у него внезапно, но всегда были возвышенными и благородными, хотя нередко ошибочными. В его взглядах я усматриваю определённое сходство с Жан Жаком Руссо, заблуждения которого заключали в себе величие, поскольку из мизантропического умонастроения они порождали вымышленный мир, не имевший никакого отношения к человеческой природе и общественному устройству. Однако Бетховен был начитан. Безбрачие, принуждавшее его к одиночеству, слабость слуха и долгое пребывание за городом позволили ему располагать досугом, посвящённым изучению греческих и латинских авторов, а также Шекспира. <…>
В те дни, когда он был расположен к импровизации, его осеняло возвышенное величие. Полный вдохновения и захватывающей мощи, он умел извлекать из инструмента великолепнейшие мелодии и чарующее благозвучие. Следуя своим музыкальным ощущениям, он не нуждался, как при работе с пером в руке, в обдумывании эффектов; последние возникали сами по себе, хотя он к ним не стремился. Его игра на фортепиано не была правильной, да и аппликатура иногда оказывалась неверной, что иногда вредило красоте звукоизвлечения. Но кто бы стал тут заботиться о виртуозности! Он всецело отдавался своим мыслям.
Я спросил его, не хотел ли бы он посетить Францию и познакомиться с ней.
– Я всегда страстно этого желал, – ответил он, – пока там не появился император. Теперь у меня вся охота пропала. Правда, я бы не прочь послушать в Париже симфонии Моцарта (он назвал именно их, а не гайдновские!). Говорят, консерватория – лучшее из всех заведений этого рода, существующих где бы то ни было. Но я слишком беден, чтобы позволить себе совершить короткое, в силу обстоятельств, путешествие только ради любопытства.
– Поедемте со мной, я возьму вас!
– Вы шутите? Я не могу обременять вас такими издержками.
– Не беспокойтесь, это не будет стоить ничего; мои путевые расходы оплачиваются казной, а карета у меня своя собственная. Если вы удовлетворитесь небольшой комнаткой, я предоставлю её в ваше распоряжение. Скажите – „да“, ведь четырнадцать дней в Париже стоят таких усилий. Вам придётся лишь оплатить расходы на обратную дорогу, и менее чем за 50 гульденов вы снова окажетесь дома.
– Вы вводите меня в искушение, мне надо подумать.
Я многократно уговаривал его дерзнуть. Его нерешительность соответствовала его сумрачному настроению. <…> Наконец однажды он протянул мне руку и сказал, что поедет со мной. Я был в восторге! Привезти Бетховена в Париж, поселить его у себя и ввести в тамошний музыкальный мир – это был для меня своего рода триумф. Но, как бы в наказание за преждевременную радость, этот план оказался неосуществимым.
Величие Наполеона живо занимало маэстро, и он часто о нём говорил. Хотя он не был расположен к Наполеону, я заметил, что он восхищался его вознесением вверх из самых низов. Это льстило его демократическим взглядам. Однажды он сказал мне: „Если я поеду в Париж, должен ли я буду явиться приветствовать вашего императора?“ Я заверил его, что, раз он сам не захочет, то вряд ли его к тому будут принуждать. „А вы полагаете, что меня могут заставить?“ – „Я бы ни мгновения в этом не сомневался, если бы он отдавал себе отчёт в вашем значении. Но вы же знаете от Керубини, что он плохо разбирается в музыке“.
Этот вопрос заставил меня призадуматься над тем, что, вопреки его взглядам, ему, пожалуй, было бы лестно удостоиться знака внимания со стороны Наполеона».
Записывая свои мемуары, Жиро почему-то забыл: для того чтобы повстречаться с Наполеоном, Бетховену в 1809 году вовсе не надо было ехать в Париж. Наполеон находился тогда в Вене. Но соблазнительная мысль о поездке во Францию, поданная Жиро, могла действительно занимать воображение Бетховена, который намекал своему издателю Гертелю о возможном отъезде из Австрии – ведь из субсидии, обещанной тремя меценатами, он пока ничего не получил, и будущее выглядело крайне тревожным.
И всё-таки даже во время войны он продолжал заниматься искусством и думать прежде всего о нём.
Бетховен – Г. К. Гертелю в Лейпциг, Вена, 26 июля 1809 года:
«…C сегодняшнего числа введены контрибуции. – Какое кругом разрушение и опустошение жизни! Ничего, кроме барабанов, канонады и всяческих людских страданий. <…> Воспользовавшись той привилегией, которую Вы (будучи здесь) не без усилий мне предоставили, я взял себе у Трэга „Мессию“. Правда, тем самым я раздвинул рамки – я начал было проводить у себя дома маленькие еженедельные собрания, посвящённые вокальной музыке. Но они состоялись лишь несколько раз и прекратились из-за злосчастной войны. Имея в виду эту цель, да и вообще я очень желал бы, чтобы Вы мне сюда постепенно пересылали большинство партитур, которыми Вы располагаете, как, например, Реквием Моцарта etc., мессы Гайдна и, вообще, все наличные партитуры таких композиторов, как Гайдн, Моцарт, Иоганн Себастьян Бах, Эмануэль Бах etc. – Из фортепианных сочинений Эмануэля Баха у меня имеется лишь несколько вещей, и некоторые из них несомненно должны служить каждому подлинному художнику не только в качестве предмета высокого наслаждения, но и как материал для изучения. Я с огромным удовольствием сыграл бы здесь перед несколькими истинными любителями искусства те из его сочинений, которых я никогда не видел или видел только изредка. <…>
В случае же изменения моего местожительства я Вас сразу же о нём уведомлю. Но если Вы напишете мне незамедлительно, то Ваш ответ наверняка меня застанет здесь. Быть может, всё же небу не будет угодно, чтобы я окончательно расстался с мыслью о Вене как о месте своего постоянного пребывания. Будьте здоровы, желаю Вам всякого счастья и благополучия в той мере, в какой это возможно в наш бурный век.
Помните Вашего покорного слугу и друга Бетховена».
Своё сорокалетие 15 августа 1809 года Наполеон отпраздновал в Вене.
К этому времени город уже понемногу пришёл в себя. Заработали магазины, кафе, рестораны и лавочки, придававшие венской жизни оттенок счастливой беспечности. В репертуаре театров преобладали оперы и комедии. Лишь Бургтеатр был закрыт: труппа эвакуировалась с императором Францем в Венгрию.
Венцы обожали зрелища. Кое-кто заметил, правда, что некоторые выражения верноподданнического восторга таили в себе ироническую двусмысленность. Так, одну из улиц украшал транспарант с несколько издевательским лозунгом «Да продлятся дни императора Наполеона, доколе будет угодно Господу!». А другое подобное поздравление заключало в себе дерзкий шифр, понятный лишь знавшим немецкий язык: начальные буквы фразы «Посвящено дню рождения Наполеона» складывались в слово ZWANG — «НАСИЛИЕ». Кто-то, не мудрствуя, вывесил краткий лозунг «Да здравствует император!» – но поди разбери, какого из императоров тут имели в виду, своего или чужеземного…
«Венская газета» напечатала подробный отчёт о празднествах. Вряд ли Бетховен находился среди веселящихся зевак, но, даже просто читая газеты, он мог убедиться в том, что между императором Францем и императором Наполеоном для венцев большой разницы, в сущности, не было.
«Венская газета» от 16 августа 1809 года:
«Вчера здесь состоялось столь же блестящее, сколь и торжественное чествование Наполеона. С самого раннего утра на всех улицах началось движение людей, желавших увидеть большой парад в Шёнбрунне и полный сбор всех министров и генералов. Вместе с вице-королём Италии и герцогом Невшательским они проследовали в четыре часа пополудни в собор Святого Стефана. Его преосвященство господин архиепископ представил Те Деум, сочинённый Сальери. Все французские государственные служащие устроили у себя торжественные обеды; приём у его высокопревосходительства господина генерал-губернатора, проходивший в новом зале у Бурга, был рассчитан на 200 кувертов. Надо всем был размещён портрет его величества императора Наполеона под пышным балдахином. Между колоннами, на которых покоится кровля, красовались апельсиновые деревца в кадках. В верхних же оконных нишах виднелся транспарант: Vive Napoleon le Grand! („Да здравствует великий Наполеон!“). Каждая буква была увита листьями дуба, – по букве в каждой нише, причём все они были равны между собой. Неоднократно поднимались тосты за здоровье его величества императора, её величества императрицы, императорской семьи и во славу французской армии. Застолье было публичным; прекрасно слаженный оркестр и великолепное освещение способствовали полному удовольствию. Пышность празднеству придавало и большое количество зрителей, для которых были открыты соседние помещения. <…>
Неисчислимые толпы людей заполнили улицы и площади; прекрасная погода благоприятствовала празднеству; музыка звучала с балконов Бурга и из многих других мест; народ пел на улицах, и порядок ничем не был нарушен. Со времён императора Иосифа здесь не было таких всеобщих празднеств, и никогда народ не испытывал столь возвышенных, радостных и притом благопристойных чувств; улицы города, казалось, сплошь превратились в залы для общественных увеселений.
Трудно было поверить в то, что город, сиявший вчера праздничными огнями и наполненный радостными звуками, три месяца тому назад пылал от осадной бомбардировки и был полон стенаниями ужаса. Но прекрасный праздник заслуживал, чтобы его прекрасно отметили».
Празднества отшумели, и вскоре обнаружилось, что далеко не все готовы смириться с владычеством Бонапарта.
12 октября во время очередного парада перед Шёнбруннским дворцом при попытке совершить покушение на жизнь Наполеона был задержан студент Фридрих Штапс, сын пастора из Наумбурга, при котором был обнаружен большой кухонный нож, а у сердца – портрет невесты. Хотя Наполеон запретил публиковать в газетах что-либо касательно всей этой истории, подробности случившегося были впоследствии переданы французскими приближёнными императора – флигель-адъютантом генералом Раппом, маршалом Бертье и секретарём Луи Антуаном Бурьенном.
«Делайте со мной, что хотите, я готов умереть!» – заявил арестованный юноша. На любые вопросы о себе он отвечать отказался, сказав, что может открыть это только самому императору. Наполеон велел привести арестанта к себе в кабинет. Между ними состоялся диалог, приводимый (с некоторыми различиями в деталях) в мемуарах всех указанных выше лиц.
– Ваш возраст?
– Восемнадцать лет.
– Зачем вам нож?
– Я хотел вас убить.
– Вы в своём ли уме, молодой человек? Вы что, иллюминат[25]?
– Я в своём уме, и я не знаю, что значит иллюминат.
– Вы, часом, не больны?
– Я не болен. Я здоров.
– Почему же вы хотели меня убить?
– Потому что вы повинны в несчастьях моей родины.
– Я причинил вам какое-то зло?
– Мне? Как и всякому немцу.
– Кем вы посланы, кто вас толкнул на такой вероломный поступок?
– Никто. Я сам твёрдо убеждён в том, что если убью вас, то окажу великую услугу моему отечеству и всей Европе.
Наполеон был готов помиловать юношу, однако спросил, что бы тот сделал, если бы был отпущен. Штапс честно признался, что вновь пытался бы убить врага своей родины. Фридрих Штапс был приговорён трибуналом к смерти и расстрелян у стены Шёнбруннского сада в семь утра 17 октября, так и не узнав, что 14 октября был заключён мир.
Наполеон покинул Вену в ночь на 15 октября, однако не забыл потом поинтересоваться тем, как умер его юный ненавистник. Ему сообщили, что смерть он встретил бестрепетно. Штапс хотел стать героем, и он стал им.
Зовёт народ, и боги жаждут жертвы.
Нельзя не подчиниться, будь покорен.
Ты любишь деву, но отчизны вопль
Сильнее слабых сетований сердца.
Так посвяти всю жизнь стране родной,
Чьи бедствия любовь твоя искупит.
Иоганн Август Апель «Каллироя»[26]
Бетховен – Г. К. Гертелю в Лейпциг, 22 ноября 1809 года:
«Наконец-то я пишу Вам. После дикого опустошения, после всех претерпленных немыслимых бедствий наступил какой-то покой. В течение нескольких недель подряд мне казалось, что я работаю скорее ради смерти, нежели ради бессмертия. <…>
Я не имею известий, получили ли Вы три моих произведения. По-моему, они уже давно должны были прибыть к Вам. Относительно доктора Апеля я ещё не мог написать Вам, отрекомендуйте меня ему тем временем как его почитателя. Ещё одно. Не существует трактата, который для меня оказался бы слишком учёным. Нисколько не претендуя на собственно учёность, я с детства, однако, стремился постигнуть то лучшее и мудрое, что создано каждой эпохой. Позор артисту, который это не считает для себя обязательным хотя бы в меру своих сил.
Что Вы скажете об этом мертворождённом мире? От нынешнего века я более не жду ничего прочного, и ни на что, кроме слепого случая, твердо полагаться нельзя. —
Будьте здоровы, мой почтенный друг, и поскорее дайте мне знать о своём житье-бытье, а также и о том, получили ли Вы произведения.
Ваш преданнейший друг Бетховен».
Весенние песни
Руку дай мне в знак союза,
разгадав души вопрос,
и да будут наши узы
крепче вензеля из роз.
Иоганн Вольфганг Гёте. Круг цветочный[27]
Во имя мира с Наполеоном император Франц I был вынужден выдать за него замуж свою дочь, эрцгерцогиню Марию Луизу. Заочное обручение состоялось 11 марта 1810 года в венской придворной церкви Августинцев, венчание – 1 апреля в Париже. Всё это соответствовало старинному девизу Габсбургов: «Пусть воюют другие, а ты, счастливая Австрия, празднуй свадьбы». Хотя юная невеста не питала к грозному жениху никаких тёплых чувств, ей в награду за эту жертву доставалась корона французской императрицы.
Жажда мира, весеннего обновления и прочного благополучия охватила тогда не только императорскую фамилию. Видимо, нечто такое витало в воздухе. И Бетховен на сороковом году жизни вновь начал задумываться о женитьбе. Ещё в прошлом году он то ли в шутку, то ли всерьёз просил Игнаца фон Глейхенштейна присмотреть для него невесту, «которая подарит вздох моим гармониям». Только, прибавлял привередливый гений, она должна непременно быть красивой: «Ничего некрасивого я полюбить не могу, иначе мне пришлось бы влюбиться в себя самого».
Весной 1810 года ему вдруг начало необычайно везти на прелестных и музыкальных девушек. Хотя ни одна из них не стала его женой, состояние опьяняющей влюблённости вызвало к жизни несколько замечательных песен на стихи Гёте. Три из них были изданы вместе как опус 83 и посвящены княгине Каролине Кинской, хорошей певице и, как обмолвился Бетховен в одном из писем Гертелю, «самой очаровательной толстушке в Вене». Но не княгиня Кинская вдохновила его на эти песни.
Глейхенштейн, возвратившийся в начале 1810 года из служебной поездки, ввёл Бетховена в дом богатого коммерсанта Якоба Фридриха Мальфатти. Бетховен хорошо знал его кузена, известного венского врача Джованни (Иоганна) Мальфатти. Якоб Мальфатти был лишь на год старше Бетховена, однако имел двух дочерей на выданье, Терезу и Анну. Обеим исполнилось восемнадцать (разница в возрасте между сёстрами была меньше года). Глейхенштейн взялся ухаживать за младшей, Анной. Бетховену же приглянулась кокетливая Тереза.
Бетховен – Николаусу фон Цмескалю, 18 апреля 1810 года:
«Любезный Цмескаль!
Не сердитесь на меня за то, что я пишу Вам на таком листке. Разве не напоминает Вам моё нынешнее положение ту обстановку, в которую когда-то попал Геркулес, находясь у царицы Омфалы??? Я просил Вас купить мне зеркало наподобие Вашего и поэтому, возвращая Вам сейчас Ваше зеркало, прошу, чтобы, как только в нём пропадёт надобность, Вы мне сегодня прислали его ещё раз, ибо моё разбилось. Будьте здоровы и не называйте меня больше „великим человеком“, потому что я никогда ещё не чувствовал силу или слабость человеческой природы так, как чувствую теперь. – Любите меня».
Он сам понимал, что попал под чары существа очень милого, но легкомысленного, но ничего не мог с этим сделать: в марте и апреле он часами пропадал в доме Мальфатти. В то же самое время Бетховен умудрялся работать над музыкой к «Эгмонту», премьера которого была назначена в Бургтеатре на май.
Выбор трагедии Гёте для постановки на венской придворной сцене выглядел экстраординарным: сюжет «Эгмонта» вращался вокруг народного восстания во Фландрии XVI века против владычества испанской ветви династии Габсбургов. Восстание было жестоко подавлено после введения войск герцога Альбы; один из вождей, граф Эгмонт, казнён. Гёте несколько отошёл от исторической правды, сделав героя трагедии довольно молодым человеком, свободным от семейных уз. Это позволило ввести в трагедию вымышленный образ простой девушки Клерхен, обычной горожанки, страстно любящей Эгмонта и выпивающей яд, чтобы не стать свидетельницей его казни. В предсмертном монологе Эгмонту мерещится образ Свободы в образе Клерхен, и он храбро идёт на плаху, уверенный, что рано или поздно его дело восторжествует.
Гёте работал над пьесой более десяти лет и издал её в 1788 году, когда она внезапно оказалась очень актуальной: во Фландрии тогда вновь начались волнения, чреватые вооружённым восстанием. Вероятно, эти события живо обсуждались в Бонне, и особенно в семье Бетховена, поскольку по мужской линии род был фламандским. Из-за «взрывоопасного» сюжета трагедию Гёте во владениях Габсбургов долгое время не ставили. Да и в спектакле 1810 года без цензуры не обошлось. Остаётся лишь удивляться тому, что император Франц вообще дал согласие на представление этой пьесы. Помогло общее несчастье: война. Венцы воспринимали «Эгмонта» как повествование о собственных бедствиях, пережитых в 1809 году. Никакие парады у Шёнбрунна, никакие фейерверки в честь дня рождения Наполеона и торжества по поводу его свадьбы с эрцгерцогиней Марией Луизой не могли погасить ту жажду возмездия, которая жгла сердца молчавших, но непокорившихся венцев.