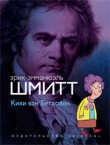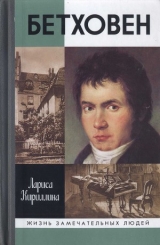
Текст книги "Бетховен"
Автор книги: Лариса Кириллина
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 38 страниц)
Бетховен – графине Марии Эрдёди в Йедлезее, из Бадена, сентябрь 1815 года:
«Милая, милая, милая, милая графиня!
Я принимаю ванны и только завтра покончу с ними. Поэтому сегодня я не увижу ни Вас, ни всех Ваших милых близких. Надеюсь, что Ваше здоровье улучшилось. Добрых людей не утешишь, сказав им, что другие тоже страдают. Но сравнивать всё-таки всегда надо, и тогда убеждаешься, что все мы страдаем и ошибаемся, только каждый по-иному. Возьмите себе лучшее издание квартета, а худшее отдайте Violoncello с нежным рукопожатием. Как только я снова буду у Вас, я позабочусь о том, чтобы припереть его немножко к стенке. Будьте здоровы, обнимите и поцелуйте от моего имени Ваших милых детей, хотя, может быть, я уже более не смею целовать дочерей Ваших? Они ведь уже выросли. Ну, тут я не знаю, как быть. Действуйте, милая графиня, по собственному разумению.
Ваш верный друг и почитатель Бетховен».
Две девицы, Мими и Фрици, сами подскочили к Бетховену и, словно сговорившись, чмокнули его в обе щёки с разных сторон, а потом с хохотом отбежали, как если бы он собирался поймать этих пташек и стиснуть в объятиях. Видимо, чтение восторженных очерков из лейпцигской газеты, где Бетховена превозносили до небес, произвело на юных графинь впечатление. Неказистый, неряшливый, а вдобавок глухой господин, когда-то живший в их доме в Вене, а теперь иногда навещающий в Йедлезее, оказывается человеком, вроде тех древних классиков, про которых пишут в учебниках. Кто, в конце концов, поручится, что слепой и нищий Гомер был пригляднее и обходительнее? С Бетховеном хотя бы не скучно.
Сегодня у графини Эрдёди должен был состояться прощальный концерт, сплошь из бетховенских произведений.
– Вы останетесь ночевать, не правда ли? – сразу же спросила графиня.
Он почти ничего не расслышал, кроме первой фразы, и решился вытащить слуховую трубку, которую в прошлый раз не захватил, принуждая графиню с семейством либо почти кричать, либо объясняться с ним жестами.
Мими и Фрици посмотрели на трубку с плохо скрытым испугом, Густи предпочёл отвернуться. Графиня чуть опустила ресницы, но с улыбкой сказала:
– Как славно, что теперь мы сможем беседовать!
– К несчастью, это орудие пытки – единственное, что способна предложить нынешняя наука таким горемыкам, как я. Газеты пишут про электричество – ну и где же обещанные чудеса гальванизма?..
– А! Я видел, как у мёртвой лягушки дрыгались лапки! – оживился Густи.
Графиня с некоторой укоризной посмотрела на сына. Мальчик покраснел и отошёл, чтобы не произнести ещё какую-нибудь бестактность. Мими и Фрици стали наперебой предлагать Бетховену чаю, лимонаду или вина. Он попросил минеральной воды, которую прописал ему баденский врач, и сел рядом с графиней.
Ей о многом хотелось спросить, но она не отваживалась. В этом не было никакого смысла: в конце сентября она покидала Вену. Её отъезд был делом решённым. Кем решённым, как и зачем – Бетховена не касалось. Они молчаливо условились, что не будут пытаться выведывать тайны друг друга. В венском свете о графине Эрдёди по-прежнему старались не говорить, как если бы этой женщины вовсе не было. И кому она могла помешать, замкнувшись в сельском уединении? Однако же графиня намеревалась переселиться в ещё большую глушь – в фамильный замок в Кроатии. Почему, для чего?.. Вряд ли в той отдалённой местности она найдёт искусных врачей. И вряд ли юным барышням будет там не тоскливо. Правда, с ними едут не только верный Браухле и управляющий Шперль, но и доблестный Линке, – и всё-таки это больше похоже на ссылку, нежели на семейное путешествие…
– Как хочется в эти последние дни доставлять удовольствие всем, кого любишь, – с вымученной улыбкой сказала графиня.
– «Блаженство скорби», – вспомнил он свою давнюю песню на стихи Гёте. – Этого я и боялся, когда не хотел позволять себе слишком привязываться ко всем вам.
– Мне очень жаль, милый друг. Но ничего невозможно изменить.
– А ваше здоровье?
– Я надеюсь, что в собственном экипаже мы доберёмся без приключений. Меня больше заботят ваши дела.
– Мои дела?.. Как обычно. Вот несчастный мой брат…
– Да. Как он?
– Всё слабее и слабее.
– Мужайтесь. Все мы ходим под Богом.
– С одной лишь разницей: он страстно жаждет жить, а я… Мне уже всё равно. Ибо существовать на земле больше не для кого.
– А искусство?
– Да, искусство… Но оно никому здесь не нужно.
– Неправда! Вспомните, сколько людей приходило на ваши концерты! Как встречали «Фиделио»!..
– Это всё шумиха и мода, дорогая графиня. Толпа превозносит меня за то, чего я в иное время стыдился бы. А сейчас не стыжусь, ибо даже дурацкие пьесы на случай я пишу много лучше всяких там Вейглей и Зейфридов. Но… всё это не то, совершенно не то…
Их беседа была прервана приездом остальных участников музыкального вечера. В Йедлезее явились Шуппанциг, Вейс, Сина и Цмескаль.
– Как там в Вене? – спросила графиня Эрдёди у Цмескаля.
– После конгресса кажется, будто город внезапно вымер!
– Да, пустовато, – согласился Шуппанциг. – Для артистов просто беда.
– К зиме всё наладится, – попыталась утешить его графиня.
– Дай-то Бог! – вздохнул Шуппанциг. – А то хоть всё бросай и иди скитаться по свету.
– Полагаете, где-нибудь сейчас лучше? – усомнился Бетховен. – Впрочем, Рис неплохо устроился в Англии… Я поехал бы в Лондон, если бы мне предложили хорошие деньги. Но пока что я не могу добиться даже гонорара за «Битву».
– Разумовский советует ехать в Россию, – ответил Шуппанциг. – Говорит, там много богатых людей.
– Но жуткие холода, но жестокие нравы, но тарабарский язык! – всплеснула руками графиня.
– Вся русская знать говорит по-французски, а многие и по-немецки, – возразил Бетховен. – Императрица добра и щедра. Вероятно, и всё прочее не настолько ужасно. Хотя мне было бы жаль потерять нашего милорда Фальстафа.
Толстяк Шуппанциг польщённо кивнул. У них с Бетховеном сложились причудливые отношения. Они обращались друг к другу слегка отстранённо, но считались друзьями. И Бетховен с сожалением думал, что если Шуппанциг уедет, то квартет распадётся, и значит, сочинять в этом жанре уже не придётся – играть будет некому…
Первым должен был прозвучать Квартет фа минор – неизданный и пока что никому не посвящённый. Бетховен сомневался, стоит ли вообще выпускать на широкую публику столь мрачное произведение.
Главная тема Allegro ворвалась в гостиную как гневная фурия, от взгляда которой кровь стынет в жилах. Для огромного большинства людей это вовсе не называлось бы «музыкой», потому что ни радости, ни удовольствия они бы, услышав такое, не получили. И вторая часть не сулила отрады и утешения: она пела о смертных мучениях, о безысходной тоске по утраченному, о тщетных поисках истины… В Скерцо – снова отчаянные метания и лихорадочные воззвания к немилосердному небу: доколе?!.. И каков предначертан исход?.. Исход оказался печальным: тема финала, как побитая птица, то и дело пыталась взлететь, но всякий раз возвращалась к началу, а вокруг сгущались сумерки, тьма и отчаяние… И вдруг на последних страницах всё мгновенно менялось, безнадёжный минор превращался в бодрый мажор, дремотная мгла перечёркивалась радостными пассажами… Что это значит и как такое возможно?..
– Гениально! – первым сорвался с места Цмескаль. – Это – венец всей квартетной музыки!
Графиня Эрдёди сидела как окаменевшая. Ей хотелось спросить про ошеломляюще странную коду финала, но она боялась рассердить Бетховена своей непонятливостью.
– Графиня, вы хотите сами исполнить сонату?
– Я?.. О да, я усердно готовилась. Но сперва, извините, сделаем паузу, мне нужно принять лекарство.
Шперль отвёз её кресло к столику возле окна, а горничная поднесла ей стакан воды. Графиня достала крохотную коробочку с порошком, растворила его и выпила.
Браухле неотрывно смотрел на графиню. Он возражал против того, чтобы она сегодня играла. Однако графиня, вопреки своим мягким манерам, была непреклонна, когда речь заходила о её любимом Бетховене. Приходилось терпеть. Благо этот угрюмый властитель сердец бывает тут редко, а вскоре они расстанутся – может быть, насовсем…
Соната ре мажор была совершенно свежей – Бетховен едва успел написать отдельную партию виолончели для Линке. Графиня Эрдёди взялась играть по рукописи – впрочем, у неё было время выучить ноты.
После неистового квартета соната слушалась как благая весть. Вся первая часть излучала свет и энергию. А в финальной фуге фортепиано и виолончель то носились наперегонки, то передразнивали друг друга, то устраивали настоящий звуковой кавардак, из которого потом кое-как выбирались, чтобы успеть с хохотом домчаться до триумфальной каденции.
Графиня играла фугу чуть медленнее, чем хотел бы Бетховен, но зато они с Линке ни разу не сбились. Она разрумянилась, волосы у неё выбились из-под чепца, глаза заблестели как у впавшей в безумство менады…
Браухле обвёл взглядом присутствующих. Понимает ли кто-то из них, что тут творится?.. Эта женщина губит себя. Ради музыки? Ради любви? Ради последнего доступного ей удовольствия – выступить перед Бетховеном вместе с такими артистами, как Шуппанциг и Линке?.. Догадался ли кто-нибудь, что держится она только на опиуме?.. И что расплачиваться за сегодняшний вечер ей придётся долго и тяжко?.. Нет, похоже, никто ничего не понял, кроме бедной Мими, которая уже знает, что за снадобье у матери в той коробочке…
Его невесёлые мысли были прерваны аплодисментами: графиня принимала поздравления и похвалы. Казалось, она была сегодня в ударе, её болезнь отступила, она превосходно играла, шутила, кокетничала…
Когда Бетховен уедет, она снова сляжет в постель.
* * *
Бетховен – графине Марии Эрдёди в замок Пауковец в Хорватии, Вена, 19 октября 1815 года:
«Милая и уважаемая графиня! Перемежающимися страданиями, испытанными Вами в дороге, подтвердились, как я вижу, мои тревоги, связанные с Вашим путешествием. Но, по-видимому, Вы действительно способны достигнуть поставленной цели. Этой мыслью я утешил себя и пытаюсь сейчас утешить и Вас. Мы, смертные, воплощающие бессмертное духовное начало, рождены лишь для страданий и радостей; и едва ли будет неверным сказать, что лучшие из людей обретают радость через страдание. Надеюсь вскоре получить от Вас новые известия. Много утешительного, конечно, должны Вам приносить Ваши дети; их искренняя любовь и стремление во всём к благополучию дорогой матери уже сами по себе могут для Вас явиться достойным вознаграждением страданий.
Далее следует почтенный магистр, Ваш вернейший оруженосец. Ну а затем многочисленная братия других бродяг, в числе которых виолончельных дел цеховой мастер, трезво судящий главноуправляющий – свита, которая поистине могла бы явиться предметом вожделения для иного монарха. О себе я не скажу ничего, то есть ничего ни о чём.
Дай Вам Бог новых сил для достижения Вашего храма Изиды, где священный огонь поглотил бы все Ваши горести и Вы смогли пробудиться, словно новый феникс.
Второпях, Ваш верный друг Бетховен».
«Радость через страдание» – заветный девиз, которым Бетховен поделился со своей подругой и почитательницей. Но страданий им обоим выпало намного больше, чем радостей. Прощаясь с семейством графини Эрдёди, Бетховен беспокоился прежде всего о её слабом здоровье. Но беда пришла с неожиданной стороны: 18 апреля 1816 года внезапно скончался четырнадцатилетний Август. До этого он поссорился с матерью и якобы Браухле дал ему оплеуху. Обиженный мальчик ушёл к себе, а через некоторое время вбежал в комнату старшей сестры и, едва успел пожаловаться на сильную боль в голове, упал на пол и умер. Впоследствии по инициативе одной из родственниц Эрдёди венская полиция начала расследование этого инцидента. В конце концов смерть Августа была сочтена несчастным случаем, а с графини и Браухле сняты все подозрения в непредумышленном убийстве. Но прежнего лада в этой семье больше не было. Мими в 1820 году пыталась покончить с собой, а её мать вместе с Браухле была вынуждена навсегда уехать из Вены.
Ещё не зная всех подробностей семейной трагедии, разыгравшейся в замке Пауковец, Бетховен писал графине Эрдёди 15 мая 1816 года:
«Нет ничего печальнее, чем быстрая и непредвиденная кончина тех, кто нам близок. Я тоже не могу забыть, как умирал мой бедный брат. Единственное утешение в том, что внезапно ушедшие из жизни, вероятно, меньше страдали. Но в Вашей незаменимой утрате я Вам сочувствую глубочайшим образом. Может быть, я не писал Вам ещё, что и я вот уже долгое время совсем нездоров. К этой причине длительного молчания ещё добавилась забота о моём Карле, которого я мысленно часто сближал с дорогим Вашим сыном. – Меня охватывает чувство жалости и к Вам, и к себе, ибо Вашего сына я любил. – Небо будет хранить Вас и не допустит усиления Ваших и так уже глубоких страданий, ибо это могло бы ещё ухудшить Ваше здоровье. Представьте себе, что Вашему сыну пришлось пойти на войну и что он там нашёл свою смерть, подобно миллионам других. И не забывайте, что Вы мать ещё двух милых и многообещающих детей. – Надеюсь вскоре получить от Вас известия. Я плачу вместе с Вами».
Брат Бетховена скончался 15 ноября 1815 года.
Летом и осенью Карл Каспар уже не мог появляться на службе и подал прошение о переходе на пенсию. В ответ последовала крайне резкая отповедь его начальника графа Герберштейна. На сохранившемся документе рукой Бетховена был начертан не менее жёсткий моральный вердикт:
«Этот жалкий продукт тупой канцелярщины принёс смерть моему брату, ибо он был настолько болен, что не мог её не ускорить, выполняя службу. Прекрасный памятник этому грубому обер-службисту.
Л. ван Бетх».
Людвиг почти постоянно находился при брате, но именно вечером 14 ноября он часа на полтора отлучился, и случилось непоправимое: умирающий подписал завещание, пятый пункт которого впоследствии стал поводом для многолетних судебных тяжб между братом и вдовой Карла Каспара.
Зная о крайней неприязни Людвига к Иоганне, Карл Каспар решил отказаться от своего завещания 1813 года, в котором полностью возлагал опеку над малолетним сыном на брата Людвига. Теперь распоряжение гласило: «Наряду с моей супругой, назначаю соопекуном»… Бетховен, увидевший этот текст, возмутился и заставил Карла Каспара вычеркнуть «лишние» слова. Исправленный пункт завещания стал читаться: «Назначаю опекуном» и т. д. Теперь текст не противоречил распоряжению 1813 года, которое было однозначным и подтверждалось свидетельствами уважаемых людей (правда, все они были друзьями или хорошими знакомыми Бетховена).
«[Наряду с моей супругой], назначаю [со] опекуном моего брата Людвига ван Бетховена. Так как этот горячо любимый брат часто, с поистине братской любовью, благородно и великодушно меня поддерживал, то, будучи вполне убеждённым в его сердечном благородстве и вполне ему доверяя, я жду, что любовь свою и дружбу, которые столь часто проявлял он ко мне, перенесутся им в дальнейшем на моего сына Карла и что он сделает всё возможное для умственного развития моего сына и для обеспечения его будущего. Я знаю, он мне не откажет в этой моей просьбе».
Видимо, Иоганна, понимавшая, что Бетховен, назначенный единственным опекуном, непременно отнимет у неё ребёнка, сделала всё, чтобы Карл Каспар смягчил этот пункт. Переделывать основной текст завещания возможности уже не было. Тогда Иоганна настояла на том, чтобы к завещанию была сделана приписка, согласно которой Карл Каспар недвусмысленно выражал бы своё нежелание разлучать мальчика с матерью. Пока Бетховен не вернулся, Иоганна спешно отправила адвокату Шёнауэру эту приписку, заверенную соседями по дому.
Приписка:
«Зная, что мой брат Людвиг ван Бетховен желает после моей смерти полностью взять на себя воспитание моего сына Карла и полностью отстранить мать от его воспитания и обучения, и понимая, что отношения между моим братом и моей супругой не отличаются полным единодушием, я счёл необходимым добавить к своему завещанию, что я отнюдь не желаю отдаления моего сына Карла от его матери. Пусть он остаётся при ней так долго, как это позволит его будущая карьера, и ради этого да будут опекунами и она, и мой брат в равной мере. Цель, которую я преследую, назначая брата опекуном своего сына, может быть достигнута только единением. Поэтому я рекомендую своей супруге быть более уступчивой, а брату – более сдержанным.
Да ниспошлёт им Господь согласие во имя благополучия моего ребёнка. Такова последняя воля умирающего мужа и отца. Вена, 14 ноября 1815 года.
Карл ван Бетховен, собственноручно».
Мы можем лишь воображать себе, какие трагические страсти разыгрывались тем вечером в предместье Альзерфорштадт в скромном домике мелкого служащего налоговой кассы, причём, по-видимому, на глазах у мальчика, отец которого доживал свои последние часы. Вернувшийся Бетховен, узнав от брата о приписке, рвал и метал; он пытался восстановить устраивавший его первоначальный вариант. Карл Каспар якобы уверял его, что он хотел бы отозвать приписку, сделанную под давлением Иоганны. К Шёнауэру была послана сиделка, вернувшаяся, однако, ни с чем (адвоката уже не было дома); затем к Шёнауэру лично наведался Бетховен – и тоже тщетно. Тем временем наступила ночь, когда предпринимать что-либо было поздно, а на другой день Карл Каспар скончался.
Умирающему было отказано в последней милости неба: в благоговейном покое и семейном согласии у его смертного одра. Однако и Бетховен после его смерти почти сутки пролежал без сил в постели. Он не сразу осознал всю тяжесть свершившегося.
Со второй половины ноября 1815 года началась многолетняя; изматывающая и немилосердная борьба за ребёнка, завершившаяся весной 1820 года «пирровой победой» Бетховена. Жертвами семейной войны стали трое главных участников – прежде всего мальчик Карл, метавшийся между матерью и дядей.
Однако всё это было ещё впереди. В момент смерти отца Карлу ван Бетховену, единственному наследнику знаменитой фамилии, было девять лет. Иоганне, его матери, – тридцать один, она была ещё, вероятно, недурна собой и могла надеяться на новое счастье. Бетховену в декабре того же года исполнялось сорок пять, и он твёрдо знал, что своей семьи у него уже никогда не будет: клятва верности, которую он дал три года назад Бессмертной возлюбленной, была нерушима. Между тем он давно хотел быть отцом, он любил детей и нередко умел отлично с ними ладить – свидетельство тому множество его писем графине Эрдёди, семье Брентано и другим знакомым, с чьими детьми он охотно общался. Почему же у него не должно было получиться найти общий язык с племянником – самым близким ему существом?
Этот мальчик, такой хорошенький, такой умненький, такой способный к музыке, носивший его фамилию и имевший в жилах почти ту же самую кровь, казался ему, вероятно, посланцем небес, богоданным сыном, которого он полюбил так, как только он и мог любить: безусловно, всеохватно, жертвенно и губительно.
Любовь и нелюбовь
Кто хочет собрать урожай слёз, пусть посеет зёрна любви.
Фридрих Шиллер[31]
В декабре 1815 года началась многолетняя «война за ребёнка». Первый поединок в Нижнеавстрийском земельном суде был выигран Бетховеном: опеку над племянником доверили ему. Забрав Карла у матери, Бетховен в начале февраля 1816 года поместил его в воспитательный пансион Каэтана Джаннатазио дель Рио (1764–1828). Оставить мальчика у себя он не мог, прекрасно понимая, что он не в силах обеспечить Карлу ни домашнего уюта, ни постоянного внимания. Но его искренним желанием было дать Карлу то, чего был лишён в детстве он сам: самое лучшее, какое только возможно, воспитание и образование. В мечтах он видел своего племянника либо музыкантом, либо учёным, полагая, что лишь эти профессии дают человеку ощущение внутренней свободы и облагораживают дух. Общедоступная школа для простолюдинов казалась Бетховену неподходящей для мальчика, носившего его фамилию. Гимназии давали более солидные знания, но девятилетний Карл, только что потерявший отца и, вероятно, сильно запустивший учёбу, вряд ли мог быть туда принят. Домашнее обучение, практиковавшееся в аристократических семьях, стоило дорого и требовало налаженного быта. Следовательно, оставались учебные заведения вроде пансионов, в которых уровень образования соответствовал гимназическому. В самые престижные заведения такого рода (например, Терезианум) принимали только аристократов, и Бетховен понимал, что Карла туда не возьмут. В Вене имелся государственный пансион – конвикт (там обучался, в частности, юный Шуберт), но, наведя справки о порядках и нравах в конвикте, Бетховен пришёл к выводу, что его племяннику они не подходят.
Владелец выбранного Бетховеном пансиона, Каэтан Джаннатазио дель Рио, возводил свой род к испанским дворянам, перебравшимся в Австрию в начале XVIII века. Проработав много лет домашним учителем в аристократических домах в Вене и Венгрии, он вместе с женой, фрау Катариной, открыл в 1798 году в Вене частную школу для мальчиков. Помимо отца и матери, в семье было две взрослые незамужние дочери, Фанни (Франциска, 1790–1873) и Нанни (Анна, 1792–1868). У жизнерадостной и бойкой Нанни вскоре появился жених, коммерсант Леопольд фон Шмерлинг, за которого она в 1819 году вышла замуж. История Фанни Джаннатазио дель Рио сложилась не столь благополучно. Обладая серьёзным и в то же время мечтательным характером, Фанни была постоянно несчастлива в своих привязанностях. Незадолго до знакомства с Бетховеном она потеряла жениха, который скончался от чахотки. Её меланхолический вид, тёмные платья и застенчивые манеры однажды вызвали у Бетховена шутку, которая глубоко задела девушку: он назвал её «аббатисой». Лишь после смерти Фанни, так и не вышедшей замуж, Людвиг Ноль опубликовал её дневник, красноречиво озаглавив его «Тихая любовь к Бетховену: Из дневника юной дамы». Благодаря этим записям мы знаем о многом, что происходило в доме Джаннатазио дель Рио, где Бетховен стал теперь частым гостем. Эту идиллию омрачали лишь два обстоятельства. На одно из них, растущую сердечную привязанность Фанни, Бетховен предпочитал закрывать глаза, но другое – вмешательство Иоганны ван Бетховен в процесс воспитания Карла – вызывало у него возрастающее ожесточение против невестки, которую он стал называть «Царицей ночи». Судя по этому прозвищу, самого себя Бетховен ассоциировал с другим персонажем из «Волшебной флейты» Моцарта – мудрым правителем Зарастро, который отнял у матери дочь, принцессу Памину, чтобы уберечь её от влияния тёмных сил. Конечно, можно было бы считать, что позиция Бетховена была предвзятой, однако Каэтан Джаннатазио дель Рио, познакомившись с Иоганной поближе, встал на его сторону. Мать прорывалась в пансион всеми правдами и неправдами (однажды она даже переоделась мужчиной), устраивала там скандалы и растравляла душевные раны сына, которому после всего пережитого нужно было дать успокоиться и начать новую жизнь.
Помимо общеобразовательных предметов, Бетховен предусмотрел для племянника обучение игре на фортепиано. Мальчик уже обладал некоторыми навыками, а с 1816 года стал заниматься у Карла Черни, который либо приходил в пансион Джаннатазио дель Рио, либо давал уроки у себя, куда ученика сопровождал слуга Бетховена, а иногда и он сам.
Черни ещё в 1805 году получил у Бетховена свидетельство в том, что в свои тогдашние 14 лет он являлся законченным виртуозом. Однако концертная карьера у юноши так и не сложилась. Он фактически принёс себя в жертву стареющим родителям, считая своим долгом обеспечить им безбедное существование. Каждый день, кроме воскресенья, он с утра до вечера давал уроки игры на фортепиано. По воскресеньям же Черни устраивал у себя на квартире дневные концерты для учеников; в 1816–1818 годах на этих концертах часто бывал Бетховен вместе с племянником.
Карл Черни был выдающимся, если не гениальным, педагогом и методистом. До сих пор начинающие пианисты осваивают азы фортепианной техники по этюдам и упражнениям Черни. При этом он не был бесчувственным дрессировщиком вундеркиндов; он старался, чтобы даже учебные пьесы звучали музыкально и подводили ученика к исполнению настоящих шедевров. Самым великим из его учеников стал, как мы знаем, Ференц Лист, который таким образом усвоил бетховенскую пианистическую традицию. Что касается Карла ван Бетховена, то музыкантом он не стал, хотя под руководством Черни уже к тринадцати годам мог играть весьма трудные сочинения своего великого дяди, включая «Патетическую сонату». Впрочем, с 1819 года Карл обучался у Йозефа Черни – однофамильца Карла Черни и, по совпадению, его коллеги во всех отношениях. Это не значило, что отношения между Бетховеном и Карлом Черни испортились, хотя некоторое отчуждение, вероятно, возникло.
Один из инцидентов, связанных с Черни, произошёл на прощальном концерте Игнаца Шуппанцига 11 февраля 1816 года. Прощальным он был, поскольку Андрей Кириллович Разумовский (теперь уже не граф, а князь) больше не мог содержать знаменитый струнный квартет и Шуппанциг решил надолго уехать из Вены.
Концерт был дан в зале Мюллеровской галереи – доме графа Дейма, в котором продолжала жить Жозефина с четырьмя старшими детьми от первого брака. Трёх младших девочек, рождённых в браке с бароном Штакельбергом, муж у неё отобрал ещё в 1814 году, причём прибёг к вмешательству полиции. По трагической иронии судьбы Жозефине пришлось пережить примерно то же, что Иоганне ван Бетховен, только в ещё более жестоком варианте: она в течение долгого времени вообще не знала, где находятся её дочери. Увидеть Лауру, Теофилу и Минону она смогла впоследствии лишь раз, когда барон ненадолго привёз их в 1819 году в Вену, а затем опять забрал в своё имение под Ревелем (Таллином). Жозефина, уже безнадёжно больная, отказалась последовать за мужем. Формально их брак расторгнут не был, однако уже в 1816 году Жозефина называла себя не баронессой Штакельберг, а «вдовствующей графиней Дейм».
Присутствовала ли семья Дейм на прощальном концерте, неизвестно. Можно предположить, что там могли быть по крайней мере Жозефина и её старшая дочь Вики Дейм, которая тоже любила музыку. Бетховен пришёл на концерт, поскольку вся программа состояла только из его сочинений: играли один из Квартетов ор. 59, посвящённых Разумовскому, Квартет для фортепиано и духовых инструментов ор. 16, а также чрезвычайно любимый венцами Септет ор. 20.
После исполнения квартета с духовыми, в котором партию фортепиано исполнял Карл Черни, позволивший себе добавить в неё какие-то украшения и пассажи, Бетховен сделал ученику публичный выговор, за который уже на следующий день письменно извинился и пообещал, что постарается загладить свой поступок, прилюдно выразил Черни свою признательность при следующем его выступлении. Черни, конечно, принял извинения, а письмо учителя сохранил, ибо оно тоже послужило ему уроком на будущее.
Неизвестно, брал ли Бетховен с собой на тот концерт племянника. Вероятно, нет, хотя уже в это время он начал приобщать десятилетнего Карла к посещению утренних и дневных концертов. Джаннатазио разрешал ему забирать племянника из института или оставлять на ночь у себя, если концерт оказывался вечерним. Но любые попытки Иоганны пробиться к сыну или увести его к себе на квартиру встречали жёсткое противодействие Бетховена. Он указывал на легкомысленное поведение Иоганны, которая всего лишь спустя три месяца после смерти мужа посещала публичные увеселения и позволяла себе другие вольности. Около 15 февраля 1816 года Бетховен возмущённо писал Каэтану Джаннатазио дель Рио:
«„Царица ночи“ находилась нынешней ночью до трёх часов на артистическом балу, причём разоблачаясь там не только морально, но и телесно. „За 20 флоринов, – шептали там на ухо, – можно ею попользоваться!“ О ужас! И отдавать в такие руки наше драгоценное сокровище хотя бы на одно мгновение? Нет, конечно же нет!»
Из дневника Фанни Джаннатазио дель Рио:
«26 февраля.
Позавчера Бетховен вновь провёл с нами много часов. Этот вечер оставил необычайно приятное впечатление, что вызвало желание испытать нечто подобное ещё много раз. Он раскрывается перед нами (или же это мы видим его) во всё более прекрасном свете, свойственном поистине добрым натурам. То, что он рассказывал о своём друге, о своей великолепной матери, и то, как судил о людях, стоящих вровень с ним, – всё выдаёт в нём как отзывчивое сердце, так и просвещённый ум. Вообще мне кажется, что всё, что он говорит, надо записывать, настолько это правильно и нравственно. Если наше общество сделается для него насущно необходимым, я буду поистине счастлива!
2 марта.
Что же это такое? Мне вспоминается наш недавний разговор с Нанни о Бетховене: питаю ли я к нему на самом деле лишь сильный интерес или он уже стал мне очень дорог? Шутливый совет моей сестры – не вздумать влюбиться в него – очень меня обескуражил и причинил мне боль. Несчастная я! Меня терзают самые разные мысли! Жизнь тесно переплетена с любовью, и если мне выпадает несколько беспокойных часов, то это лучше, чем влачить пустое мертвенное растительное существование с чуть теплящимся сердцем. И всё же это неправда! Если бы я узнала его поближе, то он стал бы мне дорог, о да, очень дорог. Наверное, так всё-таки должно случиться. Но зачем непременно помышлять о более тесном сближении? При тщательном рассмотрении я нахожу это для себя невозможным. – Могу ли, смею ли я возомнить себя настолько самонадеянной, чтобы уверовать, будто именно мне предначертано обуздать этот дух? Этот дух? Или это сердце? О, это превосходное сердце полностью соответствует моим устремлениям. Но довольно думать на эту тему, всё это может лишить меня непринуждённости в обхождении с ним. И я, за исключением лёгких подшучиваний, никогда ещё не говорила об этом с Нанни и не думала об этом всерьёз. Я хотела записать это ещё вчера, но моё дурацкое настроение мне воспрепятствовало».
Вся жизненная энергия Бетховена уходила на борьбу с «Царицей ночи», на хождение по каким-то официальным инстанциям, на посещение института Джаннатазио дель Рио и заботы о племяннике, на уроки с эрцгерцогом Рудольфом и прочие хлопоты совершенно не творческого характера. В творчестве же настала полоса «подёнщины», или, как он сам признавался Рису, «хлебных работ». К ним относились прежде всего многочисленные обработки британских народных песен для голоса, скрипки, виолончели и фортепиано по заказам эдинбургского издателя Джорджа Томсона. Бетховен писал эти аранжировки десятками, потому что Томсон хорошо платил, хотя и не всегда был доволен результатом – он умолял Бетховена делать аккомпанементы как можно проще, дабы их могли исполнять неискушённые любители. Бетховен же, увлёкшись той или иной песней, начинал «мудрить», сочиняя в полную силу. Многие из обработанных им песен в самом деле стали шедеврами (например, общеизвестная «Шотландская застольная»), другие были выполнены более формально. Но следует учитывать, что Томсон присылал Бетховену только одни мелодии, без текстов, и композитор мог лишь приблизительно догадываться о содержании песен. Сколько бы он ни просил издателя снабжать его текстами, Томсон уклонялся от этого – якобы из-за того, что многие стихи сочинялись местными поэтами к уже готовой музыке.