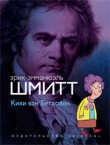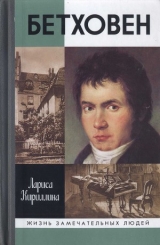
Текст книги "Бетховен"
Автор книги: Лариса Кириллина
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц)
К пятому акту коллиновской пьесы он взял себя в руки и сцену самоубийства Кориолана созерцал совершенно бестрепетно. За любые грехи и ошибки нужно расплачиваться. Даже если ты настоящий герой. К таким и счёт у небес – совершенно особый. Без скидок и снисхождений.
* * *
2 декабря произошло сражение при Аустерлице, названное позднее «битвой трёх императоров». Австрийцы и русские были разгромлены. Вскоре в Вену начали поступать жуткие вести о тысячах убитых и раненых. Ещё через некоторое время по дорогам потянулись вереницы обозов, развозившие окровавленных, обмороженных, стонущих, умирающих солдат всех трёх армий по больницам и монастырям, расположенным в венских предместьях и в окружающих городках. 14 декабря в аббатстве Мельк случился пожар, в котором погибли около трёхсот русских пленных, запертых в монастырских стенах. Останки несчастных наскоро похоронили в общей могиле; никто не знал их имён.
Скопление обозов с ранеными, павшие лошади, раскуроченные экипажи, трупы людей и животных – всё создавало апокалиптические картины. В деревнях крестьяне умирали от голода или промышляли мародёрством, как и отбившиеся от своих отрядов солдаты.
Вена по-прежнему оставалась под властью французов. В город снова прибыл Наполеон, и вся мировая политика сосредоточилась в Шёнбруннском дворце. Император и его дипломаты были заняты подготовкой мирного соглашения с Австрией, которое императору Францу оставалось лишь подписать. Возражения не принимались.
Столица при этом продолжала жить обычной жизнью. В Бургтеатре играли комедии. В театре у Каринтийских ворот пел кастрат Джироламо Крешентини. Наполеон, восхищавшийся его голосом, предложил Крешентини гигантское жалованье 30 тысяч ливров, если тот переедет в Париж. Бетховен, конечно, об этом знал и впоследствии (21 августа 1810 года) писал Гертелю, что венские оркестры находятся в упадке, «зато у нас есть деньги на какого-нибудь кастрата, который не приносит искусству никакой пользы, но щекочет вкусы наших пресыщенных и выцветших так называемых „великих“»…
Концертами в Шёнбрунне руководил Луиджи Керубини. После первого концерта Наполеон молча встал и удалился, не соизволив поблагодарить капельмейстера и музыкантов. Наполеон не любил музыки Керубини и считал маэстро слишком самостоятельным в суждениях. Но, поскольку Керубини был видной фигурой, игнорировать его присутствие в Вене было невозможно. Он оказался там в связи с предстоявшей премьерой в Ан дер Вин его новой оперы «Фаниска».
Произносил ли кто-то в присутствии Наполеона имя Бетховена?.. Неизвестно. Если не произносил, то это, вероятно, было к лучшему, поскольку трудно представить себе, к чему могла бы привести личная встреча двух великих людей, которых история сделала в тот момент врагами. Скорее всего, в кругу приближённых Наполеона ничего не знали о планировавшемся в 1804 году посвящении Третьей симфонии и о последующем снятии этого посвящения.
В глазах современников «звездой» музыкального мира в Вене 1805 года был совсем не Бетховен, а Керубини. В венских ноябрьских и декабрьских концертах музыка Бетховена вообще не исполнялась. 22 и 23 декабря 1805 года в Бургтеатре состоялись благотворительные концерты, в которых приняли участие более двухсот оркестрантов, а также сводный хор и солисты всех венских оперных трупп. В программе были вокальные произведения итальянцев: Муссини, Паэра, Сарти – и скрипичный концерт Франца Клемента. Дирижировал обоими концертами Керубини, а программу обрамляли фрагменты из его сочинений.
Присутствовал ли на каком-то из этих концертов Бетховен? Вполне вероятно. Общество помощи вдовам и сиротам музыкантов всегда выделяло ему бесплатные билеты на свои академии, потому что Бетховен безотказно предоставлял свои сочинения для исполнения в благотворительных целях. На сей раз никто его об этом не попросил. Составлял программу, по всей видимости, также Керубини.
Удивительно, но даже в столь враждебных обстоятельствах у Бетховена обнаруживались неожиданные почитатели. Карл Черни, завершавший в то время обучение у Бетховена, вспоминал, как однажды на квартиру к учителю явились некие французские офицеры, с которыми он разговорился, а потом принялся музицировать. Черни запомнил, что они исполняли «Ифигению в Тавриде» Глюка. Офицеры пели хоры, а Бетховен аккомпанировал с такой силой и страстью, что юный ученик был совершенно потрясён. По-видимому, это были хоры скифов из первого акта, перемежавшиеся воинственными плясками.
В эти тяжёлые месяцы Бетховену оставалось только одно: собрать всю волю в кулак и продолжать работать ради будущего. Самое худшее уже произошло. На 26 декабря было назначено подписание мирного договора Франции и Австрии. А на один из предшествующих декабрьских дней – совещание у князя Лихновского по поводу дальнейшей судьбы бетховенской оперы.
Об этом собрании известно из трёх мемуарных источников. Самый ранний из них – воспоминания Фердинанда Риса, опубликованные в 1838 году.
Из мемуаров Фердинанда Риса:
«Общество состояло из князя, княгини (будучи великолепной исполнительницей, она взялась играть партию фортепиано), надворного советника фон Коллина, Стефана фон Брейнинга (последние двое заранее договорились о сокращениях); присутствовали также первый бас, г-н Майер, г-н Рёккель и Бетховен. Поначалу он отстаивал каждый такт, но когда все высказались за то, что нужно изъять целые номера, а г-н Майер заявил, что ни одному певцу не под силу эффектно спеть арию Пицарро, Бетховен начал грубить и вспылил. Наконец он обещал сочинить для Пицарро новую арию (ту самую, которая ныне стоит в „Фиделио“ под № 7), и в итоге князь добился его согласия хотя бы попытаться изъять те номера на первом представлении. Говорили, что всегда ведь можно будет вставить их обратно или использовать как-то по-иному, а то в нынешнем виде произведению не хватает эффекта. После долгих переговоров Бетховен сдался, и вычеркнутые номера больше не исполнялись. Это заседание длилось с семи вечера до двух ночи, и дело было завершено весёлым пиром».
Напомним, что самого Риса в то время не было в Вене, и его сообщение основано на словах третьих лиц. Скорее всего, его информатором мог стать Стефан фон Брейнинг (иначе откуда Рис мог бы знать о «сговоре» между ним и Коллином?).
Другие два источника – записанные гораздо позднее воспоминания тенора Йозефа Августа Рёккеля (1783–1870). В 1868 году, то есть по прошествии шестидесяти трёх лет, он изложил две версии событий, различавшиеся в некоторых важных моментах. В отличие от Риса Рёккель был непосредственным участником совещания, однако какой из его мемуаров ближе к истине, сказать трудно.
Согласно Рёккелю, его привёл к Лихновскому бас Себастьян Майер. Тот предполагал, что Рёккель заменит в роли Флорестана неудачно дебютировавшего Деммера. Пикантность ситуации заключалась в том, что Рёккель был учеником Деммера и поначалу идти на совещание отказывался.
Из воспоминании Йозефа Августа Рёккеля:
«Меня страшила задача петь экспромтом такую трудную партию в присутствии столь же придирчивого, сколь и вспыльчивого композитора, хотя я неоднократно слышал её из уст моего учителя и – теперь уже – соперника, и потому отчасти уже выучил. Смущало меня и то, что, решившись на этот шаг, я неизбежно нарушил бы театральную иерархию, отняв роль у обиженного тенориста. Я бы охотно сбежал с полпути, если бы Майер не держал меня крепко под локоть и буквально тащил за собой. Так мы вошли в княжеский особняк и поднялись по ярко освещённой лестнице. Нам навстречу спускались лакеи с пустыми чайными подносами. Мой спутник, знакомый с обычаями этого дома, скорчил крайне недовольную мину и проворчал: „Время чая уже прошло. Боюсь, что ваша нерешительность дорого обойдётся нашим желудкам“.
Нас провели в музыкальный зал, освещённый люстрами со множеством свечей и украшенный тяжёлыми атласными портьерами. На стенах красовались картины великих живописцев, заключённые в пышные, блистающие позолотой рамы, говорившие как о художественном вкусе, так и о богатстве княжеской семьи. Похоже, нас уже ждали. Майер был прав: чаепитие закончилось, и всё было готово к началу музыкального прослушивания. Княгиня, дама несколько в возрасте, покоряла своим дружелюбием и неописуемой мягкостью манер. Из-за тяжёлых телесных страданий (в прежние годы у неё были отняты обе груди) она выглядела бледной и слабой. Она села за фортепиано; напротив неё небрежно развалился в кресле Бетховен, державший на коленях принёсшую ему столько бед партитуру злосчастной оперы. Справа от него сидели автор трагедии „Кориолан“ – Генрих фон Коллин, надворный секретарь Маттеус фон Коллин, который беседовал с другом юности композитора, советником Брейнингом из Бонна. Мои коллеги по театру, певцы и певицы, уже встали полукругом возле фортепиано, держа в руках свои партии. Там были Мильдер – Фиделио, мадемуазель Мюллер – Марцеллина, Вейнмюллер – Рокко, Каше – привратник Жакино и Штейнкопф – Министр. После того как меня представили князю и княгине, а мы, в свою очередь, с полным благоговением поприветствовали Бетховена, он поставил партитуру на пульт фортепиано перед княгиней – и прослушивание началось.
Два первых акта, в которых я не участвовал, были пройдены от первой до последней ноты. Люди поглядывали на часы и одолевали Бетховена просьбами сократить растянутые и не слишком важные фрагменты. Он, однако, защищал каждый такт, причём с такой гордостью и артистическим достоинством, что мне хотелось пасть к его ногам. Но когда дело дошло до самого главного – значительного сокращения экспозиции и слияния, благодаря этому, двух первых актов в один – он вышел из себя, громко крикнул: „Ни единой ноты!“ – и хотел забрать партитуру. Однако княгиня, сложив руки в молитвенном жесте, как если бы защищала вверенную ей святыню, посмотрела на разгневанного гения с неописуемой кротостью – и под её взглядом его гнев сошёл на нет, и Бетховен покорно вернулся на своё место. Эта высокая духом женщина продолжала аккомпанировать и сыграла вступление к моей арии „В дни весны“. Я попросил у Бетховена выписанную партию Флорестана, но мой неудачливый предшественник, вопреки неоднократным требованиям, так её и не вернул, и посему мне пришлось петь, стоя у фортепиано, прямо с партитуры, по которой играла княгиня. Я знал, что эта большая ария значит для Бетховена не меньше, чем вся опера, и так к ней и отнёсся. Он хотел слушать её снова и снова, и такое напряжение было почти выше моих сил, но я пел, поскольку почувствовал себя на вершине счастья, заметив, что моё исполнение способно примирить великого мастера с его отвергнутым произведением.
Исполнение, затянувшееся из-за многократных повторов, закончилось лишь после полуночи.
– А как с переработкой, с сокращениями? – спросила княгиня, умоляюще глядя на мастера.
– Не требуйте этого, – ответил он мрачно. – Невозможно убрать ни одной ноты!
– Бетховен! – воскликнула она, глубоко вздохнув. – Неужели ваше величайшее произведение останется отринутым и оклеветанным?
– Ему вполне достаточно вашего одобрения, милостивейшая княгиня, – ответил мастер, и его дрожащая рука выскользнула из её руки.
Внезапно этой хрупкой женщиной овладел сильный и могучий дух. Едва ли не склонившись перед ним на колени и обнимая его, она вдохновенно воскликнула: „Бетховен! Нет! Вы не должны обрекать на забвение ваше величайшее творение! Этого не хочет Бог, наполнивший вашу душу звуками чистейшей красоты, – и этого не хочет душа вашей матери, которая в это мгновение с мольбой взирает на вас моими глазами! – Бетховен, это нужно сделать! Уступите! Сделайте это в память о вашей матери! Сделайте это ради меня, вашей единственной, самой верной подруги!“…
Великий человек, черты которого напоминали об олимпийской возвышенности, долго стоял перед ангельски бледной почитательницей его музы. Потом он убрал прядь, давно уже упавшую ему на лицо, как будто стряхивая прекрасную мечту, овладевшую его душой, и, обратив к небу растроганный взгляд, вскрикнул, рыдая: „Я хочу – я сделаю всё, ради вас – ради моей матери!“ Затем он благоговейно поднял княгиню и протянул руку князю, словно давая клятву. Мы стояли вокруг них, глубоко растроганные, ибо все тогда ощущали значительность этого великого момента.
После этого об опере не говорилось ни слова. Все были измучены, и, признаюсь, мы с Майером обменялись взглядами, полными облегчения, когда слуги растворили двери в столовую и общество наконец устремилось к роскошно сервированному столу, чтобы поужинать. Возможно, не совсем случайно моё место оказалось напротив Бетховена, который, будучи, по-видимому, ещё поглощён своей оперой, ел мало, зато я, истерзанный жестоким голодом, поглощал блюда первой перемены с забавной поспешностью. Он, смеясь, указал на мою пустую тарелку:
– Вы проглотили еду как волк! И что же вы съели?
– Честно говоря, – ответил я, – от голода я не заметил, что это было.
– Стало быть, вот почему вы так мастерски и правдиво исполнили партию изнурённого голодом Флорестана! Заслугу следует приписать не вашему голосу и голове, а всего лишь желудку. Что же, теперь всегда голодайте перед спектаклем, и успех нам обеспечен.
Все, кто был за столом, засмеялись, обрадовавшись прежде всего тому, что Бетховен вообще пошутил, а не шутке как таковой.
Когда мы покидали княжеский дворец, Бетховен сказал мне: „В вашей партии изменений будет мало. Приходите за нею на днях ко мне на квартиру, я сам её перепишу“».
В приведённой выше «большой» версии воспоминаний Рёккеля говорится, что на собрании присутствовали исполнители всех сольных партий, хотя некоторые имена тут были названы неверно (партию Рокко на премьере пел Йозеф Роте). В другом варианте мемуаров среди солистов упоминаются, как и в рассказе Риса, только Майер и сам Рёккель, зато содержатся интересные сведения об активном участии Франца Клемента:
«Клемент, сидя в углу, аккомпанировал наизусть, изображая своей скрипкой соло всех прочих инструментов. Необычайная память Клемента была хорошо известна, и никто этому не удивлялся, кроме меня. Майер и я старались изо всех сил, исполняя, по мере возможностей, он – все партии низких голосов, а я – всех высоких. Хотя друзья Бетховена были готовы к неминуемой битве, они никогда ранее не видели его в таком возбуждённом состоянии. Без непрестанных упрашиваний и молений хрупкой и болезненной княгини, которая была для Бетховена кем-то вроде второй матери, и он сам это признавал, у друзей вряд ли что-либо вышло бы из этой крайне сомнительной для них самих затеи».
Из слов Рёккеля может создастся впечатление, будто княгиня Лихновская была пожилой дамой. Однако на самом деле она была всего на пять лет старше композитора и в юности, как и две её сестры, считалась необычайной красавицей. Возможно, тяжёлая болезнь состарила её прежде времени.
Вряд ли вполне достоверно то, что все вокальные партии исполнялись только Рёккелем и Майером. В таком случае невозможно было бы исполнить ни терцеты, ни квартеты, ни дуэт Леоноры и Марцеллины, ни оба финала с участием хора. Партия Леоноры была рассчитана на Анну Мильдер, и сомнительно, чтобы Рёккель мог заменить голосистую примадонну. И как бы в таком случае прозвучал дуэт Леоноры и Флорестана?
Тем не менее в первом перечне Рёккеля упомянуты братья Коллин и Брейнинг (тут он совпадает с мемуарами Риса), а во втором присутствуют и другие театральные деятели, включая Йозефа Ланге. Если не представлять себе, кем был Ланге, то его приглашение на столь закрытое совещание выглядело бы более чем странным. Он не входил в круг ближайших друзей Бетховена, не являлся профессиональным музыкантом и не имел отношения к Театру Ан дер Вин. Но, видимо, его мнение для Бетховена было авторитетным.
Оба свидетельства Рёккеля, невзирая на их противоречивость, позволяют предположительно определить дату столь важного собрания.
Актёры (Ланге), певцы и капельмейстеры (Клемент и Зейфрид) бывали обычно по вечерам заняты и не могли бы провести весь вечер и часть ночи у князя Лихновского. К сожалению, в нашем распоряжении нет афиш Театра Ан дер Вин, по которым можно было бы достоверно судить о степени занятости Мильдер, Майера, Клемента и других певцов и музыкантов. Но обычно «облегчёнными» днями бывали понедельники, когда афиши заполнялись лёгкими пьесами вроде фарсов и дивертисментов. Если судить по графику выступлений Ланге, то он не играл на сцене 13 декабря, а также с 16 по 26 декабря. Однако нужно учитывать, что 22 и 23 декабря состоялись две академии под управлением Керубини. В первом концерте была занята Луиза Мюллер (бетховенская Марцеллина), во втором участвовал Франц Клемент. Естественно предположить, что накануне этого они репетировали и не могли принимать участие в совещании у Лихновского. Поэтому вероятными датами совещания могли быть, скорее всего, понедельники 9 или 16 декабря 1805 года. Думается, что 9 декабря – слишком ранняя дата. Во-первых, сам Рёккель писал о том, что совещание состоялось примерно через месяц после премьеры. Во-вторых же, учитывая политическую обстановку – разгром союзных войск при Аустерлице 2 декабря, – трудно представить себе, чтобы вскоре после трагических известий об этой катастрофе князь Лихновский и венские артисты помышляли только о судьбе оперы Бетховена. Нужно было некоторое время для того, чтобы воспрянуть духом.
Следовательно, предполагаемая дата совещания сдвигается к 16 декабря. И если представить себе, что всё описанное Рёккелем происходило накануне дня рождения Бетховена или непосредственно в этот самый день, то его предельно эмоциональная реакция на воззвание княгини Лихновской становится совершенно понятной. Мистическое заклинание именем матери, почти театральные жесты княгини и Бетховена, описанные Рёккелем, – всё это чем-то напоминает эпизоды из коллиновского «Кориолана», где Ветурия постепенно подводит сына к идее героического самопожертвования во имя родины.
Так или иначе, Бетховен, едва ли не единственный раз в жизни, поддался давлению своих друзей и пошёл на творческий компромисс. Снятие посвящения Третьей симфонии Наполеону таким компромиссом не было, поскольку сама симфония не претерпела никаких изменений, а название «Героическая» гораздо лучше выражало идею произведения, чем изначальное «Бонапарт». С оперой же дело обстояло по-иному. Бетховен своими руками изувечил «Леонору», которая в первой редакции была абсолютно цельным произведением.
Брейнинг негласно взялся переделать либретто, превратив трёхактную пьесу в двухактную. Зонлейтнеру, который, судя по воспоминаниям Риса и Рёккеля, не был приглашён на собрание у князя Лихновского, Бетховен сообщил о переделке postfactum, приняв всю ответственность на себя. Поверил ли Зонлейтнер в литературное соавторство Бетховена, трудно сказать, однако имя Брейнинга из деликатности осталось неназванным.
К новой версии оперы Бетховен написал увертюру, известную впоследствии как «Леонора № 3». На премьере 1805 года исполнялась «Леонора № 2», а обнаруженная лишь после смерти композитора ещё одна увертюра была сочтена самой ранней и получила наименование «Леонора № 1» – что, как выяснилось в XX веке, не соответствовало истине. На самом деле «Леонора № 1», будучи самой простой из трёх, была написана, вероятно, в 1807 году для несостоявшейся постановки оперы в Праге. В «Леоноре № 1» из прежнего материала осталась только цитируемая в среднем эпизоде лирическая тема арии Флорестана – тема, которая была несказанно дорога Бетховену.
Вторая редакция оперы была поставлена в Театре Ан дер Вин 29 марта 1806 года. И… вновь снята с репертуара уже после второго спектакля 12 апреля. Однако на сей раз – не по причине провала (успех не был триумфальным, но отзывы очевидцев и критиков позволяют говорить по крайней мере о заинтересованном приёме). Виной случившегося стал закулисный скандал, разыгравшийся, по-видимому, 11 апреля 1806 года. О подробностях случившегося известно опять же со слов Рёккеля, певшего партию Флорестана.
Из воспоминаний Йозефа Августа Рёккеля:
«Дирекция обещала композитору тантьему, а мне, поскольку я добровольно взялся исполнить объёмистую партию, не входившую в мои обязанности, причитался дополнительный гонорар. <…> Дожидаясь обещанного в прихожей директорского кабинета барона Брауна, я стал свидетелем бурной ссоры, разыгравшейся в соседней комнате между ним и разгневанным композитором. Бетховен был недоверчив и полагал, что полагавшаяся ему доля дохода должна быть больше, нежели начислил придворный банкир, являвшийся одновременно директором Театра Ан дер Вин. Последний, однако, заметил, что Бетховен – первый композитор, которому, ввиду его исключительных заслуг, предоставлена доля от сбора, и объяснил недостаточность суммы тем, что присутствовала лишь публика в абонированных ложах и в креслах партера, зато пустовала галёрка, обычно заполненная толпой, которая и даёт хорошие сборы на операх Моцарта. При этом барон подчеркнул, что музыка Бетховена до сих пор обеспечивала лишь присутствие образованной аудитории, в то время как оперы Моцарта вызывали всенародный энтузиазм и привлекали в театр толпы слушателей. Бетховен раздражённо забегал по комнате и вскричал:
– Я пишу не для толпы! Я пишу для образованных!
– Но они не заполняют зал, – спокойно возразил барон. – Чтобы обеспечить доходы, нам нужно присутствие толпы. А поскольку вы не хотите делать для неё в своей музыке никаких уступок, то и недостаточность тантьемы следует отнести на ваш счёт. Если бы мы платили Моцарту такую же долю от сборов при исполнении его опер, он бы стал богачом!
Это пренебрежительное сравнение со знаменитым предшественником задело Бетховена больнее всего. Не говоря больше ни слова, он подскочил и в яростном гневе вскричал:
– Верните мне мою партитуру!
Барон застыл на месте, поражённо уставившись на раскрасневшееся лицо гневного композитора, который с угрожающей страстностью повторил:
– Я требую мою партитуру! Немедленно!
Барон позвонил. Вошёл слуга.
– Партитуру вчерашней оперы – этому господину, – сказал он, и слуга быстро исполнил приказ.
– Мне жаль, – проговорил далее барон, – но я думаю, что, спокойно рассудив, вы…
Бетховен ничего не хотел больше слушать, он вырвал из рук слуги гигантскую партитуру и, даже не заметив моего присутствия, пронёсся через прихожую и выбежал вниз по лестнице.
Через несколько минут барон принял меня. Этот сдержанный человек не мог до конца скрыть овладевшую им лёгкую дрожь. Похоже, он понимал, какого сокровища лишился, и обратился ко мне:
– Бетховен погорячился и поторопился. Вы способны повлиять на него, предложите ему от моего имени всё, что он захочет, дайте любые обещания, чтобы его сочинение вернулось на нашу сцену.
Я взял на себя эту миссию и поспешил вслед за разгневанным мастером в его уединённое убежище. Но всё было напрасно, он никак не хотел успокоиться, и вторая версия „Фиделио“ оказалась запертой в его шкафу, из которого этот шедевр оказался извлечён лишь 17 лет спустя ради своенравной звезды оперной сцены – юной Шрёдер-Девриент, и, подобно воскресшему Фениксу, восстал из забвения».
Последний пассаж воспоминаний Рёккеля заведомо неточен: третья редакция оперы была осуществлена Бетховеном не через 17 лет, а через восемь – в 1814 году, и партию Леоноры вновь пела Анна Мильдер (её будущая преемница, Вильгельмина Шрёдер-Девриент, была в то время ребёнком). Что касается ссоры Бетховена с бароном Петером фон Брауном, то вряд ли есть основания не доверять рассказу певца. Другое дело, что по рассказу Рёккеля мы можем лишь догадываться об истинных причинах случившегося. Если бы суть конфликта заключалась только в финансовой стороне, то готовность дирекции пойти на уступки могла бы удовлетворить Бетховена. Разумеется, Рёккель справедливо заключил из невольно подслушанных им реплик, что Бетховена больно задело сравнение с Моцартом – но, с другой стороны, с кем же ещё было его сравнивать?
Может быть, причины нервного срыва композитора имели внутренний характер? На последних репетициях Бетховен был сильно раздражён, и это прорывалось в письмах Себастьяну Майеру, вновь ставившему спектакль. Перед 10 апреля Бетховен писал ему: «Сделай милость, попроси г-на фон Зейфрида, чтобы сегодня моей оперой продирижировал он; я хочу её посмотреть и послушать издали. По крайней мере, в этом случае моё терпение не подвергнется столь тяжким испытаниям, как если б мне пришлось выслушивать коверканье написанной мною музыки в такой непосредственной близости! – Я не могу объяснить это ничем иным, кроме как желанием сделать мне назло. <…> Теряешь всякую охоту что-нибудь писать, если нужно слушать свои сочинения в таком исполнении!»…
Критики также отмечали, что премьерный спектакль прошёл не совсем гладко, но второй уже гораздо лучше. Однако Бетховену трудно было угодить, и к тому же, возможно, он не был вполне уверен в художественной целостности результата. Иначе как вивисекцией это не назовёшь. Резать пришлось, как в тогдашней полевой хирургии, по живому, без анестезии, стиснув зубы и думая лишь о том, чтобы сохранить организму жизнь, пусть за счёт неизбежных увечий. Но когда жестокая операция была завершена, а искромсанная «Леонора» вновь выпущена на сцену, у композитора могло возникнуть чувство отторжения. Ведь первая редакция, самая длинная и притом самая вдохновенная, была ещё жива в его душе и памяти. Переделка же могла показаться ему ущербным уродцем – особенно при неважном исполнении. Тогда, собственно, ради чего были все эти жертвы? «Образованные», для которых он сочинял, и без этого приняли и полюбили его «Леонору». А «толпе» было безразлично, скольких мучений Бетховену стоило такое насилие над собой и своим детищем.
Вернувшийся в Вену князь Лобковиц устроил в своём дворце концертное исполнение «Леоноры». Для этого в начале мая 1806 года Бетховену пришлось обратиться к барону Брауну, чтобы получить оркестровые партии из театра; письмо было написано вежливо и не содержало никаких намёков на апрельскую ссору. Князь Лихновский собирался послать партитуру в Берлин, прусской королеве Луизе – надеясь, может быть, на посредничество принца Луи Фердинанда, который мог способствовать постановке оперы в придворном театре. Лобковиц, в свою очередь, намеревался устроить постановку в Праге, где имел большое влияние и где, как показывал пример «Дон Жуана» Моцарта, вполне могло иметь успех то, что не нравилось в Вене. Но из всех этих планов ничего не вышло, в том числе из-за нового обострения военных конфликтов. Печальная судьба «Леоноры» надолго осталась незаживающей раной в душе Бетховена. Партитуру первой редакции он бережно хранил до конца своих дней и, передавая её Шиндлеру незадолго до кончины, произнёс горькие и откровенные слова о том, что это духовное детище стоило ему наибольших мук при рождении и потому особенно ему дорого, так что он считает необходимым сохранить эту партитуру для будущего в интересах науки об искусстве (на постановку он уже и не рассчитывал). Шиндлер был поражён: он ничего не знал о существовании этой рукописи.
В связи со столетием премьеры оперы, отмечавшемся в 1905 году, первая редакция «Леоноры» была извлечена из забвения, и некоторые ценители творчества Бетховена с удивлением обнаружили, что мнение о «неудачном» произведении – миф, основанный на незнании подлинника. В наше время все три редакции, даже почти никогда не звучащая вторая, изданы и записаны на диски. Массовая публика знает и любит только «Фиделио» – оперу в третьей редакции, прекрасно вписавшуюся в триумфальный контекст Венского конгресса. В окончательном своём виде опера приобрела другой смысл. «Фиделио» 1814 года – произведение о подвиге, борьбе и победе. «Леонора» 1805 года – опера о любви, превозмогающей все преграды. «Фиделио» – опера для всех, которую можно играть хоть в театре, хоть на площади, хоть в стенах бывшего каземата или концлагеря. Но «Леонора» была и осталась музыкой «не для толпы».
Русские квартеты
…Она взглянула – в этот миг
Переплелись две наши жизни —
И стал весь мир как райский сад.
Фридрих Клопшток. Сплетенье роз[16]
Весной 1806 года Жозефина Дейм с детьми вернулась в Вену из Венгрии, где задержалась с прошлого лета из-за военных событий. В зимние месяцы, проведённые в Офене (западной части Будапешта), она, к радости родных, начала принимать участие в светских развлечениях, балах и концертах. Более того, она благосклонно относилась к галантным ухаживаниям графа Антона фон Волькенштейна, который страстно влюбился в неё, хотя был женатым человеком и к тому же почти на 20 лет старше Жозефины. Но, возможно, Брунсвики полагали, что это увлечение заставит Жозефину забыть о Бетховене.
Она не забыла. Неизвестно, присутствовала ли она в начале апреля в Ан дер Вин на возобновлении «Леоноры» (Франц Брунсвик там был), однако Бетховен вновь начал посещать её дом. Более того, когда в Вену ненадолго приехал граф Волькенштейн, возобновивший свои ухаживания, Жозефина, вынужденная сделать выбор, выбрала Бетховена. На что она надеялась, трудно сказать, ибо после вторичной неудачи с «Леонорой» его карьерные и материальные перспективы стали гораздо хуже, нежели год тому назад. Но, очевидно, она не хотела его потерять. Делить возлюбленную с кем-либо он не желал и дал ей это понять со свойственной ему прямотой.
Жозефина Дейм – Бетховену, черновик письма, 24 апреля 1806 года:
«Вы не знаете, какую боль причиняете моему сердцу. – Вы совершенно ложно со мной обходитесь – зачастую Вы сами не понимаете, что Вы делаете. – Я так глубоко это переживаю… Поверьте, милый, любимый Бетховен, что я гораздо больше, гораздо больше страдаю, чем Вы, – гораздо больше…
Если Вам дорога моя жизнь, обращайтесь со мной более бережно. – И прежде всего: не сомневайтесь во мне. Я не могу выразить, как глубоко меня ранит сознание того, что при всех жертвах, приносимых мною Добродетели и Долгу, меня с лёгким презрением могут приравнивать к каким-то низшим существам, даже если это происходит лишь мысленно! Это презрение, которое Вы так часто даёте мне почувствовать, причиняет мне невыразимую боль. —
Всё это так далеко от меня. Я ненавижу эти низменные, крайне пошлые уловки нашего пола! – Я безмерно выше их. – И мне кажется, Вы тоже не должны прибегать к таким средствам! – И кокетство, и ребяческое тщеславие мне равно чужды, ибо моя душа куда более склонна к возвышенному. – Что касается эгоизма, в котором Вы меня обвиняете: лишь вера в Ваши внутренние достоинства заставила меня полюбить Вас. – Если Вы не столь благородны, каким я Вас считала, то и я, вероятно, не должна обладать в Ваших глазах ни малейшим достоинством, ибо только предполагая, что Вы умеете ценить добрые Божьи создания, я могу что-то значить для Вас!