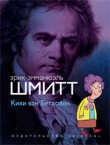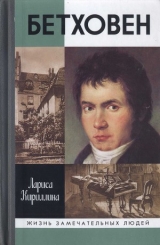
Текст книги "Бетховен"
Автор книги: Лариса Кириллина
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 38 страниц)
Полк Штуттерхайма стоял в моравском городке Иглау[50]. Была достигнута договорённость, что Карл уедет туда не сразу, а как только у него на голове отрастут волосы, сбритые в госпитале вокруг места ранения. Полиция, однако, настаивала на том, что, хотя к юноше отнеслись снисходительно, по закону Карл не должен оставаться в Вене.
Брат Иоганн давно зазывал Людвига к себе в гости, в своё имение Вассерхоф в селении Гнейксендорф близ города Кремс-ан-дер-Донау. Иоганн купил эту усадьбу в 1819 году и однажды гордо подписался как «Иоганн ван Бетховен, землевладелец», – на что язвительный брат тотчас ответил подписью «Людвиг ван Бетховен, мозговладелец». Отношения между ними были далеки от идеальных, но в 1820-е годы они общались довольно часто, поскольку Иоганн много времени проводил в Вене, квартируя в доме пекаря Леопольда Обермайера, брата своей жены Терезы. Бетховен терпеть не мог всё семейство Обермайер, считая их людьми вульгарными, необразованными, алчными и корыстными. Иоганна и его близких он честил самыми обидными словами: «небратский братец», «брат-Каин» и т. д. В начале июля 1823 года Иоганн серьёзно заболел, и у Бетховена возникли опасения, что жена и падчерица намеренно не оказывают ему помощи, желая поскорее завладеть его немалым наследством. Людвиг обратился с заявлением на них в полицию и начал уговаривать брата переехать к нему: «Насколько счастливее мог бы ты жить с таким превосходным юношей, как Карл, и с таким братом, как я. Поистине ты вкусил бы райскую благодать на земле». Позднее Бетховен уверял, будто ничего не имеет против жены Иоганна, но на самом деле его отношение к ней было примерно таким же, как и к матери Карла. Именно поэтому до сих пор Бетховен отклонял все приглашения брата посетить его имение. Он не хотел жить под одной крышей и сидеть за одним столом с Терезой и её дочерью Амалией. Но в ситуации, сложившейся после выхода Карла из госпиталя, у Бетховена не было другого выбора.
26 сентября 1826 года они с Карлом отправились в Гнейксендорф.
Десятая симфония
Аполлон и музы пока ещё не отдадут меня Смерти, ибо я ещё в большом долгу перед ними. И прежде чем отправиться в поля Элизиума, я обязан оставить после себя то, что внушает и велит исполнить мне дух. Мне ведь кажется, будто я едва написал лишь несколько нот.
Бетховен – И. Й. Шотту, 17 сентября 1824 года
На смерть покойного Бетховена…
Запись Бетховена в разговорной тетради, конец августа 1826 года
«Как видите, я нахожусь в Гнейксендорфе. В названии есть что-то общее со звуком ломающейся оси. Воздух – целительный. Что касается прочего, то остаётся лишь сказать memento mori», – писал Бетховен 2 октября 1826 года Тобиасу Хаслингеру. Впрочем, не покидавшие Бетховена предчувствия скорой смерти отнюдь не вогнали его в депрессию. Письма Хаслингеру полны шуток и каламбуров, хотя содержат вполне деловые просьбы и поручения. С другими издателями Бетховен общался в более сдержанном тоне, однако также в умиротворённом настроении. Одна из причин этой благостности раскрыта в письме от 13 октября Иоганну Йозефу Шотту: «Места, где я нахожусь сейчас, несколько напоминают мне окрестности Рейна, которые я так страстно желаю вновь увидеть – ведь я их покинул в юные годы».
Область, в которой было расположено имение брата, принадлежит долине Вахау, знаменитой своим плодородием и красивыми пейзажами. Гнейксендорф находится в стороне от Дуная, но из селения можно пешком дойти до города Кремса, расположенного на берегу величавой реки. Местность возле Гнейксендорфа ровная – поля, виноградники, сады, рощи, однако за Кремсом начинаются лесистые холмы, действительно напоминающие Рейнскую область. Поездка в Гнейксендорф стала своеобразной заменой возвращения на родину – не только в Бонн, но и в собственное далёкое прошлое, существовавшее только в воспоминаниях самого Бетховена, его старых друзей и брата Иоганна.
Имение Вассерхоф сохранилось; оно является частной собственностью. Однако, поскольку поклонники Бетховена продолжают посещать это место, семья, владеющая Вассерхофом, устроила небольшой музей в двухэтажном доме на территории имения; в музей можно попасть только по предварительной договорённости. На стенах первого этажа красуются подлинные росписи XVIII века, а в экспозиции представлены предметы старинного интерьера. Хотя музейный дом называется «Бетховенским», композитор жил не в нём, а в главном усадебном доме.
Сообщая Хаслингеру о том, что пишет ему «из замка синьора Fratello», Бетховен не сильно преувеличивал. Вассерхоф действительно был когда-то небольшим замком, построенным ещё в XVII веке. К его фасаду примыкает башня с остроконечной кровлей. Но, если бы не башня, замок выглядел бы как обычный добротный особняк прямоугольной формы, без архитектурных излишеств. Два этажа – жилые, нижний – полуподвальный. Художник Теодор Вайзер, посетивший замок в 1919 году, запечатлел на рисунках его тогдашний вид. Один из рисунков изображает комнату, отведённую в 1826 году композитору. Это было просторное и светлое помещение, обогреваемое изразцовой печью в углу. Бетховен гостил у брата не задаром; практичный Иоганн испросил у него плату четыре флорина в день за проживание и питание. Но это было в любом случае намного дешевле, нежели снимать жильё в Бадене и питаться в ресторанах или нанимать кухарку.
К замку примыкает парк, который сейчас считается памятником садового искусства. В нём имеются липы, каштаны, плакучие ивы, клёны, сосны, ясени, тисы. Вероятно, самые старые деревья росли здесь при Бетховене и он мог любоваться яркими красками осени из окна своей комнаты. Недалеко от Вассерхофа в 1914 году был воздвигнут памятник Бетховену – глыба природного необработанного камня в форме языка пламени, на котором закреплено рельефное изображение лица композитора. На старой фотографии памятника видно, что в то время по обеим сторонам росли тоненькие молодые деревца; сейчас они превратились в столетние дубы, осеняющие камень своей листвой с весны до глубокой осени.
Другой своеобразный памятник, имеющийся в Гнейксендорфе, посвящён последнему Квартету Бетховена, ор. 135, завершённому в имении брата. На каменной стеле изображены музыкальные темы, положенные в основу финала и подтекстованные самим композитором загадочными словами; «Должно ли это быть? – Это должно быть!» («Muss es sein? – Es muss sein!»). Существуют две версии возникновения этого девиза. Одна – житейски-комическая: богатый банкир Игнац Дембшер попросил у Бетховена голоса одного из предыдущих квартетов для исполнения у себя дома; композитор потребовал гонорар. «Что, так должно быть?» – удивился банкир. Бетховен откликнулся музыкальной шуткой в форме канона; «Это должно быть! Раскошеливайтесь!» (История эта – не совсем анекдот, она отражена в разговорных тетрадях.) Другая версия сообщена издателем Морицем Шлезингером, которому Бетховен якобы жаловался, что завершение этого квартета далось ему крайне нелегко и он лишь усилием воли заставил себя дописать финал. В свете тяжёлых переживаний августа и сентября 1826 года это выглядит психологически правдоподобно. Однако жизнеутверждающее окончание финала лишено привычной для Бетховена героики. «Гамлетовский» вопрос (Muss es sein?) звучит в начале финала совершенно всерьёз, а при своём возвращении – даже трагически. Но ответ на роковой вопрос оказывается откровенно насмешливым. «Так нужно!» (Es muss sein!) – упрямо выкрикивает главная тема, а в коде финала, где все инструменты играют щипком, pizziccato, возникает ощущение, будто все впали в детство и изображают то ли музыкальную шкатулку, то ли китайский театр, то ли птичий концерт в весенней роще.
Зазывая брата к себе в имение, Иоганн ручался, что ему не придётся много общаться с его женой и падчерицей. Но совсем избежать этого, живя в одном доме, было невозможно. Амалия, девятнадцатилетняя дочь Терезы, старалась держаться от Бетховена подальше; ни одной записи, сделанной её рукой, в разговорных тетрадях нет. Тереза, будучи хозяйкой усадьбы, иногда вела с гостем застольные разговоры, стараясь затрагивать только нейтральные темы: о погоде, о кушаньях, о вине, о том, как Карл хорошо играет на рояле. В 124-й тетради она записала, что местный священник гордился тем, «какое счастье ему выпало – видеть в своём доме великого, знаменитого Бетховена». Однако эмоциональной близости с семьёй Иоганна у композитора не возникло. Он прекрасно знал, что никто из окружающих ничего не понимает в его музыке, да и его самого не слишком жалует. Раньше ему казалось, что близкую душу он сможет обрести в подрастающем племяннике, но и тут его ждало полное разочарование. Карл, с одной стороны, постоянно говорил о предстоящей военной службе, а с другой – откладывал срок отъезда, придумывая разные отговорки, и Бетховен вновь шёл у него на поводу. Вернуться в Вену означало расстаться с Карлом, которого он продолжал любить ревниво и самоотверженно.
Были и другие причины, по которым Бетховен задержался в Гнейксендорфе до самой зимы. За городом ему всегда хорошо работалось. В октябре он закончил и отправил Морицу Шлезингеру Квартет ор. 135, в ноябре сочинил новый финал к Квартету ор. 130. С квартетной «лихорадкой» предыдущих лет было покончено. Теперь Бетховен считал, что готов к созданию куда более крупных произведений.
После успешного возвращения в 1822 году на сцену «Фиделио» все окружающие начали упрашивать композитора сочинить хотя бы ещё одну оперу. Брат Иоганн подсчитывал, сколько денег можно было бы получить от театральной дирекции; друзья и знакомые взывали к патриотическим чувствам Бетховена, ибо им казалось, что массовое увлечение произведениями Россини губит едва успевшую родиться немецкую оперу.
Бетховен рассматривал множество сюжетов, но ни один его не увлёк. Он прекрасно знал, чего бы хотел в идеале: его мечтой был «Фауст». Однако тут вставала проблема текста. Не могло быть и речи о том, чтобы положить на музыку всю трагедию, даже с сильными сокращениями. Требовался либреттист, способный сжать текст Гёте в несколько эпизодов. Но кто был на такое способен, кроме самого Гёте? Поэт так и не ответил на письмо Бетховена от 8 февраля 1823 года, и обращаться к нему по поводу «Фауста» композитор, видимо, не решался. Да и сам он несколько робел перед этим сюжетом, представляя себе всю ответственность задачи. Беседуя в апреле 1823 года с неизвестным почитателем, Бетховен записал в 28-й разговорной тетради: «Сейчас я пишу не то, что мне хочется, а то, за что платят деньги, в которых я нуждаюсь. Это не значит, что я пишу только ради денег – как только пройдёт этот период, я надеюсь, наконец, написать то, что считаю для себя и для искусства самым высоким: Фауста». Судя по всему, беседа велась на людях, и Бетховен изъявил своё заветное желание письменно, чтобы его не слышали посторонние.
Друзья свели Бетховена с Францем Грильпарцером, который согласился написать либретто специально для Бетховена (но, конечно, не по «Фаусту»). Собственно, знакомы они были очень давно, как минимум с 1805 года. Но пока Грильпарцер был подростком, Бетховен не обращал на него особого внимания. В 1823 году композитор и поэт наконец встретились в качестве будущих соавторов. Грильпарцер неоднократно жаловался Бетховену, что его драмы запрещает или безжалостно кромсает цензура. Поэтому он, видимо, решил не рисковать и предложил сюжет, к которому у цензоров не могло возникнуть претензий. Это была романтическая сказка «Прекрасная Мелузина», основанная на средневековой легенде о фее, имевшей облик красавицы со змеиным хвостом. Рыцарь, ставший её мужем, нарушил запрет и проник в тайну её превращений, и Мелузина вернулась в родную стихию.
Подобные сюжеты, повествовавшие о любви неземного существа к обычному смертному, широко распространились после 1815 года, в эпоху романтизма, хотя начали появляться в литературе, театре и музыке ещё раньше, в конце XVIII века. В 1813 году была опубликована сказка Фридриха де ла Мотт Фуке «Ундина», которую вскоре перевели на другие европейские языки (на русский – В. А. Жуковский). «Ундина» Гофмана, поставленная в Берлине в 1816 году, стала одной из первых немецких романтических опер.
Грильпарцер написал либретто «Мелузины», однако композитор долго тянул с началом работы над оперой, а затем принялся узнавать, насколько реальна её постановка. В венские театры он обращаться не захотел: и с Дюпором, ведавшим придворными сценами, и с Пальфи, владевшим Театром Ан дер Вин, у него были плохие отношения. Бетховен написал в Берлин и получил вежливый отказ, мотивированный тем, что «Мелузина» по сюжету слишком похожа на гофмановскую «Ундину», которая тогда успешно шла на берлинской сцене. Как ни странно, Бетховен не только не обиделся, а, похоже, вздохнул с облегчением. У него появился законный предлог уклониться от написания оперы, сюжет которой был ему не по нраву.
Среди планов Бетховена значились и крупные произведения в церковных жанрах. После того как в 1822 году умер придворный композитор Антон Тайбер, первый учитель музыки эрцгерцога Рудольфа, появилась надежда, что на его должность может быть назначен Бетховен. Тайбер занимался сочинением церковной музыки, и Бетховена это вполне устраивало. Но нужно было склонить императора Франца к согласию на такое назначение. Личные симпатии или антипатии играли здесь едва ли не решающую роль. Заведовавший музыкой при венском дворе граф Мориц Дитрихштейн уговаривал Бетховена написать новую мессу в том стиле, который нравится Францу I. Но уже к февралю 1823 года стало ясно, что из этого намерения ничего не выйдет: император предпочёл совсем упразднить должность покойного Тайбера, нежели позволить занять её Бетховену. В 1825 году умер старый и страдавший расстройством психики капельмейстер Сальери; возникла робкая надежда на то, что теперь его пост сможет занять Бетховен, однако и эта надежда вскоре угасла.
В последние годы жизни Бетховен неоднократно говорил, что хотел бы написать Реквием, и окружающие охотно поддерживали его в намерении бросить вызов Моцарту и Керубини, поскольку реквиемы этих двух композиторов считались тогда вершиной творчества в данном жанре. Бетховен, как ни странно, предпочитал Реквием до минор Керубини, созданный в 1816 году и посвящённый памяти казнённого короля Людовика XVI. Карл Хольц вспоминал, что Бетховен говорил ему: «Реквием должен быть скорбным поминовением мёртвых; не стоит слишком увлекаться Страшным судом». Но каким мог бы стать Реквием самого Бетховена, мы уже никогда не узнаем. Дальше разговоров дело не пошло.
Не сохранилось и музыкальных набросков к ещё одному крупному и чрезвычайно интересному замыслу, который занимал воображение Бетховена в последние месяцы 1826 года: это была оратория «Саул» на библейский сюжет – тот же самый, что в одноимённой оратории Генделя. Либретто для Бетховена взялся писать его давний знакомый, поэт и драматург Кристоф Куффнер (1780–1846). Они неоднократно встречались и обсуждали подробности будущей оратории, а также другие темы – литературу, философию, политику. Замысел Куффнера выглядел очень оригинально; Хольц в 115-й разговорной тетради сообщал Бетховену: «Куффнер намерен отказаться в этой оратории от всех обычных форм, дабы вы могли обращаться с текстом как можно более непринуждённо. Поэтому он хочет совершенно отринуть привычную доселе манеру обозначать арии, дуэты, терцеты и всё такое прочее, и предоставить на ваше усмотрение те места, где вы сочтёте нужным ввести арию, дуэт и т. п. <…> Хор он намерен рассматривать как постоянного участника действия, как было в греческих трагедиях, и всюду разделять его на два полухория. Будут два больших хора в начале первой части и по завершении целого, а между ними краткие промежуточные хоры».
К лету 1826 года Куффнер написал первую часть либретто, а Бетховен начал готовиться к сочинению оратории: по свидетельству Хольца, он штудировал труды, посвящённые музыке древних иудеев, и намеревался писать хоры в старинных ладах (видимо, по образцу «Благодарственной песни» из Квартета ор. 132). Кроме того, Бетховен одолжил у историка Рафаэля Георга Кизеветтера клавир генделевского «Саула», который взял с собой в Гнейксендорф. Однако приступить к непосредственной работе над «Саулом» Бетховен не успел. Либретто Куффнера должно было получить одобрение цензуры и только после этого могло быть отдано композитору. Осенью 1826 года этого ещё не произошло, а потом было уже поздно.
Единственным неоконченным замыслом последнего года жизни Бетховена, о котором можно судить не только по беседам в разговорных тетрадях, но и по большому количеству эскизов, стала Десятая симфония. 18 марта 1827 года Бетховен, жить которому оставалось лишь неполных девять дней, писал Игнацу Мошелесу в Лондон, что у него на пюпитре лежат эскизы новой симфонии. Однако по прошествии некоторого времени после смерти композитора возникло мнение, будто Десятая симфония была таким же умозрительным планом, как оратория «Саул», и существовала лишь в голове своего создателя. Тем не менее Карл Хольц вспоминал о том, как Бетховен играл ему на рояле уже готовую первую часть симфонии и описывал её общие очертания: «Вступление в Es-dur, пьеса нежного склада – и мощное Allegro c-moll». Хольц, в отличие от Шиндлера, не был склонен к выдумкам. Интересно, что приставленный в Гнейксендорфе к Бетховену молодой слуга Михаэль Крен также вспоминал, что композитор иногда играл на рояле, стоявшем в гостиной. Крен не разбирался в музыке и не мог сказать, что именно раздавалось из-под пальцев Бетховена. Может быть, это была Десятая симфония?..
В 1980-х годах выяснилось, что описание Хольца полностью соответствовало истине. Эскизы симфонии никуда не исчезли; их просто более 150 лет не могли идентифицировать, поскольку они перемежались другими набросками. Английский музыковед Барри Купер, исследуя одну из эскизных книг Бетховена, хранящуюся в Библиотеке Прусского культурного фонда в Берлине, пришёл к выводу, что наиболее подробно был разработан план первой части симфонии, а относительно трёх последующих частей удалось выявить лишь отдельные музыкальные темы, назначение которых не всегда бесспорно. Результаты своих изысканий Купер изложил в статье, опубликованной в 1985 году[51]. Однако он не удержался от искушения попытаться восстановить первую часть Десятой симфонии по эскизам Бетховена. Получившийся в результате опус протяжённостью 500 тактов и длительностью около 15 минут был исполнен в 1988 году в Лондоне Ливерпульским симфоническим оркестром; затем состоялись концерты в Токио, Нью-Йорке и других городах; была издана партитура и выпущен компакт-диск. Эта реконструкция вызвала очень разноречивые отзывы. У неё нашлись как поклонники, так и критики. Изъяны реконструкции слишком заметны, и выдавать этот опыт за произведение Бетховена, наверное, не стоило бы. Разница творческих потенциалов слишком велика, чтобы автор реконструкции отважился бы на ту степень свободы работы с эскизами, которая была неотъемлемой чертой творчества Бетховена. Ведь пока Бетховен не вносил последние штрихи в уже готовую чистовую партитуру, никто не мог сказать, каким в итоге выйдет произведение.
Осенью 1827 года Бетховен занимался и обдумыванием двух камерных произведений, заказанных Антонио Диабелли. Это была соната для фортепиано в четыре руки, для которой композитор уже выбрал тональность фа мажор, однако дальше продвигаться не спешил. Гораздо больше его интересовал струнный квинтет до мажор, к которому Бетховен написал торжественную интродукцию и набросал кое-какие темы для разных частей. Интродукцию, которая представляла собой законченный фрагмент, Диабелли издал в 1838 году в виде фортепианного переложения под названием «Последняя музыкальная мысль Бетховена». Название выглядело сенсационно, однако совершенно не соответствовало истине. Никто не может сказать, какой на самом деле была «последняя музыкальная мысль» гения. Последним его законченным сочинением, пусть и очень кратким, считается канон, написанный по возвращении в Вену и посланный в письме Хольцу: «Все мы ошибаемся, но каждый по-своему».
Первоначально предполагалось, что Бетховен с племянником пробудут в имении Иоганна недели две, и они, уезжая 26 сентября из Вены, даже не взяли с собой зимней одежды, поскольку погода стояла ясная и тёплая. Однако их пребывание в Гнейксендорфе сильно затянулось. Бетховен не прекращал своих многочасовых прогулок по окрестностям, не обращая внимания на погоду и на собственную внешность, которая в глазах местных обывателей, не знавших, кто он такой, выглядела диковатой. Седой, со всклокоченными волосами над смуглым лицом, в небрежной и порой грязной одежде, быстро шагавший, не разбирая дороги, громко распевая и выкрикивая какие-то слова, а иногда застывавший на месте и что-то записывавший в тетрадь, он казался деревенским жителям безумцем. Один из крестьян, не знавший о глухоте Бетховена и тщетно пытавшийся заставить его уступить дорогу своим волам, спросил у местного жителя, кто такой этот чудак. Услышав в ответ: «Это брат нашего помещика», сильно изумился: «Ну ничего себе братец!»
Карл, по-видимому, стеснялся выходить вместе с дядей, отговариваясь плохой погодой, при том что не высказывал и желания уезжать из Вассерхофа, хотя его здоровье полностью восстановилось. Напряжение между всеми членами семьи накапливалось и время от времени приводило к ссорам, особенно между Бетховеном и его племянником. В двадцатых числах ноября Карл раздражённо писал в 124-й разговорной тетради: «Прошу тебя, оставь меня, наконец, в покое. Если хочешь уехать, уедем, если не хочешь, тоже ладно. Но ещё раз прошу тебя не терзать меня так, как ты делаешь. В конце концов, ты об этом пожалеешь; я многое терплю, но, когда мера переполняется, это становится для меня невыносимо. Сегодня ты и на брата напустился беспричинно. Тебе стоит подумать о том, что другие – тоже люди. – Эти вечные несправедливые упрёки. – К чему ты сегодня опять устроил этот спектакль? – Ты не хочешь меня ненадолго отпустить? Я действительно нуждаюсь в отдыхе. Чуть позже я вернусь. – Я хочу побыть у себя в комнате. – Я не буду никуда выходить, я хочу лишь немного побыть один! – Неужели мне нельзя уйти в мою комнату?»…
Прочитав такие записи и не зная, что именно говорил в ответ Бетховен (тире обозначают места его реплик), нетрудно склониться к мысли, будто дядя мучил юношу необоснованными придирками. Однако картина была гораздо сложнее. Брат Иоганн, при всей своей меркантильности, был незлым человеком и старался гасить конфликты, не придавая значения вспышкам Людвига. Но Иоганну тоже не нравилось поведение Карла. С одной стороны, его привязанность к Карлу носила более спокойный характер, и он не донимал племянника сценами ревности. С другой – он прекрасно видел, что Карл вновь отбился от рук, а Бетховен склонен ему потакать.
Накануне понедельника 27 ноября 1826 года Иоганн написал Людвигу откровенное письмо:
«Мой дорогой брат!
Я больше не могу оставаться безучастным к судьбе Карла. Он погряз в безделье и так привык к этому образу жизни, что ему чрезвычайно трудно будет вновь начать работать. Чем дольше он тут находится, тем больше бездельничает. Брейнинг отвёл ему на отдых всего 14 дней, между тем как прошло уже два месяца. Из письма Брейнинга явствует, что именно он хочет, чтобы Карл как можно скорее отправился на службу. Чем дольше он здесь, тем хуже это для него. <…>
Очень жаль, что столь талантливый юноша тратит своё время таким образом, и кому, как не нам обоим, надлежит взять на себя эту ношу и руководить им, поскольку он пока слишком юн, чтобы делать это самостоятельно. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы ты сам и другие люди тебя потом упрекали, то твой долг – поскорее направить его на должный путь. Поступить так сейчас – значит позаботиться о нём и о его будущем, а оставить всё, как есть – значит не сделать ничего.
По его поведению я вижу, что он охотно остался бы с нами. Но предначертанное ему будущее делает это невозможным. И чем больше мы колеблемся, тем труднее ему уехать. Поэтому заклинаю тебя: прими твёрдое решение, не дай Карлу себя отговорить, и пусть это случится не позднее будущего понедельника. Меня ты можешь ни в коем случае не дожидаться, ведь без денег я не могу отсюда уехать, и мне многое ещё предстоит сделать тут, прежде чем я смогу отправиться в Вену».
Ответом на это письмо была очередная ссора. Бетховен решил, что брат выгоняет его из дома, и немедленно велел собирать вещи. Он мог бы поехать в одной карете с невесткой Терезой, которая направлялась в Вену. Однако он предпочёл нанять отдельный экипаж, которым оказалась жалкая повозка молочника. Ночлег на постоялом дворе, где Бетховен выпил ледяной воды из стоявшего в сенцах кувшина, и путешествие без зимней одежды в холодной повозке привели к ожидаемому результату: в Вену Бетховен прибыл совершенно больным. Случилось это в последние дни ноября, поскольку в письме Хольцу от 3 декабря Бетховен писал, что вернулся в столицу несколько дней назад.
К сожалению, разговорные тетради содержат лакуну и в них не отражены события, происходившие между отъездом Бетховена из Гнейксендорфа и прибытием в Вену. Однако из записей в сохранившейся тетради за 4–6 декабря ясно, что Шиндлер в своей «Биографии Бетховена» оклеветал племянника Карла, рассказав вздорную историю о том, как Карл беспечно развлекался, пока его дядя тщетно ждал медицинской помощи. Шиндлер ссылался на слова доктора Андреаса Вавруха (1772–1842), который якобы был вызван к Бетховену совершенно случайным человеком: «Некий маркер из городской кофейни явился в госпиталь и сообщил ему, что несколько дней назад в этой кофейне играл на бильярде племянник Бетховена, который попросил его найти доктора для своего больного дяди. Тот служащий сам был нездоров и смог выполнить поручение лишь теперь».
Источники свидетельствуют, что всё было совершенно не так. Во-первых, сам Шиндлер появился в доме Бетховена лишь спустя две недели после его возвращения, так что очевидцем тех событий он не был. Во-вторых, задержка с вызовом врача вышла совсем не по вине Карла. К докторам по поручению Бетховена ходил не только Карл, но и Хольц, поспешивший к Бетховену сразу по получении его письма. Первый из врачей, Антон Браунхофер, лечивший Бетховена в предыдущие годы, отказался прийти, мотивировав это якобы тем, что пациент жил слишком далеко. Затем послали за другим знакомым доктором, Якобом фон Штауденхеймом. Тот обещал явиться, но почему-то не смог. Хольц, уже по собственному почину, обратился к их общему с Бетховеном приятелю, медику Доминику Вивеноту, однако тот оказался болен (показательно, что это сообщение Хольца было позднее вычеркнуто из разговорной тетради Шиндлером, видимо, не желавшим раскрытия правды). И лишь на третий день переговоров, беготни и тщетных ожиданий Хольцу удалось пригласить через третьих лиц Андреаса Вавруха, которого никто в бетховенском кругу не знал лично. Ваврух явился во второй половине дня 5 декабря, отрекомендовавшись как почитатель таланта Бетховена. Второй его визит состоялся на следующий день, 6 декабря, в присутствии племянника Карла, который записывал реплики врача в 125-й разговорной тетради. По мнению Вавруха, состояние больного на второй день наблюдений улучшилось и сильной тревоги не вызывало.
Профессиональная компетентность Вавруха казалась неоспоримой. Он был доктором медицины и профессором хирургической клиники при Венском университете. Однако на эмоциональном уровне между врачом и пациентом возникло отчуждение, переросшее во взаимную неприязнь. Чем дальше, тем больше Бетховен не доверял Вавруху, втихомолку обзывал его «ослом» (но доктор, возможно, мог это слышать) и не выполнял его рекомендаций. Между тем диагноз, который поначалу звучал серьёзно, но не безнадёжно – воспаление лёгких, – вскоре пришлось изменить на куда более страшный: цирроз печени. В письмах и разговорных тетрадях Бетховена болезнь называется водянкой, однако водянка была лишь следствием цирроза, практически неизлечимого даже в наше время.
Ваврух полагал, что к циррозу привела самая банальная в подобных случаях причина: злоупотребление алкоголем. Узнав об этом вердикте, Бетховен едва ли не слёзно умолял Шиндлера и Вегелера опровергнуть наветы и защитить его доброе имя. Тем не менее Ваврух после смерти композитора опубликовал своё медицинское заключение, и оно с тех пор цитировалось как объективная истина. Однако Ваврух до декабря 1826 года вообще не был знаком с Бетховеном и не мог ни судить о его образе жизни, ни знать его полного анамнеза. А ведь сам Бетховен ещё в 1821 году сообщал эрцгерцогу Рудольфу, что страдает «от хронической желтухи – весьма омерзительной болезни» (письмо от 18 июля); весной 1825 года Людвиг Рельштаб также обратил внимание на нездоровую желтизну его лица. Скорее всего, Бетховен оба раза болел гепатитом, следствием которого и мог стать цирроз печени. Такое случается даже с совершенно непьющими людьми.
Более того, в мемуарах современников имеется множество нелестных рассказов и анекдотов о взрывчатом характере Бетховена, о его взбалмошных поступках, о ссорах с окружающими – но про хроническое пьянство нет ровно ничего. Никто не откровенничает про то, что якобы видел великого композитора в непотребном состоянии где бы то ни было – в светском обществе, на улице, даже в ресторане. В годы судебных тяжб по поводу опеки над Карлом, 1816–1820-й, Бетховен неоднократно упоминал о своей высокой моральной репутации, противопоставляя её сомнительной нравственности невестки, и адвокатам Иоганны возразить было нечего. Будь он склонен к пьянству, его враги не преминули бы это упомянуть в своих исках. Но его винили всего лишь в «эксцентричности».
Разумеется, трезвенником Бетховен не был; за обедом он, как все, пил вино, а порой участвовал в дружеских пирушках. Последнее случалось лишь эпизодически и обычно в сугубо закрытом кругу. Об одном таком случае он сам поведал в письме Фридриху Кулау от 3 сентября 1825 года: «Должен признаться, что шампанское и мне вчера сильно ударило в голову, и я опять вынужден был убедиться, что хмельное во мне вызывает скорее упадок, чем прибавление сил; ибо как ни легко мне обычно ответить сразу же, так на сей раз я совсем не представляю себе, что я вчера написал». Накануне семеро музыкантов, включая Кулау, навестили Бетховена в Бадене и весело отметили встречу. Кулау записал в разговорной тетради свой канон на тему BACH. Бетховен экспромтом сочинил канон на ту же тему, причём тема BACH была подтекстована шутливым каламбуром, намекавшим на опьянение Кулау: «Kühl, nicht lau» – «Прохладный, не тёпленький». На следующий день Бетховен забеспокоился, не допустил ли чрезмерную бестактность, и извинился. Когда Карл Хольц увёз в Вену для копирования партии Квартета ор. 130 и долго не появлялся у Бетховена в Бадене, страшно обеспокоенный композитор писал племяннику, прося его узнать, не потерял ли Хольц ноты – «ибо он, между нами, сильно пьёт». Видимо, во время приездов Хольца они иногда выпивали вместе, но Бетховен пил заметно меньше, чем его молодой друг. В другой раз Карл просил прощения у дяди за то, что накануне перебрал с выпивкой и ручался, что такого больше не повторится. Это значило, что в доме Бетховена пьянствовать было не принято. Кстати, и слуга из Гнейксендорфа, Михаэль Крен, упоминал о том, что Бетховен много работал, вставая в половине шестого утра и сразу после лёгкого завтрака садясь за письменный стол. Работал он и после обеда, и после ужина, примерно до десяти вечера. О пьянстве – ни единого слова. Отец Крена был владельцем винного погребка в Гнейксендорфе, однако Бетховен, по словам Михаэля, ни разу туда не заходил. Поскольку мы довольно хорошо себе представляем жизнь Бетховена в 1823–1826 годах, иногда буквально день за днём, то можно с достаточной степенью уверенности сказать, что для обвинений композитора в алкоголизме нет никаких причин.