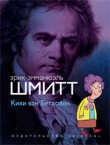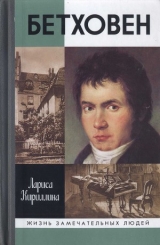
Текст книги "Бетховен"
Автор книги: Лариса Кириллина
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)
Новой эпохе, провозгласившей своим принципом нерушимость власти монарха и строгий порядок в государстве, герои были не нужны. Поэтому преследовалось всё, что могло вызвать напоминание либо о тайных обществах XVIII века, либо о массовом патриотическом подъёме во время Наполеоновских войн. В Вене полиция запретила ставить зингшпиль Шуберта под названием «Заговорщики» (оно было заменено на другое, «Домашняя война»), а потом разогнала совершенно безобидное артистическое сообщество «Пещера людламитов» (забавное наименование было взято из комедии Адама Ойленшлегера, одного из основателей кружка). Подозрение вызвало то, что собрания «людламитов» происходили поздно вечером и затягивались за полночь. В 1826 году полиция устроила внезапный налёт на «людламитов» и общество запретили, хотя никакой крамолы в его бумагах обнаружено не было.
Заметное ужесточение полицейского режима и цензуры всех видов произошло уже в 1817 году. В письме Бетховена его пражскому адвокату Иоганну Непомуку Канке содержится расплывчатая фраза о том, что происходящее вокруг «заставляет каждого почти совсем онеметь». Выразиться определённее было нельзя, ибо письма нередко перлюстрировались, но Канка, видимо, хорошо понимал, о чём идёт речь. 12 мая 1817 года одиозный граф Йозеф Зедльницкий, занимавший с 1815 года пост главы венской полиции, объединил в своём лице должности как главы полиции всей Австрии, так и главы всеимперского цензурного ведомства. Хотя письмо Бетховена было написано более чем за месяц до официального назначения, о грядущих переменах в Вене знали загодя. Зедльницкого прозвали «граф Вычёркиватель»: настолько суровыми (и подчас нелепыми) сделались при нём цензурные запреты.
В мемуарах Игнаца фон Кастелли целая глава посвящена злобным чудачествам венской цензуры, особенно после назначения графа Зедльницкого (кстати, остроумец Кастелли тотчас дал соответствующие клички двум своим собакам – Зедль и Ницки). Цензура распространялась даже на давно опубликованные тексты писателей-классиков, в том числе античных авторов и Шекспира, не говоря уже о Гёте и Шиллере. Кастелли вспоминал: «В „Разбойниках“ Шиллера Моор-отец превратился в дядю. Можно вообразить себе, какой получался эффект, когда Карл Моор издавал устрашающий вопль: „Дядеубийство!“»[39]. Печатные ноты также подлежали цензуре, в том числе инструментальные произведения – цензурировались тексты титульных листов и названия. Посвящать кому-либо произведение без согласия чествуемого лица было запрещено не только в отношении правящих особ, но и обычных лиц, не носивших громких титулов. Кастелли сообщал, что все рукописи надлежало представлять в цензуру в двух экземплярах. И если произведение было крупным, это влекло для авторов дополнительные расходы на переписку. А возвращались рукописи нередко сплошь исчёрканные красным карандашом…
Жалобы на произвол цензоров – один из лейтмотивов бесед в разговорных тетрадях Бетховена. В 12-й тетради (апрель 1820 года) Бернард писал: «Здешние цензоры не подчиняются законам, они вычёркивают наобум, лишь бы ни за что не отвечать. <…> У нас нет никакого закона о цензуре». Издатель Мориц Шлезингер, приехавший в сентябре 1825 года в Вену из-за границы, удивлялся в 94-й разговорной тетради тому, насколько в Австрии цензурные ограничения строже, чем в Пруссии: «Вдохновенные „Фантастические новеллы“ Гофмана здесь нельзя даже читать, не то что печатать. – Фантазия в Австрии – запрещённая и опасная вещь». Особенно сокрушались драматурги и поэты. Грильпарцер завидовал Бетховену: «У музыкантов нет цензуры!» (что было не совсем верно), а Куффнер утверждал: «Слова скованы, но звуки, могущественные выразители смысла слов, ещё свободны!»
Очевидным поводом для ужесточения полицейского режима стало убийство в Мангейме 23 марта 1819 года известного драматурга Августа фон Коцебу радикально настроенным студентом Карлом Людвигом Зандом, членом Всеобщего немецкого студенческого братства. По сути, это был настоящий теракт, жестокости которого ужаснулись многие, поскольку Коцебу был знаменитым и уважаемым человеком. Он отличался фантастической литературной плодовитостью, и хотя подавляющее большинство его пьес сейчас выглядят безвкусными и нелепыми, в своё время они успешно шли на всех европейских сценах. Бетховен написал в 1811 году музыку к двум аллегорическим пьесам Коцебу, поставленным в Будапеште в честь открытия там нового театра: «Афинские развалины» и «Король Стефан, первый благодетель Венгрии».
Занд проник в квартиру писателя под вымышленным именем и, воскликнув: «Вот он, предатель отечества!» – заколол его на глазах у его четырёхлетнего сынишки. За что же Коцебу постигла такая страшная участь? В 1817 году он опубликовал «Историю немецкого государства» («Geschichte des deutschen Reichs»), которую патриотически настроенная молодёжь сочла оскорбительной для немцев и публично сожгла на площади в Вартбурге. Вдобавок Коцебу, имевший давние связи с Россией, в том же 1817 году был назначен русским генеральным консулом в германских государствах, с окладом 15 тысяч рублей в год. Поэтому Занд и его единомышленники сочли Коцебу не только предателем родины, но и русским шпионом, и вскоре вынесли ему смертный приговор. Занд был арестован, осуждён и публично обезглавлен 20 мая 1820 года. Однако ещё до его казни в разных германских городах были созданы «Комиссии по расследованию революционных беспорядков», в которые тотчас начали поступать доклады от полицейских осведомителей и доносы от благонамеренных граждан.
Важно понимать этот контекст, чтобы оценить всю степень риска, которой подвергал себя Бетховен, который в 1816 году произнёс в беседе с Петером Зимроком, приехавшим в Вену из Бонна, фразу, которую в Германии вплоть до XX века опускали при публикации воспоминаний Зимрока: «Император Франц – негодяй, которого надо бы повесить на первом хорошем дереве». Однако нечто сходное записал в 94-й разговорной тетради в 1825 году Мориц Шлезингер: «Император – тупая скотина, он говорит, что ему не нужны учёные, а нужны хорошие подданные [Bürger]. К несчастью, попы получили слишком большое влияние, во всех странах глупость возымела перевес». Петеру Зимроку в момент личного знакомства с Бетховеном было 24 года, Морицу Шлезингеру – 27, оба были сыновьями и компаньонами преуспевавших издателей, и оба не являлись австрийскими гражданами. Тем не менее этим вполне благополучным молодым людям было явно не по себе от царивших в меттерниховской Австрии порядков, а Бетховен не только не пресекал разговоров на острые темы, но и сам их активно поддерживал. Вряд ли его умонастроения были секретом для властей, поскольку слухи по Вене распространялись быстро. Бернард в 9-й разговорной тетради от марта 1820 года предупреждал Бетховена: «Черни рассказывал мне, что аббат Гелинек очень ругал вас в „Верблюде“[40]; он говорил, что вы – второй Занд; вы браните императора, эрцгерцога, министров и вы кончите на виселице».
Разумеется, никаким революционером Бетховен не был, и у полиции доставало ума не преследовать его за «оскорбление величества». В результате вокруг Бетховена сложилось неформальное сообщество оппозиционно настроенных друзей. По разговорным тетрадям периода создания Торжественной мессы и Девятой симфонии видно, как собеседники тянулись к Бетховену, видя в нём не только великого композитора, но и человека, имеющего огромный жизненный опыт, оригинальный ум и способность судить о событиях, вещах и людях с бесстрашной честностью. В тогдашней Вене это было привилегией не многих.
Некоторые из приятелей композитора откровенно сожалели о низвержении Наполеона, который, по их мнению, был врагом феодализма и сторонником прогресса. В этом контексте понятно высказывание Бетховена, приведённое в воспоминаниях Карла Черни и относящееся к 1824 году: «Наполеон! Раньше я его терпеть не мог. Теперь я думаю совсем иначе». О победителях Наполеона, которых он сам во время Венского конгресса воспел в кантате «Славное мгновение», композитор отныне отзывался гневно или презрительно. Например, посылая 18 марта 1820 года две лёгкие обработки австрийских народных песен Николаусу Зимроку в Бонн, Бетховен обронил фразу, вполне понятную обоим старым друзьям: «Думаю, что охота на народные песни – более полезный промысел, нежели охота столь хвалёных героев на людей». В письме, отправляемом по почте, конкретнее высказаться было нельзя. Но речь, несомненно, шла о репрессиях против любого, даже мнимого инакомыслия, развернувшихся в Пруссии и Австрии после убийства Зандом несчастного Коцебу.
Казалось бы, мы весьма далеко уклонились от истории создания и исполнения Девятой симфонии, однако весь описанный выше фон, и политический, и бытовой, красноречиво говорит о том, насколько несвоевременным – или вневременным – было это великое произведение. Весь пафос Девятой симфонии, весь её эстетический и этический посыл шли совершенно вразрез с «духом эпохи». Весёлая, нарядная, постоянно танцующая, гурманствующая и беспечно фланирующая Вена, очаровательный бидермайер – стиль «затейливой уютности», ставший модным после 1815 года, размеренная жизнь курортных городков вроде Бадена, окружённых прекрасной романтической природой, увлечение венцев операми Россини и танцами примы-балерины Фанни Эльслер – и тут же, одновременно, гнёт цензуры, запреты на театральные постановки как старых, так и новых пьес, ощущение постоянного присутствия полиции в обыденной жизни, запрет на публичное произнесение таких слов, как «свобода», «республика», «демократия»…
Девятая симфония сочинялась наперекор всему. В этом её существенное отличие от «Героической симфонии», возникшей на гребне восходящей исторической эпохи, и от Пятой симфонии, вобравшей в себя суровый и яростный дух времён войн и побед. В 1820-е годы всё это воспринималось как славное, но уже невозвратно далёкое прошлое. Мыслящим современникам было ясно, что наступившая политическая реакция – это надолго. «Прорвало» шлюзы лишь в марте 1848 года, когда в Австрии началась революция, которая, впрочем, была жестоко подавлена, однако одиозный 74-летний канцлер Меттерних был отправлен в отставку, а на трон взошёл восемнадцатилетний император Франц Иосиф, заявивший о намерении провести реформы. Венцы 1820-х годов на восстание были явно неспособны; они лишь недавно вернулись к мирной жизни после военных потрясений, а слово «революция» внушало им инстинктивный страх или осознанное отвращение. Однако, как явствует из исторических документов и литературных произведений того времени, недовольство крайне консервативной политикой императора, жёсткостью полицейского режима, насаждением официозного клерикализма и произволом цензуры было весьма широким и охватывало все сословия, от просвещённых дворян до мелких служащих, студентов и представителей артистического мира.
Написать в этих условиях симфонию, финал которой представлял собой кантату на текст стихотворения Шиллера «Ода к радости», было со стороны Бетховена актом не только отчаянной художественной смелости, но и политическим жестом, заявлявшим о его гражданской позиции. Вероятно, он понимал, что люди, видевшие в нём человека несгибаемой воли и высокого морального авторитета, ждали от него не только хлёстких высказываний в узком кругу, но и чего-то общезначимого, что могло бы служить светочем в сумерках наступившей реакции. Подтверждением существования такого запроса стал огромный успех возобновления «Фиделио» на сцене Кернтнертортеатра в 1822 году. Разумеется, интерес публики был усилен выступлением в роли Леоноры новой, талантливой и красивой примадонны – восемнадцатилетней Вильгельмины Шрёдер-Девриент, которая пела не хуже Анны Мильдер, а играла, судя по всему, гораздо лучше. Но, вероятно, опера о спасении политического узника и о крушении тирании была воспринята на «ура» ещё и по другим причинам. Часть публики приветствовала «Фиделио» как подлинно немецкую оперу, противопоставляя её «легковесным» произведениям вошедшего тогда в моду Россини. Другая часть, нетрудно предположить, радостно откликалась на тираноборческий пафос произведения, уничтожить который было не под силу никакой цензуре.
Бетховен ни в коей мере не являлся политическим деятелем, но общественно значимой фигурой он, безусловно, в 1820-е годы стал. Одно из подтверждений его нового статуса – опубликованное в феврале 1824 года торжественное воззвание к Бетховену, или, как говорили в старину, «адрес». Текст адреса был подписан тридцатью меценатами, музыкантами и издателями. Среди них были, в частности, сын покойного князя Карла Лихновского – историк и драматург князь Эдуард Мария Лихновский (1789–1845); граф Мориц Лихновский, граф Мориц фон Фрис, «музыкальный граф» императорского двора Мориц Дитрихштейн; барон Цмескаль; президент Академии изобразительных искусств граф Иоганн Рудольф фон Чернин; владелец Театра Ан дер Вин граф Фердинанд фон Пальфи-Эрдёд. Из видных музыкантов свои подписи поставили Карл Черни, аббат Максимилиан Штадлер, главы издательств «Артариа» и «Штейнер»; видные деятели Венского общества любителей музыки; поэты, писатели и журналисты – Игнац фон Кастелли, Кристоф Куффнер, а также дирижёр и музыкальный критик Игнац Франц фон Мозель. Приведём лишь некоторые особенно важные фрагменты этого пространного и несколько велеречивого текста.
«Мы желали бы высказать общее желание всех наших соотечественников, почитающих искусство. Ибо, хотя имя и творения Бетховена принадлежат всему современному человечеству и всем странам, духовно открытым для искусства, именно Австрия обладает правом считать его своим достоянием. В населяющем её народе ещё живо восхищение великими и бессмертными произведениями Моцарта и Гайдна, созданными на этой земле на все времена, и люди испытывают счастливую гордость за то, что Священная триада [die heilige Trias], в которой их имена купно с Вашим соединились в сияющий символ всего самого высокого, что есть в духовном мире звучаний, возникла в самом средоточии нашего отечества.
Тем более болезненным является для нас ощущение того, что чужеродная сила вторглась в царственную цитадель благороднейших помыслов и что поверх останков усопших и над обиталищем единственного живущего из этого союза правят свой бал фантомы, не могущие похвалиться родственной связью с духами прежних властителей этого дома – и что эта пустота порочит и обесценивает искусство, а недостойная игра со святынями замутняет и портит вкус ко всему чистому и вечно прекрасному.
И потому именно сейчас, как никогда ранее, мы чувствуем, что новое мощное мановение сильной десницы, новое пришествие властителя в его земли – это единственное, что нам насущно необходимо. <…>
Не воздерживайтесь же более от того, чтобы доставить обществу наслаждение; не подавляйте более стремления к великому и совершенному, откладывая исполнение Ваших последних шедевров. <…>
Нужно ли говорить Вам о том, какое глубокое сожаление вызывает Ваша давняя отстранённость от всего внешнего? Нужны ли доказательства тому, что все взоры с надеждой устремлены на Вас, и все с печалью видят, что единственный человек, почитаемый ныне самым великим из живущих в своей сфере, молчаливо взирает на то, как чужое искусство пускает корни на германской земле, служившей почётным пьедесталом для германской музы, и как произведения германских авторов имеют успех лишь в качестве перепевов излюбленных иностранных мелодий – а там, где жило и творилось всё лучшее, вслед за золотым веком искусства наступает эпоха вкуса, вторично впавшего в детство?»…
Девятая симфония отвечала на все эти запросы сразу. Она наглядно демонстрировала, кто являлся на тот момент истинным «властителем» в мире музыки. Однако она была обращена не только к соотечественникам, но и ко всему человечеству. И послание Бетховена, выраженное в словах и звуках, заключало в себе как философский, так и политический подтекст.
«Ода к радости» Шиллера была в то время известна любому образованному человеку, читавшему по-немецки. Это стихотворение, впервые опубликованное в 1786 году, очень быстро сделалось популярным. Его перепечатывали, переписывали от руки, много раз клали на музыку, распевали в дружеских компаниях… Поэт был не очень этому рад, ибо столь массовый успех обычно сопутствовал произведениям не самого высокого вкуса. Тем не менее отречься от своего детища он уже не мог. При издании собрания своих стихов в 1803 году Шиллер сделал вторую редакцию «Оды к радости», немного сократив стихотворение (из девяти строф он оставил восемь) и изменив некоторые выражения. Хотя Бетховен познакомился с первоначальной версией «Оды к радости» ещё в Бонне, при сочинении Девятой симфонии он использовал вариант 1803 года, причём далеко не полностью. Между «Одой к радости» Шиллера и текстом, который поётся в финале симфонии, различия очень велики.
Бетховен опустил те строфы и строки, которые австрийская цензура заведомо не позволила бы ни напечатать в нотах, ни публично исполнить. Так, в шестой строфе у Шиллера говорилось о том, что радость равняет человека с богами; в седьмой – о том, что она способна усмирить даже каннибалов, в восьмой – о мужественной гордости перед царскими тронами («Männerstolz vor Königsthronen»)… Однако Бетховен не только сильно сократил стихотворение, но и властно изменил его структуру. Его волновали не столько неизбежные придирки цензуры, сколько проблемы архитектоники крупного плана. Он взял из текста Шиллера то, что показалось ему главным, и расположил фрагменты стихов в такой последовательности, которая позволила ему выстроить монументальную музыкальную форму. Ни одна из классических симфоний до этого времени не имела хорового финала. И, раз уж Бетховен решился «взорвать» сложившуюся традицию, введя в симфонию певческие голоса, финал должен был прозвучать как кульминация всего произведения, победный итог длительного и сложного развития.
Начало Девятой симфонии сулит слушателям отнюдь не радость, а трагедию вселенского масштаба. Над сумрачной мглой тремоло низких струнных инструментов высвечиваются, словно грозные зарницы, зигзаги главной темы, которая вскоре предстаёт во всём своём страшном величии. Прочие темы на её фоне кажутся клочковатыми, размытыми, несущимися то в быстром, то в замедляющемся потоке. Вся первая часть проникнута ощущением непоправимой катастрофы, и, чтобы в этом не оставалось никаких сомнений, Бетховен пишет в заключительном разделе траурный марш: здесь это не торжественный ритуал погребения героя, а символ гибели целого мира.
Но вслед за смертью вступает в права жизнь, которая способна существовать и за пределами всего земного. Вторая часть симфонии, ре-минорное Скерцо, полна активного движения, однако эта энергия сродни игре стихийных сил, время от времени прерываемой гомерическим хохотом литавр. Лишь в среднем разделе, трио, появляется тема в народном духе. Однако вопреки своему плясовому характеру тема оркестрована довольно массивно и даже торжественно, с тромбонами, что придаёт ей гимнический оттенок. «Космос – природа – народ» – эти сущности мыслятся вечными и не зависящими от исторических катаклизмов.
Просветление колорита продолжается в третьей части, Adagio cantabile. Суровый ре минор сменяется излучающим холодноватое сияние си-бемоль мажором. Первая тема напоминает церковный хорал, в котором благоговейному пению хора струнных отвечают, словно эхо, фразы духовых. По мере варьирования тема становится всё более человечной, а на смену ей дважды приходит мелодия в жанре медленного, почти призрачного менуэта – танца, который в 1820-е годы был уже практически забыт. Adagio воспринимается как мечта о тихом счастье, которое возможно лишь в христианском раю или в античном Элизиуме, где обретаются блаженные души.
Скрежещущая диссонансами «фанфара ужаса» (так её назвал Рихард Вагнер) разрушает иллюзорную утопию и открывает последний акт этой симфонической драмы. Оркестр начинает вспоминать все звучавшие до этого темы и обрывает их после первых же тактов одну за другой. Патетические речитативы низких струнных понятны без слов: нужна другая, новая музыка, способная объединить всех и повести за собой в будущее. Виолончели и контрабасы тихо запевают «тему радости». К ней робко присоединяются альты и словно бы чуть невпопад играющий фагот, затем скрипки, затем все духовые… Радость уже пришла, но у неё пока нет словесного выражения, и она, невзирая на мощь оркестра, непрочна и уязвима: вновь звучит устрашающая диссонантная фанфара – и тут, наконец, раздаётся человеческий голос. Солирующий баритон произносит слова, которых нет у Шиллера и которые, как умел, сочинил сам Бетховен: «О друзья! Не эти звуки! Давайте споём что-то более приятное и радостное!»
Антон Григорьевич Рубинштейн однажды предположил, что «Оду к радости» следовало бы трактовать как «Оду к свободе», ибо Шиллер якобы вынужден был заменить слово «свобода» (Freiheit) словом «радость» (Freude), чтобы стихотворение прошло цензуру. Эта гипотеза интересна, но ошибочна. В шиллеровской оде речь идёт именно о радости, «дочери Элизиума», распространяющейся на все миры и все творения, так что гипотетическая обратная замена «радости» на «свободу» совершенно невозможна. «Ода к радости» выражала дух эпохи Просвещения, для которого оптимистическое мировосприятие было одной из главных духовных констант. В годы, когда сочинялась Девятая симфония Бетховена, идеалы Просвещения оказались или поруганными, или подвергнутыми скептическому отрицанию, или просто забытыми как нечто старомодное. Но сам Бетховен остался верен этим идеалам. И в финале своей последней симфонии попытался нарисовать картину утопического единения человечества – свободного и просвещённого.
Форму финала Девятой симфонии можно понимать как последовательность эпизодов огромного всенародного празднества: выдающиеся люди произносят краткие речи, поддержанные хором; затем следуют военный парад (соло тенора) и воспоминание о битве; под открытым небом происходит торжественная литургия (именно здесь звучат часто цитируемые слова – «Обнимитесь, миллионы!») – и напоследок начинаются буйные народные гулянья под оглушительно шумную и грубую музыку, способную шокировать некоторых эстетов. Но в этой же музыкальной драматургии можно усмотреть и другую, более глубокую идею. В «Оде к радости» Шиллера с её строфической композицией была заключена идея братского пирования за «круглым столом»; никакой иерархии эта общность не предполагала. В тексте, положенном на музыку Бетховеном, возникли очертания гармоничного социума или даже некоего утопического государства. В таком государстве явно нет монарха (солист-баритон – корифей, начинающий празднество, но не властитель над всеми прочими). Четыре солиста, приподнятые над толпой, воплощают лучших людей этой воображаемой республики. Государство, пусть даже утопическое, должно иметь армию – отсюда маршевая вариация «темы радости» и последующий оркестровый батальный эпизод, напоминающий об аналогичном воинственном фрагменте в Dona nobis расет из Торжественной мессы. Мессу и симфонию роднит также стилистика молитвенного раздела «Оды к радости». Но стоит обратить внимание на то, что в финале симфонии литургия совершается под открытым небом, и это – общенародная литургия, без деления на священника и паству (всё время поёт хор). У Шиллера строки, в которых упоминался Творец, обитающий «выше звёздного венца» (überm Sternenzelt), появлялись в припеве каждой строфы. Бетховен скомпилировал эти строки так, чтобы они составили отдельный эпизод, основанный на новой, медленной и архаично-торжественной теме:
Миллионы, к нам в объятья!
Люди, поцелуй сей вам!
Над небесным сводом, там,
должен жить Отец ваш, братья.
Миллионы, в прах падите!
Мир, ты чувствуешь Творца?
Выше звёздного венца
в небесах Его ищите
[41]
.
Эти выражения созвучны некоторым этическим идеям Канта, с которыми были хорошо знакомы и Шиллер, и Бетховен. В 7-й разговорной тетради имеется сделанная рукой Бетховена запись: «Моральный закон в нас, звёздное небо над нами. Кант!!!» Давно известно, что эти слова Бетховен почерпнул не из первоисточника (заключения к кантовской «Критике практического разума»), а из статьи астронома Йозефа Литрова «Космологические наблюдения», напечатанной в «Венской газете» от 29 января и 1 февраля 1820 года. Но это вовсе не значит, что Бетховен не мог быть знаком с трактатом Канта, где та же мысль выражена несколько иначе и более пространно: «Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звёздное небо надо мной и моральный закон во мне»[42].
Радость, воспеваемая в финале Девятой симфонии, оказывается не только итогом борьбы света и гармонии с мраком и хаосом, но и венцом человечности. И недаром Бетховен после молитвенного эпизода соединяет в торжествующем контрапункте обе темы финала – песенную тему радости и хоральную тему «Обнимитесь, миллионы!». Таким было его личное Credo.
Девятая симфония, Увертюра «Освящение дома» ор. 124 и три части из Торжественной мессы (Kyrie, Gloria и Agnus Dei) были исполнены в Кернтнертортеатре 7 мая 1824 года. Поскольку в Вене с 1814 года не состоялось ни одной авторской академии Бетховена, это событие имело историческое значение. Однако устройство концерта сопровождалось огромным количеством скандалов и неприятностей, в которых отнюдь не всегда был повинен трудный характер композитора. По разговорным тетрадям можно проследить, какие интриги складывались вокруг этой академии. Первоначально предполагалось, что концерт состоится 22 апреля. Но Игнац Шуппанциг предупредил Бетховена: «Кто-то вчера обратил моё внимание, что цензура не позволит, чтобы Credo, Agnus значились на театральной афише». Значит, требовалось обращение Бетховена к цензурным властям, чтобы они позволили исполнить части Мессы как «гимны в церковном стиле». Помимо этого, с марта велись трудные переговоры о зале с администратором придворных сцен, бывшим танцовщиком Луи Антуаном Дюпором – тот, по мнению Шуппанцига, был способен «на адские козни». Дюпор действительно предложил Бетховену устроить концерт в Малом редутном зале, на что композитор ответил ему горько-откровенным письмом (сохранился лишь черновик, записанный в разговорной тетради): «Мои произведения требуют большого помещения, и ведь существует зал, где можно исполнять то, что называется крупными музыкальными произведениями. <…> Понятно, что большой хор и большой оркестр привлекли бы большую аудиторию, что невозможно в малом зале. Но если я и не дам академию, Провидение не покинет меня. Неужели не стыдно предлагать мне такой зал, когда я нуждаюсь»…
Параллельно Шиндлер вёл переговоры с графом Пальфи, тогдашним владельцем Театра Ан дер Вин, и Бетховен решил перенести концерт туда, пригласив к участию также членов Венского общества любителей музыки, чтобы усилить театральный оркестр. Под приглашением Бетховена подписались 16 музыкантов, в том числе выдающийся скрипач Йозеф Михаэль Бём. Над перепиской огромного количества партий, требовавшихся для такого концерта, спешно работали несколько копиистов. Но в середине апреля все переговоры зашли в тупик. Дюпор, узнавший о переговорах в театре Ан дер Вин, пытался сорвать концерт, не давая разрешения на участие в нём певцам своей труппы. Формальной причиной было то, что, согласно контракту, члены труппы имели право лишь на сценические выступления; полиция имела право запретить им петь в концерте. Измученный всеми этими неурядицами, Бетховен начал срывать свой гнев на окружающих. В какой-то момент он решил вообще отменить концерт, написав Морицу Лихновскому, Шуппанцигу и Шиндлеру по короткой и резкой записке, гласившей: «Не приходите ко мне больше. Академии не будет». И даже когда к концу апреля удалось достичь договорённости с Дюпором на концерт в Кернтнертортеатре 7 мая, Бетховен был настроен нервно и желчно: «После шести недель пересудов я себя чувствую так, будто меня выварили, выпарили и изжарили. Получится ли, в конце концов, толк от этого концерта, столь многократно обговорённого, если цены не будут повышены? Что останется мне – за вычетом столь крупных издержек – если принять в рассуждение, во сколько обошлась одна лишь переписка нот?»
Дурные предчувствия не обманули Бетховена. Цены на билеты повышены не были (на это тоже требовалось разрешение полиции). Лейпцигская «Всеобщая музыкальная газета», поместив в номере 27 за 1824 год восторженную рецензию на концерт, сообщила также о том, что композитор получил крайне скромный гонорар: общий сбор составил 2200 флоринов, из них администрации театра причиталась тысяча, переписка нот – 700 флоринов, побочные расходы – ещё 200, так что автору досталось всего 300 флоринов. Эти сведения, несомненно, стали известны редакции от людей, близких Бетховену, поскольку в разговорной тетради композитор зафиксировал остаток 310 флоринов (позже исправлено на 336). Как подсчитал Карл Хайнц Кёлер, «в летний сезон в Бадене Бетховену хватило бы этой суммы лишь на полтора месяца – при условии, что он снял бы всего одну комнату. За эти деньги можно было купить пять пар брюк, сто бутылок дешёвого вина, центнер сахара и десять фунтов кофе»[43]. По словам Шиндлера, когда Бетховен узнал о столь плачевном финансовом результате, у него подкосились ноги и он впал в шоковое состояние. Несколько лет работы над Мессой и симфонией, несколько месяцев изнурительной работы по подготовке концерта – а в итоге сумма, выглядевшая попросту унизительной.
Друзья и родные уговорили Бетховена дать ещё один концерт, несколько изменив программу. На сей раз время и место были выбраны предельно неудачно: в половине первого дня в воскресенье 23 мая 1824 года, в Большом редутном зале. В Вене стояла прекрасная, почти летняя погода, и венцы, изголодавшиеся по солнечному теплу, отправились за город. Слушатели, присутствовавшие на концерте 7 мая, могли счесть, что повторение рассчитано на тех, кто не смог попасть в Кернтнертортеатр. Ради привлечения публики Бетховен дал себя уговорить на изъятие из программы двух частей Мессы и, наоборот, на включение в неё своего старого Терцета op. 116 («Трепещи, нечестивость») и виртуозной арии Россини из оперы «Танкред», сделав великодушный жест в сторону любителей итальянской музыки. Но италоманов этот лакомый кусок не соблазнил, зато преданные поклонники Бетховена и приверженцы национального немецкого и австрийского искусства пришли в негодование от подобной «профанации» (племянник Карл писал об этом Бетховену в разговорной тетради). Второй концерт принёс Бетховену 500 флоринов, и то лишь потому, что эту сумму гарантировал ему Дюпор.