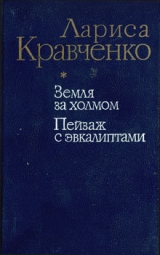
Текст книги "Земля за холмом"
Автор книги: Лариса Кравченко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Единственное, что он умел делать, это держать в руках оружие, и, оказывается, это совсем другое чувство, когда берешь его в руки ради охраны своего города, а не против таких же русских парией, как ты!
Вечером восемнадцатого на мост прибыл советский десант. Сергей скомандовал:
– Смирно!
Ребята вскочили. Сергей доложил состояние дел на мосту, как полонено.
– Порядок! – сказал совсем молодой парень, видимо, командир группы – в маскировочном комбинезоне, в пилотке с красной звездочкой. И представился: «Лейтенант Романов!»
Вместе с десантниками приехал какой-то харбинский деятель из Штаба охраны, тоже с красной повязкой на рукаве. Он все суетился, словно извинялся перед лейтенантом, что вот, мол, наши ребята заняли мост без спросу и как теперь посмотрит на это товарищ лейтенант – комендант моста.
– А что, правильно сделали, – сказал новый комендант, – нужно содействовать частям Советской Армии!
Ребята стояли и смотрели на него настороженно: что теперь будет с ними дальше? Прикажут уходить, наверное? Все-таки это был их мост, и они брали его почти с бою, и какой-то кусочек души их вложен в него, как в живое существо! А тот тоже смотрел на них, словно прикидывал: как поступить правильно?
– Ну, как – будем охранять совместно?
– Будем! – гаркнули ребята и заулыбались.
Вопрос был решен оперативно, представитель штаба уехал на грузовике один, лейтенант с Гордиенко пошел осматривать хозяйским глазом блокгауз: где разместить людей и как с питанием, а ребята потащили десантников к столу – ну, как же, с дороги, и у них еще оставался от обеда рис с баклажанами (из стряпни женотдела охраны – раз в сутки привозит в ведрах еду отрядный грузовик).
Все просто получилось и буднично, словно так и должно быть: заступают на посты одновременно советский солдат – на вышку блокгауза и бывший асановец – на первый пролет моста! Словно так и должно быть – спят они на одних нарах и в «дурака» режутся в свободное от караула время! Удивительно все-таки! Что это – доверие, или проверка доверием, пли ни то и ни другое – применение к обстоятельствам: сто двадцать человек десанта на чужой, враждебный город, и если мальчики эти с красными повязками готовы помогать им – ну, что же… А что там на совести у них – дело уже не десанта, на то придут другие воинские части и разберутся. И мало ли видели они на своем пути через Польшу и Германию таких мостов и таких юношей с винтовками – встречающих или стреляющих в спину! Человек познается в действии!
А Гордиенко? Странно, но никакой неприязни нет у него к ним, только уважение, как к солдатам, – он-то представляет, что это значит, – десанты в тыл! Люди с простыми, как говорит отец, «мужицкими» лицами и занятые войной этой, как работой, порученной им, без сабельного звона. Один совсем пожилой солдат, Степан Иваныч. Он сиял свой десантный комбинезон и оказался в гимнастерке, новенькой, ордена с красной эмалью. В свободное время он сидит на солнышке на откосе насыпи, смотрит на чужую желтую реку и отвечает ребятам на разные наивные вопросы:
– Две полоски на погоне – это что значит? А если полоска и звездочки? А вы были в Берлине?
Степан Иваныч разъясняет обстоятельно. Он вынимает из кармана фотографию – женщина, немолодая, в платье, каких не носят в Харбине.
– Заждались пас дома, – говорит Степан Иваныч.
Из жизни окружающей его больше всего интересуют дела хозяйственные: а коров у вас здесь держат? Внизу лежат затопленные крыши Затона – Степан Иваныч поражен: хорошие дома, только почему они в воде понастроены? Наводнение? А людей-то вывезли?
Ребята пожимают плечами. Они даже не задумывались – до затонцев ли в эту потрясающую осень!
Есть еще сержант Пашка с левобережного поста. Отчаянный такой парень – кудрявый чуб из-под пилотки. Сергей ходил на левый берег к своим ребятам, и, пока они шли но мосту километра три через Сунгари, Пашка совсем заговорил его:
– А город у вас как – культурный? А девушки у вас как – красивые? А вот нас в Праге встречали! Тоже – ничего город!
Пашке не сидится в блокгаузе – Харбин вот он, рядом – набережная, и женские платья мелькают у ее перил… Но лейтенант не пускает своих в город. Гордиенко он отпускал домой в первое воскресенье. Потом весь понедельник Сергей ходил хмурый, потому что ничего, кроме боли, не принесло ему это свидание с Зоей. Извечное женское напоминание: зачем это нужно ему – какой-то охранный отряд, когда в городе уже армия, и какое ему дело до моста, и прочее. Сергей пошел к ребятам на левый берег, и Пашка дорогой все донимал его расспросами.
– Ты женат? – спросил тогда Пашка. – И давно?
– Три недели…
Пашка даже присвистнул от сочувствия: что поделаешь – служба!
Странные у них все-таки в армии взаимоотношения – у этих советских: ничего похожего на японскую муштру! Даже обращение это – товарищ лейтенант! Интересно – товарищ! Непривычно называть так старшего по чипу. И вообще невероятно это, и никогда бы он не поверил, если бы сказали ему три недели назад, что будет он подчиняться по должности советскому офицеру, а не стрелять в него, как учили, – но врагу! Отношения у него с Романовым сдержанные, и говорят они только о деле (так получилось – Гордиенко оказался кем-то вроде заместителя, ну, и переводчиком по связям с местным населением, разумеется). И Романов не спрашивает никакой такой чепухи, как Пашка: а где это вы научились говорить по-русски? Он, видимо, грамотный парень – Романов – и знает, откуда они здесь – эмигранты, и ничего не спрашивает, или для него это несущественно? А главное – дело, на котором они поставлены сейчас оба: мост, который нужно держать, пока не сменят их вступающие воинские части. И Сергей тоже не лезет к нему зря с разговорами, потому что так воспитали его – иметь чувство такта, а со старшими по должности – тем более. И нет у него морального права на дружбу с этим советским лейтенантом, ровесником, в общем-то…
И все же привлекает его в Романове какая-то внутренняя собранность, что ли, или еще что-то, чему он не может пока найти определения. Просто он не встречал прежде таких парней! Дл и разве пытался прежде он разобраться в людях: «Слушаюсь!» – и под козырек.
И странно, никогда прежде не было ему так тепло по-человечески, как в неприютном этом блокгаузе с ребятами и десантниками, на посту, на продутом ветром береговом пролете – тридцать метров туда и обратно.
Пружинят под сапогами доски мостового настила, горизонты сунгаринские чисты, небо над разливом – безмятежно. И хорошо пахнет уходящим летом – дождем и полынью. Так хочется думать, что можно начинать жить заново…
Сыростью тянет но ночам с реки, и суконный асановский китель не греет. Город придвигается к воде темной громадой, августовские звезды над ним летят, как салют трассирующими. Только против «Конкотея», там, где стоит на якорях Амурская флотилия, отраженные водой огни, и репродуктор гремит на всю Пристань; «Бескозырка, ты подруга моя боевая…»
Когда флотилия входила, был яркий ветреный день, и Сунгари вся колебалась в рыжих солнечных всплесках. Канонерки шли под правым берегом – легкие, голубовато-стального цвета, на ходу бились флаги – на белом фоне синие полосы и красные звезды. На переднем катере стояло что-то вроде навеса из наклонных стволов. «Катюша»! – сказал Степан Иваныч с уважением. Ребята не поняли, но промолчали, чтобы не показать свою военную неосведомленность. Ребята столпились на насыпи, смотрели и махали фуражками. И Гордиенко стоял тут же и смотрел молча, со сложным чувством гордости и боли одновременно, гордости, потому что это – победа русского оружия, и боли, потому что он сам к ней не причастен! Он тоже мог лететь сейчас с победным флагом по Сунгари, стоило только родиться по ту сторону границы!
Через мост идут эшелоны. Разбитые остатки японских воинских частей. Есть приказ пропускать их, но при этом смотреть в оба – как бы они не натворили чего-нибудь напоследок, на память о Квантунской армии. Японцы ведут себя мрачно, но тихо.
На одном таком эшелоне ехал на задней площадке камбуза русский проводник-железнодорожник – типичный дед из какого-нибудь Ананси, и события, наверное, не слишком дошли до его сознания. От нечего делать дед кидал в рот семечки и вдруг увидел на мосту красных автоматчиков! Дед обалдел от ужаса. Возможно, он вспомнил, как бежал от них через всю Сибирь с остатком армии Колчака, или еще что-нибудь не очень приятное из времен гражданской войны? Ребята хохотали над дедом, хотя не так уж это было смешно, по существу.
Видимо, отец прав, и придется рассчитываться каждому за свое – за Колчака и японцев.
В городе аресты. Толя Иванцов с левобережного поста съездил домой и рассказывал. Иванцов сам служил в Асано, и, понятно, это беспокоит его.
Взяли Андрюшку Горлова, тоже корнета, в первый день, как пришла флотилия. Приехали двое моряков и взяли, хотя это совсем на другом конце города. Значит, им известно было все, заранее – Андрюшка ходил на «ту сторону», а потом внезапно приехал в Харбин, и его сделали дьяконом в Новогородней церкви. Возможно, это тоже нужно было для чего-то японцам?
Берут служащих миссии, и полиции, и Бюро эмигрантов (и может быть, отца уже нот дома?). И асановцев – тоже! Правда, те, что в охране, еще на своих местах, может быть, просто до них не дошла очередь?
Надо уметь отвечать за свои поступки… Но он ничего еще не успел сделать! Он только учил девчонок стрелять и маршировать… Или этого для вины достаточно? Корнетские звездочки его давали японцам право распоряжаться им как оружием. И подающий команду «Огонь!» не может не знать, против кого эта команда. Он виноват в том, что поздно стал думать? Наверное – инертность тоже может быть преступлением! Разве не было у него выбора, когда предложили асановскую военную школу?! У человека всегда есть право выбора. И то, что случается с нами, оказывается только следствием совершенных прежде поступков!
Отец говорил: надо поступать так, чтобы ты был уверен в своей правоте. Где она сейчас – эта единственная правота поступков? Или существует только правота сторон, и одно и то же действие может быть подвигом для одной стороны и преступлением для другой? Но преступление есть преступление и никогда не станет подвигом! Должна же быть на земле какая-то объективная правота?! Всю жизнь отец считал себя правым в своем отрицании революции, а может быть, наоборот, правы были красные в стремлении к человеческому равенству?
7. Будни победы
Первый советский эшелон подошел к погрузочной платформе в начале сентября.
Днем лил дождь, и вся платформа была затянута его серыми косыми полосами. Потом дождь перестал, и на западе, среди густо-свинцовых туч, проглянул кусок красною закатного неба.
На путях загудел паровоз. Гудок был незнакомым и показался Лёльке очень громким над неподвижной станцией.
Лёлька сунула ноги в папины резиновые сапоги и захлюпала по воде, затопившей садовую дорожку.
Паровоз гудел и осторожно осаживал к платформе состав дощатых красно-кирпичных вагонов, не похожих на вагоны маньчжурских дорог.
Лёлька стояла за калиткой, и смотрела, и не замечала, что на лицо ее стряхивают капли мокрые ветки вяза.
Из вагона начали выбегать люди. Они все выбегали и выбегали, и скоро их стало так много, что вся платформа заполнилась сплошной, защитного цвета массой людей, занятых неведомыми Лёльке делами.
В городе, на Большом проспекте, вторую неделю висит советский флаг над зданием японского штаба – теперь там комендатура. Моряки в голубых воротниках ходят но Пристани. А улица Железнодорожная до сего дня отставала от исторических событий: обгоревшие японские грузовики и пролом в станционном заборе в две доски – пустыня!
Через пролом в заборе выбрались двое солдат. Вблизи они не походили на тот, летящий на танке, сияющий образ, с Нинкиным цветком в руке, – лица темные от усталости и гимнастерки – мятые, далеко не свежие и даже расстегнутые у ворота. Они переговаривались на ходу и разглядывали улицу так, словно ожидали увидеть на ней что-нибудь особенное.
В лужах лежали красные облака, и было похоже, что кто-то расстелил по земле кумачовые полотнища.
Лёлька собиралась уже закрыть калитку и уйти, но не успела.
– Сестренка, воды у вас не найдется? – крикнул тот, что пониже.
Он заулыбался и перепрыгнул через последнюю водную преграду на тротуаре, так что брызги взлетели из-под его сапог.
Лёлька страшно застеснялась и не знала, что отвечать, мама внушала: никогда не разговаривай с незнакомыми мужчинами.
На ее счастье, к калитке подошел папа. Он тоже, наверно, чувствовал себя не совсем уверенно, но все-таки очень любезно предложил:
– Пожалуйста, пожалуйста, проходите… – И потом: – Лёля, принеси воды.
– Вам какой, сырой или кипяченой? – продолжал проявлять внимание папа.
– Да какой похолоднее…
Лёлька вынесла воду в голубой эмалированной кружке. Кружка сразу запотела и покрылась мелкими бисерными капельками. Солдат сказал: «Спасибо!» – и медленно пил, в то же время поглядывая кругом весело и с любопытством. Он больше ни о чем не заговорил, и они тоже ни о чем его не спросили. Они стояли рядом и смотрели, как он пьет, – папа (у него было выражение лица, словно он хочет что-то сказать и не решается) и дедушка в своем штопаном кителе – недоверчиво, словно он не знает еще, чего можно ожидать от этих большевиков.
А Лёлька думала: настоящий, живой советский – и у них в доме! Вернее, в саду, но это в принципе одно и то же. Невероятно! Но, самое интересное, это как будто никого не удивляет, даже дедушку!..
Солдат допивает воду и отдает Лёльке кружку. Его крупные зубы влажно блестят, и глаза тоже блестят, словно он знает что-то такое, интересное. На путях гудит паровоз незнакомым голосом.
Таким было начало на улице Железнодорожной. Потом солдаты шли еще и еще, и почти все они начинали с того, что просили воды. И на крыльце теперь всегда стояло дежурное ведро с ковшиком. Оно стояло днем и ночью. Даже ночью оно пригодилось однажды…
Вторым пришел Алеша и попросил маму сварить борщ.
Нет, пожалуй, Алеша был третьим… Вторыми были те двое с автоматами.
Калитка была открыта, и дверь в дедушкину половину дома – тоже. Вечерний чай пить было рано. Дедушка с бабушкой сидели в столовой у окна и читали книжки. А Лёлька забежала к ним поболтать.
Вошли двое, высокие и плечистые, с автоматами. Один прошел в столовую и сел за стол против бабушки. Но автомата не опустил. Бабушка, естественно, онемела от страха. Второй стал по очереди открывать двери и заглядывать в другие комнаты.
– Кого вы ищете? – сурово спросил дедушка.
– Не тревожьтесь, папаша. Кого надо, того ищем!
– Вы нас не бойтесь. Мы – комсомольцы, – сказал тот, что сидел.
– А мы не боимся, – сказал дедушка.
– Вот интересуемся, как вы живете, – произнес наконец тот, что открывал двери.
– И что же вас интересует? – не без иронии сказал дедушка.
– Это кто у вас, родственник? – Парень стоял теперь перед дедушкиным портретом в резной раме из черного дерева. Па портрете дедушка был в парадном мундире и погонах с двумя звездочками (таким он приехал в Харбин, в полк, в девятисотых годах).
– Родственник… – ответил дедушка угрюмо.
– Смотри, Петро, у них наши погоны! – удивился парень.
Дедушка промолчал.
А Лёлька подумала: кусочек картона, обтянутый тканью!.. Сколько же разного наслушалась она о нем за всю свою жизнь в стихах и прозе: «…юнкерский, пулей пробитый погон!..» Символ ненависти взаимной и павшей монархии! Можно подумать: из-за него только, как «яблока раздора», докатилась сюда, до Харбина, половина окружающих ее взрослых!
(И странное дело – именно этот простой армейский погон совершил – в сорок пятом – чудо примирения в закоснелых от вражды стариковских сердцах! «Они пришли в наших погонах!» Получалось, что спорить, собственно говоря, не о чем!)
Парень рассматривал французский гобелен с выцветшими амурами и пастушками.
– Культурно живете…
Бабушка все еще опасливо косилась на автомат.
– Ну, что ж, пошли.
– Пошли…
Так они и ушли, и никакого интересного разговора в тог раз не получилось. Дедушка с бабушкой вздохнули с облегчением и снова принялись за свои книжки. А Лёлька побежала домой. Как раз в это время и пришел Алеша…
Алеша показался Лёльке очень молодым и славным. Гимнастерка у него была чистая и сидела на нем аккуратно. И говорил он вполне вежливо, даже краснел при этом. Он не знал, как называть маму, и обращался к ней просто «вы».
– Вы нам не сварите чего-нибудь горячего? Вы знаете, мы всю дорогу на сухом пайке. Мы сопровождаем трофейный эшелон. Вы нам борщ не сварите?
– Но у меня нет мяса, – пыталась сопротивляться мама. – Одна зелень…
– Как сварите, так и ладно. Лишь бы горячего… Мы вам принесем мясных консервов. У пас навалом японских консервов.
– Лучше я вам из них сделаю хороший соус… – предложила мама.
– Что вы, – прямо испугался Алеша, – они у нас уже вот где! – Он показал на своем горле, где у него сидят японские консервы. – Они же сладкие!
– Ну, ладно, приходите часа через полтора, – сказала мама.
Через полтора часа Лёлька накрыла на стол, папа уселся за компанию, а мама разлила борщ но тарелкам. Кроме Алеши, пришли еще трое. Они ели борщ и задавали папе вопросы:
– И вы давно здесь живете?
– С девятисотого…
– Ого! Еще до Октябрьской…
– И как же вы под японцами жили?
– Плохо жили. Хлеб по карточкам…
– Вы слыхали про блокаду Ленинграда? – спросил Алеша.
Папа сказал:
– Да, да, конечно.
А Лёлька никогда даже слова такого не слыхала – «блокада».
Выяснилось, что Алеша из Ленинграда. Он стал рассказывать о чем-то страшном – липком, как земля, хлебе и ледяной дороге через Ладогу. Лёлька слушала и больше угадывала, чем понимала (Алеша употреблял много совершенно новых слов). Это, наверное, действительно было очень трудно – война и блокада Ленинграда… Лёлька привыкла к слову «Петербург». По сейчас она сама произнесла «Ленинград» и удивилась, как естественно это у нее получилось…
Папа полез в буфет и вытащил полбутылки «Жемчуга», оставшегося от последней японской выдачи.
– Вы не возражаете?
Ребята, видимо, не возражали. Папа поставил перед приборами тоненькие хрустальные рюмочки. Ребята покосились на них как-то странно.
– А другой посуды у вас не найдется? – спросил один.
Мама немного растерялась:
– У пас есть еще ликерные…
Парень вздохнул и больше ничего не сказал. Так они и пили из них, осторожно берясь крупными руками за хрупкие ножки.
После борща псе пили чай с японскими галетами. Алеша принес их в плаще – целую гору белых марлевых мешочков. Галеты были окаменелой твердости, но показались Лёльке невероятно вкусными. Алеша посмотрел, как Лёлька ожесточенно грызет их, и спросил маму:
– А мука-то у вас есть?
Мама сначала не попила: какая мука?
– Ну, белая. У нас полный эшелон. Принести вам?
Мама, наверное, не сразу поверила в свое счастье.
– Конечно… Если вам не трудно… И сколько это будет стоить?..
– Да ладно, ничего не надо… Сейчас я вам остальных ребят подошлю. Вы их покормите, пожалуйста…
В этот вечер мама долго не ложилась спать и все ждала, когда принесут муку. Но они не приходили. Опять пошел дождь, и мама решила, что теперь они, конечно, не придут. Настроение у мамы явно испортилось. Потом дедушка запер калитку на ночь, и все разошлись спать.
Мешок муки нашли утром, переброшенным через забор, на мокрой клумбе. Он был весь облеплен землей, но на это никто не обратил внимания. Бабушка и мама жарили оладьи, а Лёлька ходила и пробовала, у кого вкуснее.
Утром в воскресенье пришел старший по кварталу, рыжебородый сосед Федя (тот самый, что был ответственным по тонаригуми) и объявил: есть распоряжение комендатуры – школьникам, лет пятнадцати, явиться на Пристань в редакцию, где раньше было «Харбинское время». Зачем явиться, Федя не понял, но рекомендовал пойти – все-таки первое распоряжение новой власти но его кварталу!
Мама не очень хотела отпускать Лёльку, но так они привыкли слушаться распоряжений при японцах, что не знали еще – можно ли не послушаться при советских?!
Лёлька надела голубую блузку в горошек – воскресенье все-таки и день жаркий, хотя и сентябрь, и отправилась.
Редакция – сразу за виадуком, на углу Диагональной. Японцы построили ее, как любили они, в «кубическом» стиле, со стеклянной башней в центре.
Лёлька долго стеснялась зайти – в подъезд пробегали военные, но потом осмелилась: все равно – надо!
Суета в вестибюле была – как при переезде на другую квартиру: солдаты с какими-то тюками и столами. Промчался мимо офицер в очках – Лёлька едва успела спросить его, зачем ей, собственно, нужно было сюда являться.
Оказалось, их вызвали для того, чтобы поручить расклеивать по городу приказы комендатуры, и ей нужно пройти в боковую комнату, и там ей выдадут клей и все, что положено. Лёльке это сразу не понравилось, но все же она прошла в боковую комнату. Здесь уже толкались свои ребята – Юрка и еще мальчишки из Пятой школы – оказывается, их тоже известили так, по кварталам. Но ни одной девчонки! Лёлька одна оказалась самая дисциплинированная! И она совсем скисла.
Лёлька представила, как это она, в своей голубой блузке, будет ходить по улицам с ведром и что-то такое расклеивать по заборам, и ужаснулась. Потому что это так не соответствовало понятиям о приличии. А вдруг ее увидит кто-нибудь из знакомых? Уж слишком – расклеивать плакаты!
А Юрку это, видимо, нисколько не смущало. Он собрал вокруг себя кучу совсем маленьких ребятишек и распоряжался ими деловито.
По вестибюлю редакции мелькали интересные военные с кипами бумаги. Конкретно на Лёльку никто не обращал внимания. Лёлька передвинулась тихонько к дверям, полная стыда за свое ослушание, но все-таки выбралась бочком на крыльцо и сразу – бегом на другую сторону Диагональной, словно она здесь – по пути проходящая!
Так бесславно покинула она в будущем родную свою редакцию, да и Юркину тоже. И как она будет жалеть потом, что удрала, потому что станет зачитываться стихами поэта Комарова, который как раз был тогда в редакции, в Харбине, и его самого, может быть, и поймала она за локоть в вестибюле. Она могла увидеть его и говорить с ним, а она сбежала! И разве не о Лёльке сказано было в этих стихах его:
Сколько, сколько мы исколесили
Разных неисхоженных дорог.
Не вчера ли слышали в Сансине
Окающий волжский говорок?
Не вчера ли радовали душу,
И теперь покоя не дают,
Девушки, что русскую «Катюшу»
Вечером на Сунгари поют?..
Мы уходим дальше в этот вечер,
И закат над сопками горит,
И маньчжур на ломаном наречье
Нас за все, за все благодарит…
На Соборной площади лежит груда белых камней – все, что осталось от белого памятника и от мира, его воздвигшего.
Около камней стоит зеленая военная машина, и с нее, из металлического репродуктора, на площадь выплескивается музыка. Вальс.
«С берез, неслышен, невесом, слетает желтый лист…»
В соборном сквере падают сухие сентябрьские листья.
На перекрестке двух улиц – девушка-регулировщик. Узкая шерстяная юбка. Кирзовые сапоги. Кожаный ремень, стягивающий в талии гимнастерку. Очень простое, милое лицо, со смуглым румянцем. Девушка взмахивает цветными флажками, и похожие на зверей «студебеккеры» останавливаются.
В городе стоит Советская Армия. В городе стоит золотая осень. И весь город – яркий, багряный, насыщенный горячим солнцем.
Летят листья, захлестывая тротуары рыжим дождем, на Большом проспекте, на улице Садовой – там, где Лёлькина школа.
Оранжевые кроны тополей, как нарядный занавес – в окне десятого «Б» класса [19]19
С приходом Советской Армии в 1945 году школы в городе были реорганизованы по типу советских.
[Закрыть]. В школе – переменка. Девчонки сидят на учительском столе, на крышках парт и ноют (вполголоса, чтобы не прицепилась инспектриса): «С берез, неслышен, невесом, слетает желтый лист…»
– Девочки! – кричит с подоконника Нинка Иванцова. – Я вам не рассказывала, с каким лейтенантом я вчера познакомилась! Я иду из школы. А он идет навстречу. Он говорит: «Девушка, извините, что у вас за книги?» А я говорю: «Это просто физика». А он говорит: «Разрешите, я посмотрю?..»
Вид у Нинки победоносный и сияющий. Топкие, как мышиные хвостики, косички заколоты на затылке в почти взрослую прическу. Только почему-то в ней совсем не держатся шпильки…
Нинка сидит на подоконнике и вяжет свой дымчатый свитер. Вообще в классе теперь все вяжут, даже Лёлька, на переменках и уроках, из японской трофейной шерсти – солдатских фуфаек и носок. И учителя ничего не говорят.
Учителя все остались старые, только школа теперь другая, «десятилетка» – новое и типично советское слово.
Лёльке некогда. Лёлька влетает в класс, хлопает дверью, хлопает крышкой парты, так что книжки и спицы сыплются на пол. Сейчас звонок, – что у нас там задано по литературе? Блок, «Двенадцать». Дома она, конечно, ничего не успела прочесть! И кто, вообще, готовит уроки в эту сумасшедшую осень! Совсем она запуталась в этих «Двенадцати»! Ну, патруль идет по улице – ясно, теперь по Харбину тоже патрули комендатуры, и вся жизнь перевернута заново, но при чем тут Христос? Ладно, потом разберемся, ближе к выпускным экзаменам! (Теперь у них выпуск будет весной, а не в январе, как в старой школе.)
Хорошо еще, в этом полугодии совсем нет математики – оказывается, они прошли все, что нужно но советской программе, но зато историк Евгений Иваныч страшно гонит по курсу, и вообще ничего не сообразишь.
«…Во второй половине девятнадцатого века капитализм в Западной Европе стал постепенно перерастать в империализм…» Интересно, что буквально два месяца назад он говорил совсем другое…
Школьный учебник истории заканчивался словами: «…Ныне благополучно царствующий Император Николай Второй». Все, конечно, знали, что он давно не царствует, но что там в России дальше? Пустота! Революция – как библейский хаос. Как отдельные пятна на этом фоне выступали расстрелы белых офицеров и «ледовый поход» колчаковцев.
А теперь Евгений Иваныч говорит на уроках о «Кровавом воскресенье», и все-таки непринципиально это как-то с его стороны… Хотя так уж эти взрослые привыкли при японцах – учить всему, что положено по программе, и Лёльку ничто не удивляет. После уроков «национальной этики» тем более!
В «Орианте» и в «Азии» идут советские картины. Каждый день после уроков девчонки бегут в кино. В темном зале хрустит под ногами подсолнечная шелуха, но можно сидеть хоть три сеанса подряд! С первой – «Юности Максима» – Лёлька вышла с больной головой и недоумением – какие-то явки и стачки… По, оказывается, они этого не проходили еще по истории. Зато «В шесть часов вечера после войны» – все просто здорово! И Москва – вот она какая, в окопах, а потом салют на все небо! А какой чудесный артист Самойлов! Пятый раз Лёлька выходит из кино, потрясенная верностью и мужеством, и еще побежит, наверное, с девчонками за компанию. А город полон военных, совсем как Самойлов, сверкающих орденами и звездами, и Лёльке кажется, что все это – продолжение кинофильма!
Город сразу стал непохож на себя, потому что никогда еще такого не было! Пооткрывались в каждой щели китайские сапожные и портняжные, фотографии и парикмахерские. В самом центре Нового города, у Чурина, на тротуаре – барахолка, – халаты японские хлопают рукавами под ярким солнцем. Японцы стоят и продают – жалкие, кланяющиеся японцы, все эти бывшие начальники, вроде папиного, что били в конторах служащих по лицу!
И женщины японские в своих бывших оборонных момпэ, продающие сигареты с лотков, повешенных на шею на веревочках, просто в глаза заглядывают солдатам, и смотреть на этих женщин почему-то неловко Лёльке – от жалости, что ли… Торговля в городе развернулась невероятная! И откуда что взялось – рулоны кожи и, главное, сапоги, – все модницы теперь ходят в сапожках, с вырезом в виде сердечка на голенище, хотя сентябрь еще, и запросто можно бегать в туфельках. Самые потрясающие сапожки в классе у Иры – высокие, коричневые, Лёлька, конечно, тоже мечтает о сапогах, но где там, дома полное безденежье!
С деньгами, вообще, кавардак в городе – ходят еще маньчжоуговские гоби и какие-то новые, сиреневые, как простыни. Даже фальшивыми похоронными деньгами дают иногда сдачи! (Когда умирает человек, по китайским правилам, сжигается на могиле якобы то, что было у него в жизни, только из бумаги сделанное. Такие интересные китайские похороны – несут бумажных цветных лошадок, и человечков, и фанзу на носилках. И деньги сжигают – сколько было.)
Даже на улице Железнодорожной – торговля вовсю: в проломе станционного забора – семечки, колбаса какая-то подозрительная и водка: на цветной этикетке – русский медведь, пьющий из бутылки. Быстро Харбин сориентировался в обстановке!
– Ваня! – машут китайцам солдаты из эшелона.
– Капитана! – кричат китайцы.
– Да не капитан я! – отнекивается парнишка с одной звездочкой.
Он не знает, что китайцы привыкли так звать всех русских военных еще со времен русско-японской войны…
– Не смей разговаривать на улице с незнакомыми военными! – говорит мама. По как тут не разговаривать, если их полный город, веселых и замечательных! Все девчонки влюблены теперь в военных. Когда-то они так же были влюблены в Гордиенко…
Где он теперь – Гордиенко? Говорят, асановцев забирают. Почему-то все говорят – «забирают», а не «арестовывают», наверное, чтобы не путать с арестами при японцах… Стукачей, которые предавали людей японцам, и полицейских – мужа Нинкиной соседки Ольги Федосьевны и диакона Андрея из бабушкиной церкви. Совсем молодой диакон! Он провозглашал с амвона разные церковные слова, а перед службой мыл в церкви полы, завернув полы длинного подрясника. Но, оказалось, он прежде был корнетом, как Гордиенко. Значит, и Гордиенко заберут тоже?.. Жалко его, конечно, но, наверно, так надо. И лучше не думать о нем, чтобы не нарушать сплошного осеннего праздника…
«С берез, неслышен, невесом, слетает желтый лист…» Все девчонки теперь поют и переписывают советские песни в тетрадки. Началось это с того концерта во дворе храма Дзиндзя.
Концерт Краснознаменного ансамбля песни и пляски. Митинг Победы.
Во дворе Дзиндзя, того самого, куда сто раз гоняли их на поклон богине Аматэрасу. На местах еще стояли серые, высеченные из камня ворота-тории, а самого храма, похожего на деревянную беседку, то ли видно не было за спинами толпы, то ли вообще не было теперь? (Кстати, с этой Аматэрасу целая история была в эмигрантские времена. Японцы потребовали, чтобы храму кланялся каждый проходящий по площади русский, а харбинский архиепископ воспротивился, потому что тогда якобы нужно поворачиваться спиной к нашему собору, а это – неуважение к православной религии! Японцы долго воевали с духовенством, даже через Военную миссию, и отступили наконец, а эмигранты страшно ликовали, что хоть в чем-то победили японцев!)








