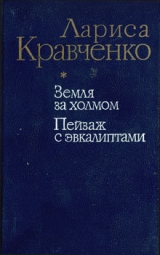
Текст книги "Земля за холмом"
Автор книги: Лариса Кравченко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
– Вот гад, – сказал Сережка, – японский прихвостень! Мало их подмели у вас в сорок пятом!
А Лёлька вся сжалась от этих слов, словно они относились к ней самой, а не к Гордиенко. Неужели так будет до конца – разный взгляд на вещи и события? И нужно было, как говорится, рубить дерево но плечу?
Идет самая длинная Лёлькина зима. Вернее, первая такая длинная с октября но май, а до этого она привыкла, что зима – только кусочек ноября, декабрь и январь, а в феврале все тает – китайский Новый год и весны начало. И нечего Лёльке делать в эту зиму, как только думать и читать, пожалуй. Вернее, она учится думать в эту зиму.
Лёлька закутывается косынкой кроличьей до бровей, берет сумку продуктовую и идет в ларек и в библиотеку – одним заходом.
Библиотека – в клубе, том самом, длинном, глинобитном, как сарай, где стропила торчат в небо углами и снежок падает сквозь потолок на головы кинозрителей. Библиотека тоже замороженная, и книги стоят холодные, как кирпичи… Лёлька берет книгу с полки, толкает в сумку с макаронами и песет домой – отогревать.
Книги для нее в эту зиму – откровение, словно она никогда прежде по читала их, хотя она проходила в школе – Толстого и Тургенева. Но тогда шел сорок пятый год, и Анна Каренина просто ни к чему ей была в ту пору. Теперь она читает медленно – торопиться некуда, и большие мысли Толстого о причинах и следствиях событий заставляют думать ее о том мире, что видела она: «Кто это – я, и кто это – мы, в сущности?» И ее судьба, оказывается, не только – ее судьба, а частица общей судьбы этой ветви от русского дерева-эмиграции…
И может быть, в ней причина того, что выросла она такой слабой – в двадцать пять, как в пятнадцать, и оторванности ее от земли?
– Высыпали вас из мешка, как зайцев, – сказал Сережка, – вот вы теперь и оглядываетесь!
Выборы в Казанке – в местные и районные Советы…
Лёльку вызвал к себе секретарь парторганизации и сказал: первое ее комсомольское поручение – агитатор на выборах. И Лёлька загорелась вся, как некогда в ССМ, и готова была немедленно бежать агитировать.
Первые выборы ее на родной земле, когда она тоже голосует полноправно!
Она помнила те, самые первые, выборы сорок шестого года – Харбин в красных лозунгах и фонарях на избирательных участках. Голосовала Армия. Грузовики на талых улицах, лейтенанты в фуражках, улыбающиеся по-весеннему. Выборы, в которых она не имела нрава участвовать, потому что не была советской гражданкой. А потом, когда была и изучила по Конституции свои права и обязанности, она не голосовала, потому что жила на чужой территории. А теперь – выборы и сама она – агитатор в избирательной кампании!
Ей выделили весь сборный дом – четыре квартиры и еще – пять домов по крайней улице. Нужно обойти всех, и переписать и разъяснить, за кого голосуем.
В своем доме – проще. Лёлька собрала всех вместе в квартире Лаврушиных, и напомнило это ей собрание группы ССМ! А в тех пяти домах по Казанке – придешь и не знаешь, как говорить. Люди смотрят на тебя, и чувствуешь, что знают они больше твоего, только слушают по положению – агитатор! Плотникова жена совсем удивила Лёльку.
– Не пойдем голосовать, пока не выдадут валенки! Так и перескажи директору. Положено нам по договору – пускай выдают! А не то не пойдем голосовать! – Лёлька не поняла, какая связь между валенками и голосованием, но заявление избирателя передала по назначению.
Контору МТС отвели под избирательный участок. Бухгалтерию выселили, развесили шторы – не узнать! К Лёльке пришли Аня-механик и жена парторга – Любовь Андреевна. Аня сказала:
– Помнишь, у тебя на Новый год была скатерть вышитая, в цветочек, ты дай ее нам на выбора для украшения.
Лёлька полезла в чемодан и вытащила – как не дать: Выборы! Потом вся Казанка, вернее, женское ее население, бегала к Лёльке в сборный дом и снимала со скатерти рисунок крестиком.
День выборов. Надо встать спозаранку, чтобы к шести – в избирательный участок. Говорят, дело чести каждого – прийти пораньше.
Лёлька заставила Сережку надеть галстук, как он ни сопротивлялся, и сама надела платье – шерстяное, торжественное… По Казанке светились окна, и люди ходили в темноте – черными фигурками на синеватом снегу. Лёлька взяла Сережку под руку, и так они и пришли на избирательный участок – чета Усольцевых. И когда держала в руке сложенный листочек бюллетеня и опускала его в урну – такое состояние у нее было особенное и никогда прежде не испытанное, словно, наконец, она приобщилась к огромной своей стране и стала составной частицей ее!
Сережка ждал ее в коридоре. И, конечно, он ничего не понял, потому что выборы для него – явление обычное.
– Ты чего так долго? Ты бы заглянула в буфет – чего там выбросили?
Потом был праздничный день в Казанке. Знакомые трактористы из МТС ходили но улицам в гости в новых «москвичках» и шелковых рубашках – грудь, невзирая на мороз, – нараспашку. Слышно было – по деревне пели под гармошку. В полдень солнце подпекло по-весеннему; и сугробы покрылись к вечеру блестящей ледяной корочкой. И березы в околке словно распрямились, пригрелись – ослепительно-белые на потемневшем ноздреватом снегу. Неужели конец зиме?
…В понедельник Сережка уехал на третью ферму подвозить корма, а к ночи задул буран!
Метет буран по Казанке лютый, мартовский, а в Харбине в это время воробьи трещат на солнцепеке, последние льдинки хрустят в лужах под каблуками, и мягкими синими вечерами колокол бьет на Соборной площади – великий пост, весна. Только некому там ходить сейчас в собор ко всенощной – на свою вторую целину собирается Харбин и упаковывает ящики, но уже со знанием дела: сито и валенки – обязательно!
«С Отпора сразу дайте мне телеграмму!» – инструктирует маму Лёлька. Лёлька ждет маму, ждет Сережку и одна ходит по квартире, сумрачной от бурана.
Нужно бы зажечь лампу, хотя еще не время, да неохота идти в холодную кладовку за керосином… Печка растопилась в конце концов, теплынь в кухне. Надо попытаться завтра испечь хлеб, – придет Сережка, а кормить его – нечем. Мама не верит, но Лёлька теперь сама печет хлеб. Пшеница, хмель и вода – вот из чего, оказывается, складывается хлебный ломоть!
Тесто липнет к рукам – Лёлька не терпит стряпню, но что делать? Пройдут годы, и нечто большее, чем подгорелую горбушку, увидит она в том хлебе:
Этот хлеб – мое приобщенье
К судьбам женщин моей земли…
А пока слишком многое сместилось в ее сознании, а заново человек не получился еще. Что она сейчас – как то тесто, что липнет к рукам, а какой выйдет каравай – неизвестно.
Она стояла у кухонного стола и нросеивала муку – крупный деревенский размол, и брови ее были обсыпаны мукой, как снегом. Мука ложилась на газету ровным покатым сугробом, а напротив за окном все так же летел косой снег белой сплошной массой.
Где сейчас Сережка? Сидит, наверное, на квартире, на ферме и пережидает буран. А если нет, а если – в пути? «Неладно сейчас в пути», – сказала утром Анкина мать…
И внезапно, явственно увидела она воображением в белом мелькании большой сугроб в чистом поле, накрывший горбом кабину Сережкиною трактора. И ей стало так жутко, так жутко, что сито, как волчок, вывернулось из рук и покатилось по полу. И она еще почему-то подумала: сито чужое, и ронять его не следует…
А потом было еще два дня, когда буран шел все с той же силой и напряжением, а Лёлька кружилась в каком-то слепом отчаянии по квартире, насквозь продуваемой ветром, так что сквозило по ногам и шевелился край занавески.
И такая тревога грызла ее изнутри, тревога придуманная, может быть, но выросшая в реальную: если он не успел доехать до своей фермы, до бурана, и если она никогда больше не увидит его! И тот сугроб, построенный ее воображением, стоял перед глазами постоянно, и порой эта тревога переходила в уверенность, что она потеряла его. И это, оказалось, страшно – потерять, хотя она и считала, что не любит его! Неужели необходимо ощутить тревогу за жизнь человека, чтобы попять наконец, как он дорог?
Такими мелкими и незначащими стали теперь все его «поллитры», и грубость, и непонимание, перед одной мыслью – потери. Все ушло в сторону, как неглавное, и только одно хорошее его осталось с ней и мучило ее. Даже смешные слова его: «Чего ты бочку на меня катишь…» – и руки его, вместе ласковые и сильные, с ногтями, сбитыми от работы, никогда добела не отмывающиеся руки, даже китель его, висящий на гвозде за дверью, старый, синий китель, времен школы механизации, который она терпеть не могла и все пыталась пустить на мытье полов, а он любил и всегда надевал, когда принимался в доме столярничать, с карманами, полными опилок… Она кружилась по его дому среди всех этих его вещей, слов и поступков. И только бы вернулся он, какой есть, обмороженный, но живой!!!
И она совсем не спала по ночам, только лежала в темноте и слушала гул ветра, и все ей казалось, что где-то далеко в степи рокочет трактор.
А днем, ужасным и нескончаемым, она возилась с печкой и хлебом, потому что все-таки ждала, что он приедет, и тогда нужно чем-то кормить его. Белыми пузырями переваливалась через край чугунка опара.
Она не пошла больше к Анке и ничего ей о своей тревоге не сказала, она сидела одна в полутемной квартире и мучилась и ждала, что вот кончится буран, и тогда – приедет он? Проще было, наверное, перебежать через площадь к директору и узнать – где он, и даже позвонить по телефону на ту же ферму! Но тогда ей не пришло это в голову. Она ждало, до изнеможения – только бы он приехал, и ничего больше!
А буран медленно стихал, и огни МТС стали постепенно проступать сквозь оседающий снег, как изображение на проявляемой фотопленке. И стрекотание движка на усадьбе – мирный голос жизни – все настойчивей прорывался сквозь шум стихии. И наверное, было утро, потому что, хлестнув светом по окнам, ранняя машина прошла на бензобазу. Жизнь возобновлялась в селе Казанке.
Лёлька взяла ведра и пошла в сером рассвете по воду, утопая в снегу валенками. Тропинку замело окончательно, и нужно было ее протаптывать заново.
Сережка приехал к вечеру третьего дня. И не то чтобы она уже не ждала его, просто устала от своих страданий и сидела на кухне без мыслей, опустошенная. Полы были вымыты, чайник на плите весело булькал, и она сидела, как каменная.
И прозевала грохот Сережкиного трактора, потому что машины ходили и тракторы – тоже, и он, наверное, подогнал свой вместе с тяжелыми санями, на которых возят сено, к усадьбе и пришел домой пешком по свежей тропинке.
Он открыл дверь и стоял на пороге в накинутом рыжем тулупе до пят, громадный, с белыми от инея ресницами, похожий на Деда Мороза. И он, наверное, смертельно устал, потому что черты лица его, и без того резкие, словно вылепленные из глины, совсем огрубели и потемнели.
– Сережка… – сказала Лёлька почти шепотом. – Сережка…
Пахла овчиной мокрая шерсть его тулупа около Лёлькиного лица, и он же еще утешал ее, и уговаривал, гладил по плечам, как маленькую!
– Ну, чего ты? – говорил Сережка. – Все нормально…
6. Конец разлукам
Лето в тот год начиналось великой сушью.
Сошла талая вода, когда околки стояли затопленные по пояс, отражаясь в ней березками и белыми облаками, прошла талая вода, и – ни одного дождя!
Небо установилось бледно-голубым, белесым, безжалостным.
Земля превращалась в пыль и желтым дымом взлетала над дорогами. Сохли под солнцем серые взрыхленные квадраты огородов, а пшеница стала похожа на жалкие сухие перышки. Сведущие люди из МТС говорили – еще неделя, и дождь вообще будет не нужен. «И что тогда?» – спрашивала она. Сведущие люди пожимали плечами.
Сережка ходил мрачный и смотрел на небо. Она тоже приучилась смотреть на небо, но небо оставалось равнодушным.
Она никогда прежде не любила дождей. Она любила солнце и горячий песок пляжа и не думала, что есть связь между летним ливнем и обычным куском хлеба. А теперь ей больно смотреть на эти горящие поля, как на живое погибающее существо. И загар на руках не радовал. Дождя!!
Колодец обмелел, и на дне его плескалась желтая глинистая жижа. По сборному дому гуляли горячие сквозняки и заносили пылью подоконники. Дом рассыхался и трещал по ночам.
А вечера, как нарочно, разгорались изумительные – сухое дыхание земли и торжествующее золотом небо.
Возвращались из степи коровы и на изогнутых рогах несли косые лучи света. За коровами шла пыль светящимся облаком.
Сережка сидит рядом с ней на выскобленном добела крылечке (она научилась мыть некрашеные полы!), смотрит на неторопливое шествие коров, на пустое небо и курит молча. В воздухе тянет древесным дымом – время ужина и время дойки. Анкина мать гремит на своем крылечке подойниками.
На пустыре перед усадьбой сетка – волейбол. Блестят спицы прислоненных к столбам велосипедов, и мяч взлетает с гулкими ударами.
– Сереж, сыграем?
– Чего это я пойду прыгать, как малолетний! – То ли женатому несолидно прыгать с парнями, то ли засуха гнетет – он-то знает, что это значит – годовой заработок!
– У тебя ужин-то скоро?
Она встает и уходит на кухню, как здесь принято говорить – «собирать к столу».
– Алёна, тебе телеграмма, – кричит с крылечка Сережка.
Маленькая почтальонша Машенька в мундире министерства связи, в рыжих завитках и золотых веснушках стоит и сияет, как ангел – вестник радости, а рукой удерживает за руль свой велосипед!
– Ваши едут! – говорит Машенька.
Вся Казанка знает, что она ждет родителей из Китая, а почтовое ведомство – тем более! Телеграмма принята по телефону из Багана и аккуратно переписана Машенькой на бланке. Она берет ее в руки и читает раз и еще раз: «Едем назначением Идринский совхоз Красноярский край».
– Что будем делать, Сережка?
– Ехать тебе к ним надо. Мы же решили?
Она стоит с телеграммой в руке, а Сережка сидит на крылечке и смотрит на нее снизу вверх как-то странно вопросительно и серьезно, словно от того, как она решит поступить сейчас, зависит главное для него: уедет она к родителям и стряхнет его вместе с Казанкой как случайность, или она – жена ему, до последней березки?
– Может быть, вместе? Ты еще не был в отпуске, а сейчас – самое время. Потом опять не дадут перед уборкой.
Вся она сейчас – в одном: как ониедут и где онисейчас, если телеграмма из Отпора от пятнадцатого, а сейчас восемнадцатое июня?
– Я справлюсь завтра в эмтээсе, – говорит Сережка, чуточку небрежно, словно для него это не имеет никакого значения. – Надо снять с книжки на дорогу… И что ты меня на пороге голодом моришь! – срывается он с нарочитым возмущением, а сам смеется синими, как на плакате, глазами. – Что за жена! Другая бы давно организовала мужу на стол по случаю приезда родителей!
В Новосибирске цвели тополя.
По вокзальной площади летала белая пурга.
Асфальт на площади был мягкий и в жирных мазутных пятнах, с блеском разворачивались по площади красно-желтые автобусы, ослепительно пенилась в стаканах газированная вода.
И все это вместе приближало ее к маме, тополя особенно: у дедушки в саду тоже росли тополя, и Лёлька собирала их цвет куклам на подушки. (Нет больше дедушки. Не дождался, не дожил до отъезда – восемьдесят семь лет… И она никогда больше не увидит его!)
В черно-стеклянной справочной будке дежурная долго искала по справочнику: как добраться в Идринский совхоз (смешные родители – хотя бы район сообщили, где его искать – Идринский!)
– Абакан, – сказала дежурная, – пересадка в Ачинске.
Сережка побежал на вокзал в очередь за билетами.
Вагон был пустым и чисто вымытым. Солнце лежало на светлой полированной полке, и Лёльку постепенно охватывало ощущение счастья – огромного и чудесного. Она сидела на этой солнечной полке и смотрела в окошко, и колеса традиционно выстукивали, приближая ее к маме! А Сережка ушел в ресторан за пивом. Он не мешал ей радоваться и вместе с тем был достаточно близко – оградить от дорожных забот.
За Болотным пошли леса, веселые бугры и перелески. Ярко-зеленые травяные склоны. Доцветали вдоль полотна одуванчики, земля здесь – влажная, нормальная – засуха не дотянулась. Засуха осталась позади в Казанке, и думать о ней не хотелось. Может быть, пока они ездят, там пойдут дожди и все будет хорошо?
Саяны проезжали ночью. По Абаканской ветке еще ходили старые пассажирские вагоны, доверху набитые дорожным людом. Сережка захватил третью багажную полку, и растянулся на ней с комфортом, и звал Лёльку:
– Залазь сюда – поместимся.
Она не могла спать – от ожидания. Она сидела в полутемном вагоне, слушала сонные житейские разговоры, прилипала к черному стеклу, и тогда проступали из пустоты косматые вершины на светлеющем небе, похожие на Большой Хинган.
Утром они ходили по Абакану и выясняли координаты Идринского совхоза. Сережка нашел экспедицию, откуда вечером пойдет машина в Идру, и они полдня на солнцепеке просидели там на лавочке.
– Пойдем в столовую, – звал Сережка.
– Нет! – Так близко от цели она готова была не сойти с места, лишь бы не пропустить машину! Сережка сбегал один куда-то и принес ей пирожков с ливером и квасу.
Выехали на закате. Машина грузовая, облезшая и расхлябанная, сломалась, не доезжая Енисея, шофер оставил их в кузове с ящиками, а сам на встречной погнал в Абакан за деталью. И они «загорали» на шоссе часа два, а мимо шли с шумом машины к переправе.
К парому подъехали в сумерках. На реке засветились огни бакенов. Паром шел в последний рейс, и очередь из столпившихся грузовиков нервничала и ворчала – придется ночевать здесь, под скалистым берегом! Она торопила глазами медленно ползущий по зеленой воде паром, и руки вымазала в смоле на брусьях у причала, и рассердилась на Сережку, когда он внезапно поцеловал ее на виду всей очереди – от избытка хорошего настроения – сумасшедший Сережка!
– Жинка? – спрашивали шоферы.
Скоро вся очередь знала, куда они так торопятся, и сочувствовала.
На ночь застряли на втором пароме, на Тубе, хотя шофер гнал со страшной силой. Машина уткнулась носом в пустую воду и остановилась. Ночевали они в кузове под звездами. Сережка завернул ее в свой пиджак и прижал к себе покрепче – чтоб но замерзла. Она и правда не замерзла в ту ночь – щекой на Сережкином плече, хотя пиджак к утру покрылся чем-то вроде инея.
На рассвете на Тубе лежал молочный туман, и плоты шли из мокрых бревен. Паромщик проснулся и загремел цепью на том берегу. Лёлька умывалась водой из Тубы – парной и прозрачной и думала: сегодня она увидит их…
В полдень проскочили Идру – серый бревенчатый райцентр. Шофер выгрузил их на тракте у поворота на Луговую.
– Еще километров десять, – сказал шофер. – Там они – китайские семьи. Я сам завозил их третьего дня.
– Пошли пешком, – сказала она.
Сережка перекинул чемодан через плечо на веревочке, снял сандалии и шел босиком. Она тоже сняла тапочки. Дорожка сквозь лес – две колеи в траве. Трава кудрявая, как коврик, вся в крохотных цветочках, похожих на желтые звезды. Она шла быстро, прямо по этим микроскопическим звездам, а Сережка пыхтел сзади с чемоданом и ворчал:
– Ничего себе, разбежалась!
День кончался. Солнце уходило за горы, и склоны задвигались тенью. В лесу отстаивался зеленый сумрак, только в просвет над полянами еще падало солнце. Запах свежего леса и влажной земли, запах лета и юности – совсем как некогда в Маоэршани! Оказывается, всюду на земле одинаково пахнут лиственные леса – грибами, павшим листом и земляникой. А она думала – только в Маньчжурии, и тосковала в сухих степях!
Она летела и ни о чем больше не думала, кроме своего стремления. Совсем не устала, только поглядывала на солнце, как оно закатывается за вершины. Скорее. Скорее.
Снова спуск. Большие избы стоят вдоль дороги. Это еще не Луговая, но уже скоро.
А горы сдвигаются в узкий коридор, темный, заросший папоротником. А горы раскрываются на просторный луг, и Лёлька бежит по клеверу. Гуси, похожие на лебедей, вежливо встают и уступают ей дорогу. Речка Седа. Мутная от дождей и скорости. Еще совсем немного.
– Идем вброд, – говорит Сережка.
И она входит в воду, и идет, держась за Сережкин пояс, одной рукой подбирая мокрую юбку. Вода толкает ее, вымывая из-под ног камешки.
Галечный бережок. Круглые кусты ивняка и горы вокруг – красоты удивительной.
Вот они – крайние дома. Сельпо, запертое на большой висячий замок. Мимо. Еще совсем немного. Совсем…
Надо бы надеть тапочки – подошвы колет разными деревенскими щепками и колючками.
Папа стоял у темной бревенчатой избы в белой махровой рубашке навыпуск, по последней моде.
Она бросила Сережку и побежала к папе прямо по колючкам.
И тут она увидела маму. Рядом, на печурке из трех камней, стоял харбинский, уже порядком закопченный чайник, и мама сидела перед ним на корточках и раздувала огонь круглым, как пальмовый лист, китайским веером.
А через неделю они будут ехать в кузове трехтонки, высоко на маминых вещах – мама, папа, Сережка и Лёля. Она будет думать, что везет их к себе в Казанку, где папа сможет работать строителем. (Но это – не так – на полпути жизнь повернет их к большому городу Новосибирску, но она еще не знает этого.)
В Идринском совхозе папе не нашлось дела по специальности, он опылял турнепс, и она возмутилась. И помчалась к управляющему: инженер-железобетонщик – тридцать лет стажа! Управляющий пожал плечами: нет штатной единицы, и прекратим разговор, пусть работают где требуется! Она вскипела. И преодолев различные дорожные трудности (пешком, вброд, на попутных, в ночную грозу на моторке), она ворвалась, наконец, в кабинет в тресте совхозов. Она ворвалась в дверь, обитую кожей, а товарищ, сидящий за столом, еще прижимал к уху телефонную трубку и – что ей нужно – не понял ничего вначале. Но она ему высказала! Неправильно – держать инженера на турнепсе, с государственной точки зрения. И неэкономично, если он может строить и приносить пользу! (Откуда взялись в ней все эти деловые слова – ни когда прежде она их не употребляла?) Даже кулачком постучала она по столу, совсем коричневым от казанского засушливого загара. Товарищ посмотрел на кулачок изумленно и на нее – в пестрой юбке из китайской дабы, с каймой по подолу, в тапочках, совсем серых от пыли абаканской, и подписал заявление: «Отпустить, не препятствовать, оказать содействие транспортом…»
(Собственно говоря, у дверей кабинета этого и началась она, какой станет потом в Деле: проходить – силой правоты, воевать, добывать, спорить, но этого она тоже не знает еще…)
…Грузовая, задыхаясь, лезет на горную верхушку прямо в облако, а потом, снова, как самолет, устремляется вниз в пустоту, и колесо на повороте долю секунды крутится над провалом. Синие Саяны внизу, как Маньчжурские сопки, только масштабнее. Какой же ты крохотной, оказывается, была Маньчжурия перед этим миром. которому нет конца и разнообразия!
Смешные рыженькие суслики столбиками сидят на дороге и только в последнюю минуту кидаются врассыпную из-под носа грузовика.
Летом пятьдесят пятого она уезжала из Казанки навсегда. Она упорно точила Сережку, и он, наконец, сдался. Хотя ему совсем не хотелось уезжать. Он сказал категорически:
– Езжай вперед. Устроишься, пропишешься – после уборочной переедем.
И она собралась, а Сережка оставался один в Казанке на лето. И как-то не по себе было ей от этого, и стыдно уезжать с целины, и неправильно – вопреки принципам своего ССМ: «Куда бы ты ни послала пас, Родина, мы будем жить и работать с честью!». Но она не могла иначе. Диплом в шелковых корочках торопил ее, уложенный на дно чемодана…
Прощаясь, она ходила по Казанке, тихой и сонной в полуденном зное, мимо плетней и желтых склоненных подсолнухов. И ей стало жалко Казанки, хотя она считала ее нелюбимой. И неловко как-то покидать ее в такую засуху – словно оставить в беде!..
Она торопилась в Баган к поезду на час сорок. Она стояла около дома и снимала с веревки последние стираные Сережкины майки и увидела Анку.
Анка шла по тропинке от деревни и была какая-то странная. Прошла свое крыльцо и остановилась около.
– Лёля, – сказала Анка. – Иван жив! Мне написали. Он сейчас в Тайшете. Это точно. Ой, Лёлька, что ж мне теперь делать?!
Она стояла, нагруженная грудой белья, и не знала, что следует сказать в таком случае. И белье ей мешало, конечно. Она поддерживала его подбородком.
– Анка, подожди, я сейчас.
Кинулась в дом, швырнула белье на табуретку и снова выскочила на крылечко. Анка была метрах в двадцати от дома, сидела около соседнего соленого озерка, на траве, жесткой от пыли и засухи, и она опустилась с ней рядом, потому что не могла же оставить Анку в такую минуту! Солнце пекло, и горизонт шевелился от зноя.
Озерко настоящее, только крохотное. Длинноногие пичуги ходили по его мелководью и что-то клевали в грязи. На Апку с Лёлей они не обращали внимания.
– Я поеду к нему, – сказала Анка.
– Ты подожди, ты подумай, а как же Володя?
– Ах, Володя! – отмахнулась Анка. – Ему тяжело со мной, ты видишь. Я ему не по плечу. И что мне Володя, когда Иван жив!
– Но он твой муж!
– Володя уедет к маме. Так лучше.
Что тут скажешь? В чужой судьбе – руками разведешь…
– Но ты напиши мне, если мы больше не увидимся!
– Напишу, – сказала Анка.
– Алёна! – кричал на всю степь Сережка, стоя на крыльце сборного дома. – На поезд опоздаешь!
Когда отъезжали от Казанки на попутной машине, она в последний раз видела Володю. Он шел через поле от усадьбы на обедепный перерыв. Володя еще ничего но знал, но был, как обычно, усталый, злой и несчастный.
Потом и сборный дом спрятался за горизонтом – совсем новенький дом из желтых досок…








