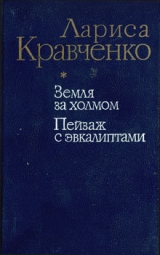
Текст книги "Земля за холмом"
Автор книги: Лариса Кравченко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Лёлька пошла в ДОБ (департамент общественной безопасности), три часа простояла в очереди к китайскому переводчику и подала заявление на визу в Гирин. Через три дня ей вручили бумагу с большими красными печатями и фотокарточкой ее, где все написано по-китайски – кто она и зачем едет. Без визы на перрон не выпустят – такой порядок.
Чудесная все-таки вещь – дорога, особенно когда тебе плохо. Движение, словно чистой водой, смывает все лишнее и наносное, и события, самые горькие, теряют силу свою и власть на расстоянии.
Поля кукурузные – густые остролистые стебли. Налитые дождем-дороги вдоль полотна. Крестьяне в накидках из соломы, мокрых, взъерошенных, как копны. Только ноги шлепают по рыжей грязи, коричневые ноги в закатанных до колен штанах.
В вагоне серьезная проводница – брюки синие, китель – синий, фуражка железнодорожная на подстриженных челкой волосах, стоит в центре между сиденьями, опершись на швабру из рисового мешка, а вокруг – по полу – потеки воды, и пот уже два перегона говорит громко, словно читает лекцию. А старик-китаец, деревенский, видимо, сидит перед ней, съежившись, и руки держит на коленях – судя по всему, критика обращена в его адрес – идет кампания за чистоту.
Перевал. Скоро Гирин. Поезд вырывается из гор, как из коридора в долину, закатом освещенную. Папа встречает Лёльку на вокзале – совсем неузнаваемый, элегантный папа в голубой рубашке, по моде.
Гирин – если смотреть на него сверху, с дворцового холма, – однообразный и почти средневековый. Улицы узкие, глухие, стены из серого кирпича, ворота с навесами, и крыши, крыши, черные и волнистые, черепичные, чешуйчатые, как спины драконов.
Только улица торговая, по которой ходит захлестанный пылью желтый автобус, несет на себе черты двадцатого века. И на ней – папина контора. Странный дом, японской постройки – окна до полу, в окнах – изогнутая линия ближних сопок. Внизу – проектный зал, наверху – квартира специалистов. Два дня после приезда Лёлька мыла папину квартиру и выгребала из углов бутылки из-под пива. Видимо, папа совсем неплохо устроился!
Вся контора – знакомые ребята, инженеры старших выпусков. Только повар – китаец. Он стряпает на общей кухне на всех разные «телюлиди» из свинины и бефстроганов с грибами. Обедают сообща на длинной веранде, завешанной от людной улицы казенными сиреневыми шторками. Инженеры болтают за столом всякую чепуху,» Лёльке, должно быть, весело, даже влюбиться можно бы с горя в кого-нибудь. Но Лёльке мешает Юрка. Он просто не отстает от нее ни на шаг, хотя, конечно, сам об этом не подозревает. Он сидит сейчас дома за чертежной доской и, конечно, о ней не думает.
…Юрка присутствует постоянно. Он ходит за ней по этажам универмага «Байхогунсы» и выбирает для папы пеструю китайскую скатерть – надо же наладить папино холостяцкое житье! Он едет с ней в воскресенье на пикник в сопки на допотопном китайском извозчике и вместе с инженерами толкает в гору упрямую пролетку, а старик кучер кричит на лошаденку – «чо-чо!».
Юрка бродит с Лёлькой по Сунгарской набережной, где ивы, прозрачные и зеленоватые, с листвою на серой подкладке, свешиваются с каменного парапета к воде. Проезжают на велосипедах китаяночки в узких брючках. Дыни продают на тротуаре – полосатые, бело-зеленые, змеиной окраски. На реке застыли рыбачьи лодки, тупоносые, густо усаженные бакланами.
И вместе с Юркой взбирается она по кривой дорожке на дворцовый холм. Скалистым мысом выдается холм в Сунгари, и на краю его – строения легкие, словно готовые взлететь своими крышами, похожими на китайские островерхие шляпы, только с загнутыми полями. Столбы красного дерева и решетки резные, лакированные. Со странным чувством нереальности бродит она с Юркой но этому старому городу и в темные кумирни заходит, где сторукие боги, страшные, с отбитыми пальцами и облезшей позолотой на мечах. Теперь здесь просто парк, и юркие китайские фотографы, со старинными аппаратами на треногах, обступают Лёльку и шумно уговаривают увековечить себя на фоне обломков маньчжурской династии. Юрка идет с ней рядом аллеей древних сидящих каменных львов – «Ши цзы» (правда, они похожи больше на собак!) Оскаленные морды, тяжелые серые лапы…
Юрка мешает Лёльке. Он не дает ей думать ни о ком, кроме себя. Разговаривает с ней вполне по-дружески, словно ничего не случилось. Лёлька уходит в сопки, и это помогает немного – видимо, выше, чем на восемьсот метров над уровнем моря, Юркино влияние не достигает…
Лёлька говорит папе с утра, что не будет обедать, натягивает брюки и уходит. Папа не возражает, и вообще он почти не замечает Лёлькиного присутствия, он весь загружен своим заводом и трубой, которую рассчитывает.
Лёлька идет через мост, тесный от арб и пролеток, лотом по дороге, мягкой от ныли, потом без дорог, прямо на синюю гряду сопок. Она идет поперек перевалов, цепляясь за кустарник, обдирая руки колючками. Майка на спине насквозь мокрая, а лицо горит – от солнца, наверное, и Юрка понемногу отступает и остается внизу.
С высоты можно разглядеть Гиринскую ГЭС: далеко в горах – блестящая полоска водохранилища и белые султаны воды у подножия плотины. Отсюда идет ток в Харбин – вот почему они сидели при коптилках в сорок тестом, когда Гирин захватили гоминдановцы!
Лёльке совсем не страшно одной в сопках. Она привыкла к ним по-домашнему, потому что они всюду в Маньчжурии: и в Маоэршани, и в Трехречье. Только одни раз она всерьез испугалась: залезла на самую верхушку, где уже ничего не растет – груда коричневых скал и плюшевый мох, стояла на этом пятачке в самом небе и остывала на ветру, и вдруг почувствовала странную тревогу. Словно кто-то смотрит на нее, хотя на такой высоте смотреть явно некому. Она обернулась. В двух шагах, рядом, на камне, сидел орел и внимательно разглядывал ее желтыми, большими, как у человека, глазами. Он сидел неподвижно, как выступ скалы, потому Лёлька его и не заметила, только глаза жили и моргали.
На Лёльку напал страх от этой неподвижности его и своего одиночества на высоте. Орел не шевелился, и она тоже. Потом она начала сползать по камням вниз, чтобы уйти поскорей от его желтых глаз, без памяти нырнула в кустарник и с перепугу потеряла ориентировку.
Она проплутала до темноты по гребням, продиралась сквозь кукурузное поле на косом склоне и под конец скатилась в китайскую деревушку. Китаянка сидела на пороге мазаной фанзы и молола зерно на первобытных каменных жерновках. Небо над гребнем было красным, а деревушка лежала в сумерках.
– Гирин? – спросила она китаянку и махнула рукой в сторону предполагаемого Гирина.
– Цзилинь, – ответила китаянка и показала рукой в противоположную сторону. Здорово заплуталась!
Лёлька поулыбалась китаянке, сказала: «цзай-цзянь» и пошагала по темнеющей дороге.
(Странно все-таки, как мало они знали народ, на земле которого выросли.
Просто жили рядом – сами по себе, Китай сам по себе. Равнодушие? Или привычка? Или все это от того вечного ощущения временности в том мире: Китай – это пока, а там все-таки будет Родина, рано или поздно…)
Папа уезжал на площадку, и Лёлька собралась с ним.
Цзючжань – станция под Гирином. Утренний поезд приостановился на минуту, высадил их на подметенный перрон и убежал дальше, стуча по стрелкам. Тополя обступали кирпичный вокзальчик, обмакнув верхушки в туман. Совсем как в поле хорошо пахло полынью. А сопки не видны были, растворенные в белом молочном небе.
На перроне папу встречала бригада изыскателей с рейками и теодолитами: два инженера из конторы – Гера и Алик в кепках и клетчатых ковбойках и девчата техники-китаянки – тугие черные косички, широченные шляпы соломенные и синие брюки – неизменно.
Так и пошли они все, с прокладкой трассы, прямо от выходного семафора станции в поля, к заводу, которого тоже нет еще, только площадка, куда ползут мимо, раскачиваясь на рытвинах, арбы с цементом и кирпичом. А сбоку от террасы, на развороченных гаоляновых грядках, лежат заготовленные рельсы и шпалы в штабелях – заводской подъездной путь.
Солнце поднялось и согнало туман. Инженеры работали с нивелиром, Лёлька и техники-девчата таскали рейки, а папа руководил изысканиями в целом – лазил по буграм земли и давал указания. Пана похож на иностранного плантатора, как их показывают в кинофильмах – короткие бежевые шорты, носки-гольфы на загорелых икрах, только на голове вместо тропического шлема – носовой платок с четырьмя узелками.
Лёлька проходила геодезию на первом курсе и порядком подзабыла, а тут пришлось вспомнить. В стеклышке нивелира все было перевернуто вверх ногами – скала над Сунгари рогатая, как носорог, и Лёлька, смешная, наверное, пропыленная до бровей, с полосатой рейкой на карауле.
Солнце палило – не солнце, а кипяток! И площадка – как плита раскаленная, рыжие отвалы земли и знойный сухой воздух… Лёлька чувствовала, что горит, и налепила на нос листок подорожника.
В обед пили воду в попутной глинобитной деревушке. Колодец на площади под старым узловатым вязом. И вода, поднятая со дна его, – в плетенке – обжигающе холодна. Бригада из котлована – парни-китайцы, бронзовые по пояс, шумно болтали по-своему и обтирали потные лица повязанными на шею полотенцами. Лёлька протиснулась вперед к плетенке, и ей тоже дали напиться.
Ноги, изрезанные острой травой, болели, жарко было, но весело. Только к вечеру, когда они подходили к рабочим баракам, она сообразила, что весь день не думала о Юрке. Юрка отошел в сторону и не мешал ей работать. Оказывается, работа – это сила, что помогает нам подняться над собственной бедой?
На закате Лёлька сбегала окунуться в Сунгари. И Сунгари здесь – не та, что в Харбине, – быстрая и чистая. Только-только сбежала с гор и не успела еще стать желтой.
В глубине вода темная и прохладная, а поверхность – золотая от неба отраженного, и так хорошо погрузиться в ату золотую воду и плыть тихонько, почти не нарушая ее сверкания.
Лёлька выжала мокрый купальный костюм на прибрежную гальку, сунула ноги в тапочки и побежала но высокой траве к циновочному бараку.
Пана торопил Лёльку к поезду.
Потом они шли в полной темноте на станцию. Лягушки квакали в канаве за обочиной. Папа светил на дорогу фонариком, чтобы Лёлька не споткнулась…
И неожиданно, сбоку, где-то внизу, открылся ярко освещенный прожекторами квадрат, и в нем двигались люди. Сотни люден и взмахи лопат. И спины блестели, как полированные. Люди копали и копали, и живым конвейером текла из котлована земля, покачиваясь, в корзинах на коромыслах, по дощатым сходням, наверх…
– Мы вас помирим, – сказала Нинка. – Это просто невозможно – такая дружба и распалась из-за пустяка!
Лёлька забежала к Нинке в обеденный перерыв. Пинка незаметно закончила свой медтехникум и работает а Центральной больнице.
Нинка вышла к Лёльке на крыльцо в белом халате. И они ходили но дорожке между длинных больничных корпусов. Крыши корпусов мокро блестели. Сверху на крыши падали сбитые дождем листья и прилипали, словно приклеивались…
– Просто жалко из-за вас портить нашу компанию – у нас была такая хорошая «четверка»! Когда у Юрки защита? Давай пойдем к Юрке на защиту. И там мы вас помирим. Надо же Юрку поздравить!
– Пойдем… – сказала Лёлька, хотя она далеко была не уверена, что это так легко – помирить их… Глубже все и, видимо, непоправимо. Но поздравить Юрку, правда, надо – для него такой большой день – защита… И Сашка ходит грустный: или ему тоже следует прервать с Лёлькой дипломатические отношения – из солидарности?
Юрка и Сашка защищались в один день, и оба выглядели именинниками в своих, в последний раз, начищенных тужурках, белых сорочках и галстуках. У Сашки – проект стадиона, у Юрки – неизменно – мост! Нинка сидела рядом с Лёлькой, толкала ее в бок и восхищалась: как Юра хорошо докладывает и как интересно, даже ей, ничего в мостах не понимающей! Юркин мост лежал на чертежах арочный, стальной – воплощенная Юркина мечта, со времен практики на Второй Сунгари. Юрка ходил между чертежами с указкой, – Лёлька смотрела на него из конца зала, как на что-то отдаленное. Грустно и горько. Смешная Нинка со своими хлопотами о перемирии!
Они подошли к Юрке с Сашкой после защиты и поздравили их. Ребята сияли – Сашка защитился на четверку, Юрка – на отлично!
– Ну, теперь куда? – спросил Юрка. – В «Три бродяги» или в «Друг студенчества»?
– Пошли в «Три бродяги», – сказал Сашка. – Там все ж таки посолиднее! – И они отправились «обмывать» Юркин диплом – вчетвером, как некогда, словно инцидент исчерпан. Нинка и Сашка – болтали на радостях: наконец-то все они в полном составе, и Юрка тоже говорил что-то, но Лёлька видела – это просто для компании, а по сути ничего не меняется – холодок и отчужденность.
«Три бродяги» – китайская харчевка в Новом городе (название неофициальное). Была еще излюбленная «Друг студенчества» на Стрелковой, но для торжественных случаев «Три бродяги» подходила больше – почти цивилизованный ресторан, и над входом его не висит красной бумажной кисти, похожей на громадный помазок для бритья, как положено над харчевками, а что-то написано иероглифами на вертикальных вывесках. Помещение просторное, но разгороженное дощатыми кабинками с лоскутками дабы вместо дверей. В кабинке – обязательно – зеркало на стене, разрисованное птицами, табуретки на высоких косых ножках и стол, круглый, который на ваших глазах галантно вытирает тряпкой китаец-официант в длинном белом фартуке. Принимая заказ, он кричит названия выбранных вами блюд, нараспев, через всю комнату, так что слышно в недрах харчевки, где подразумевается кухня, и получается нечто вроде боевого клича: цай-ла-пер-фан-те-лю-ди-хэй-цай! Потом он будет носить вам на стол, на железных продолговатых тарелках, что-то шкворчащее, коричневое и блестящее от соусов, и нужно брать это – что-то – палочками, макать в «сою» и жевать, перекашиваясь от огненности чеснока, перца и еще всякой азиатской всячины.
Ребятам принесли подогретую хану в маленьких фарфоровых конусах. Ребята распили ее и совсем развеселились. Нинка торжествовала, словно это она – защитила диплом на отлично, и Лёльке тоже ничего другого не оставалось, как веселиться. Хотя она и правда – рада за Юрку…
Расплатились в складчину и вышли на Новоторговую, с зажженными фонарями, и пошли, под руки, шеренгой но мостовой – по традиции, только петь почему-то не хотелось.
– Проводим Нинку, – сказал Юрка, – а потом нам всем но дороге. – Лёлька согласилась. Хотя лучше было бы ей оторваться от них и шагать себе в одиночку.
Пока шли по Модягоу – замерзли, и Нинка затащила их к себе пить чай. Нинкина мама проявила чудеса оперативности – чай был на столе мигом, и даже с вареньем. В квартире натоплено, Нинка скинула туфли и бегала в одних чулках по чистому полу – всегда у Нинкиной мамы такой блеск: салфеточки ришелье накрахмаленные – просто на диван сесть страшно, Нинка носилась от стола на кухню и обратно, милая и домашняя. Сашка читал свои излюбленные «Пять страниц» Симонова наизусть, а Лёлька сидела в углу дивана нахохлившись, как четвертый лишний. И уйти сейчас не уйдешь – в такую даль шагать одной по ночному городу.
Давно спала за стенкой Нинкина мама, когда они разошлись – под утро, наверное. Юрка сразу свернул с проспекта к себе на Бульварную, а Сашка преданно пошел провожать Лёльку, тем более что ему тоже на улицу Железнодорожную.
У калитки Сашка поставил на тротуар свой чемоданчик и неожиданно потянулся к Лёльке – поцеловать! При этом он путано излагал что-то о своих чувствах, которые он якобы давно питал, только около нее вечно торчал Юрка…
Лёлька тихонько отодвинула Сашку в сторонку и сказала:
– Сашка, я люблю Юрку…
– Да? – сказал Сашка. – Ты же сама знаешь, теперь это нереально!
– Ну, ладно, шагай, – сказала Лёлька, – я замерзла и хочу спать. Через час на работу…
7. Ирина
В октябре пятьдесят третьего года Лёльку и Ирину направили по распределению на Дорогу, на станцию Харбин-Центральный в качестве инженеров-практикантов.
Это было время, когда после передачи Дороги командированные постепенно уезжали в Союз, и их провожали на первом пути станции с красными вымпелами и аплодисментами. Начальник, еще советский, был весь «па отлете» на свою родную Львовскую дорогу – сдавал дела, мотался по станции с переводчиком Ваном и меньше всего интересовался двумя молодыми специалистами – Лёлькой и Ириной, что подбросили ему «централизованно» в последний момент. Делать им было совершенно нечего, потому что документация станции вся переходила на китайский язык, а знали они его после института далеко не достаточно – даже для того, чтобы понять, о чем идет речь, а где уж командовать производством!
Прожить двадцать два года в Китае и не знать языка! А впрочем, зачем был русским китайский язык в Харбине, где каждый лавочник и портной говорили по-русски – не совсем правда, а на том своеобразном условном языке, принятом почему-то в Маньчжурии со времен бабушкиной юности: «Твоя – ходи, моя – покупай», на котором каждая русская женщина именовалась «мадама», а мужчина – «капитана» – независимо от чина, что приводило в страшное недоумение советских солдат в сорок пятом.
Итак, Лёлька с Ириной сидят в проходной комнате техбюро станции, двое русских на все двухэтажное здание, и чертят на кальке и на ватмане все, что подбросит им главный инженер станции товарищ Цуй. Больше, практически, они ничего делать не могут – какой тут анализ графика движения поездов, когда все графики теперь для них в прямом смысле – «китайская грамота»! Станция работает рядом – товарищ Цуй кричит что-то в телефон, а потом бежит стремительно мимо Лёльки с Ириной в неизвестном направлении – то ли опять в парке зарезало сцепщика, то ли просто вызвали на собрание: все происходит как в немом кинофильме – догадывайся по мимике.
А рядом за дверью конторские китайцы пишут что-то под копирку на прозрачной бумаге, стеклянными палочками – Лян тунджи, Сюй тунджи и прочие… (Тунджи – в переводе – товарищ, и так принято обращаться на станции.)
Лян тунджи – веселый вихрастый парень. Зубы – белые, глаза – любопытные. Пробегая мимо Лёльки с Ириной, он не может, чтобы не зацепиться языком: почему-то ого ужасно интересуют их семейные дела: Ира – мужа есть? Хорошо! Лёля – мужа нет? Нехорошо! Ира – сяохай [27]27
Сяохай —ребенок (китайск.).
[Закрыть]есть? Сяохай надо!
Сюй – старый, седой, на станции чуть ли не со времен КВЖД. По-русски говорит совсем чисто, и это единственное, по существу, для Лёльки с Ириной окно в техническую жизнь станции. Когда Сюй идет в маневровый парк к диспетчеру, Лёлька с Ириной увязываются с ним – хоть переведет что-то.
А от переводчика Вана толку мало – тот весь дрожит и смотрит испуганно сквозь круглые роговые очки: как бы его не сократили в должности, теперь, когда командированный начальник уехал, и переводить, собственно, нечего. А то еще определят в сцепщики, а он боится паровозов!
Новый начальник станции – в своем кабинете, полный, неприступный, в фуражке, под портретом. У порога кабинета – машинистка Ли тунджи.
Ли – в переводе означает – «слива», и это очень подходит к ней – круглые щечки, косички, перевязанные резинками, торчат в разные стороны, сидит над своей машинкой, огромной на весь стол, типа наборной кассы в типографии, и ловит, как железным клювом, очередной иероглиф, производительность – десять букв в час. Ли тунджи – новобрачная, на станции только что была свадьба, в красном уголке, они стояли на сцене – она и жених – техник-нормировщик, и каждый из коллектива выступал: насколько они достойны друг друга с точки зрения идеологии.
На кухне, где кипятит на плите чайники русская уборщица, – женский круг. Ли тунджи купила пестрый ситчик и зовет Лёльку с Ириной на консультацию – хорошо? Всю зиму они ходят в одинаковых ватных штанах, типа галифе, на пуговичках у щиколотки, и в курносых мужских полуботинках, нет больше страшной традиции – стягивать жесткими бинтами с младенчества ступни девочек, чтобы так и оставались они треугольными и изуродованными. Только у старух китаянок, что сидят на солнцепеке у порогов, видит Лёлька теперь такие страшные – крохотные женские ноги старого Китая.
А главная бухгалтерша станции – с той не поговоришь на женские темы на ломаном международном диалекте! Гордая, узколицая, с длинными смуглыми пальцами, типичная южанка из Тяньцзина. Свои красиво связанные свитеры носит она под синей бумажной курточкой так, что даже из рукавов их не видно (будут критиковать на собрании).
Собрание на станции – явление постоянное, контора пуста – все из отдела ушли на дискуссию: как поднять производительность труда. Звонят телефоны, Лёлька отвечает за главного инженера: Лян тунджи ушел в южный парк. Лян тунджи мучается с внедрением тормозных башмаков – станцию лихорадит при переходе на новые рельсы.
Лёлька с Ириной сидят за своими столами около окна и видят: на перроне – товарищ Цуй произносит речь, начальник пожимает руки советским отъезжающим. Потом поезд отходит, и китайский состав техбюро возвращается на свои места.
Лёлька с Ириной говорят вполголоса о своей ненужности на станции, которую ощущают очень остро, и выхода нет, потому что они распределены централизованно, и не уйдешь никуда три года.
Они никогда не дружили прежде, слишком разные – Лёлька в своем ССМ и Ирина – «явно не наш человек», как говорил Юрка. А теперь, когда оказались вдвоем на станции, как на необитаемом острове, ровесницы в общем-то, хотя на ровесниц внешне непохожие – Ирина статная, во всем обаянии женственности, и Лёлька – по существу еще «гадкий утенок» – длинноногая и порывистая, – все различие их отошло куда-то в сторону. И они говорят о самом главном и жизненном: о Юрке, который ничего не понял, а может быть, не любил просто, и о Сарычеве…
Лёлька в мыслях не могла допустить такого: Ирина и Сарычев! Потому что Сарычев, с его большой звездой на погонах, был абсолютно выше и вне понятия ее о страстях человеческих. Командированный – такой пожилой седой человек, что для Лёльки это – глубокая старость, и в голове не умещается, как можно влюбиться в него, но можно, наверное, любила Мазепу пушкинская Мария! Но, вообще, это нехорошо, наверное, и неправильно, потому что у него – жена и дочь Ирининого возраста, правда в Советском Союзе, и он один живет здесь в Харбине на Правленской, где казенные квартиры командированных. У Ирины тоже – супруг этот Боря-«капиталист», правда Ирина говорит, что у них давно уже плохо и тягостно, и не может она больше молчать с ним месяцами, потому что говорить им, в сущности, не о чем – такими они оказались чужими, только со стороны никто этого не знает.
Нехорошо это, и псе же Лёлька почему-то никак не может осудить Ирину, возможно, потому, что всегда терпеть не могла супруга ее, с тупым взглядом исподлобья, или потому, что это – прекрасно, чувства человеческие, даже когда они возникают логике вопреки!
И подумать только – это случилось в Управлении, когда они вместе с Ириной ожидали у дверей его кабинета рецензий! Лёлька схватила свою, удовлетворительную, и помчалась в институт, а Ирина зашла к Сарычеву.
Она влетела к нему в кабинет в летнем цветастом платье, озабоченная проектом и тем, что скажет ей сейчас грозный рецензент. Он сказал, что у нее неверно решена схема станции, и она ринулась защищать, потому что это была ее станция, обдуманная до последнего тупичка. И то, как он разбивал ее доводы – умно и точно, как согласился с ней, в конечном счете, не побоявшись признать это, и вся эта атмосфера спора двух людей всерьез, словно это был не просто дипломный, в архив идущий, проект, а реально строящаяся станция, видимо, и столкнуло их. В довершение всего она рассыпала свои чертежи, и он вынужден был заулыбаться, нарушив строгий деловой облик, и помогать ей собирать их. Что-то неосознанное еще вынесла она от этого разговора. Она бежала в институт с проектом под мышкой, довольная, хотя он так и не поставил ей за проект «отлично», а только четверку.
И на защите ей инстинктивно хотелось быть на высоте перед ним, но он не задал ей ни одного вопроса, он сидел, не подымая глаз и не нарушая больше своей суровости. Конечно, он не мог подойти к ней после защиты и поздравить ее – просто невозможно это было, при его положении и той дистанции, что существовала в Харбине между ними. После защиты он пожимал руки китайскому директору и прочим членам комиссии, когда она шла домой, гордая – молодой инженер – между мужем своим Борей и своей солидной маман, которую в классе еще девчонки прозвали Екатериной Второй за седые букли и властолюбие, – сидишь у Ирины в гостях на дне рождения и не знаешь, как держать за столом руки – чтобы она не сделала тебе замечания!
Все лето Ирина ждала распределения, ездила на дачу за Сунгари и помнила постоянно, что он есть в этом городе – посторонний ей, по существу, человек. Потому, наверное, помнила, что не встречала прежде в харбинском своем окружении таких людей, наделенных какой-то внутренней силой.
Она была у мамы, и они втроем пили чай – мама и сестрица Рита. Они сидели в маминой столовой, где мебель из черного дерева – китайский стиль – медные бляхи на дверцах сервантов. На столе было свежее варенье из абрикосов. Сидели три женщины и толковали: что будут носить в осеннем сезоне и так далее. Дверь на балкон была открыта, и там стоял сад, заполненный летней ночной темнотой, душной и влажной…
И так случилось: отец привез Сарычева прямо к ним в дом – показать свою коллекцию картин (у отца были неплохие копии Шишкина и Левитана). Просто удивительно, что они где-то встретились в городе и разговорились, и Сарычев зашел в этот чужой дом, хотя делать так командированным и не рекомендовалось. Но ему тоже, наверное, интересно было посмотреть на заграничный уклад жизни, как некогда Мише Воронкову – на обломки «белой гвардии».
Конечно, он не ожидал увидеть ее здесь, и ему надо было как-то связать в сознании ту – студентку, что воевала с ним за свой дипломный, и эту – дочку эмигранта за нарядным чайным столом, с хрустальными вазочками и ложечками серебряными.
И все-таки, видимо, достаточно серьезным это оказалось для него, если он посчитал возможным сказать ей здесь прямо и лаконично, как привык на своих селекторных совещаниях, что не хотел бы потерять ее в этом большом городе, и вот – номер его служебного телефона, если она решит позвонить ему…
Итак, у нее был номер его телефона, который она помнила наизусть. Ирина снимала трубку в конце дня, когда он мог быть уже не так занят, и начинала волноваться, как девочка влюбленная, – пальцы холодели и голос менялся, и она с тревогой ждала, как он ответит ей, и если не было в его голосе знакомой ей мягкости и доброты, она начинала мучиться: почему это – то ли у него там полный кабинет товарищей в синих кителях, то ли он просто забыл о ней! Она не разрешала себе лишний раз звонить, чтобы не помешать ему, хотя иногда ей просто хотелось услышать его голос, и только.
А когда все-таки он находил возможность встретиться с ней – он сам выбегал, отбросив свое положение и свой возраст, под каменные арки Управления, и они бродили короткие полчаса в темноте, в переулках, и шарахались в стороны, когда на них падал свет фар знакомой управленской автомашины. Была уже зима, и снег мелкий и колючий, как обычно на востоке, белой сеткой перекрещивал уличные фонари и застревал в сером каракуле его форменной папахи.
Все рушилось и сдвигалось в ее сознании, и не потому, что он в чем-то умно переубедил ее, у него для этого не было времени, просто она сразу приняла в сердце его мир, враждебный ей прежде. (Такое было некогда с Лёлькой в сорок пятом – Миша, тоненький мальчик в офицерской гимнастерке – одна звездочка. Лёлька вчитывалась, как в откровение, в его книжку, от красного переплета которой пахло дымом и бензином, потому что это был его мир, и ей нужно было проникнуть в него и осмыслить.)
Человек не может жить в пустоте. А что, как не пустота, – вся ее предыдущая жизнь, даже без той дальней цели – Родины, как у Лёльки, без Лёлькиного ССМ? И потому, видимо, так внезапно заполнил он эту пустоту, человек, которого она могла уважать – в первую очередь.
А как же быть с Борей? Лёльку беспокоило это, потому что все-таки нельзя его обманывать, хотя он и «капиталист» несимпатичный («капиталист» он в том смысле, что у матери его – молочное хозяйство «на линии», а вообще-то он нормально работает, как прочие ребята из XПИ в «Сахарной кампании»). Он любит Ирину по-своему, хотя они разные люди.
Все решено. Ирина уйдет от него. Ей тоже трудно и больно, и жалко своего Борю, но так надо! «Безнравственно жить с человеком, которого не любишь и не уважаешь», – сказал Сарычев.
Лёлька поддержала Ирину, и та выросла в Лёлькиных глазах до уровня Анны Карениной или Ирен Форсайт. Потому что совсем не просто уйти от мужа в Харбине, где все связано условностями внешней благопристойности.
Ирина сняла комнату в Гондатьевском переулке в особняке у старой дамы. Комната выходила фонарем в сад, запущенный и заваленный снегом, черным от сажи, с крикливыми воронами на деревьях. Лёлька помогала Ирине переезжать, и они сообща двигали по комнате кровать – куда поставить, чтобы не так дуло от окон. Ирина ничего не взяла сюда из прежней своей жизни, только платья, и все было чужим в этой комнате – кисейные шторки и венские стулья – совсем как в доме Лёлькиной бабушки – никакого модерна! И печку нужно было топить самой, а это для Ирины было равноценно подвигу.
Ирина сказала, что она проживет на то «тридцать точек», что они получали с Лёлькой на станции, и никому кланяться не будет!
(«Точка» – ото расчетная единица зарплаты, и каждый месяц она меняется в зависимости от цены на гаолян. Было время, когда зарплату на станции вообще выдавали гаоляном в чистом виде, и все, в день получки, приходили с мешками, а потом бегом бежали на китайский базар, чтобы превратить гаолян в юани.)
Командированные с Дороги уезжали, и он мог тоже уехать в любой момент. Вначале он говорил, что останется, как главный специалист на ХЖД [28]28
ХЖД —Харбинская железная дорога – измененное название КЧЖД (КВЖД).
[Закрыть](так теперь называется Дорога), но потом что-то изменилось, и он все равно должен уехать.
Он уедет окончательно, словно канет в вечность по ту сторону границы, – все они уезжают в Союз и никогда больше не возвращаются – так было с Мишей в сорок пятом, так будет с Сарычевым.
Ирина знает, что теряет его неизбежно, и мучается – вздрагивает от телефонных звонков и кидается к окнам, когда на первый путь подают для отъезжающих служебный состав.
…Поезда двигаются. Весь увешанный красными лозунгами, маневровый паровоз осаживает товарняк в парке, черные вагоны бегут по разветвлению путей. На вагоне висит, уцепившись за скобу, как акробат, сцепщик с желтым флажком, в рыжей собачьей шапке и косматой брезентовой шубе нараспашку. Лица и руки у сцепщиков темные, задубленные от ветра и мороза.








