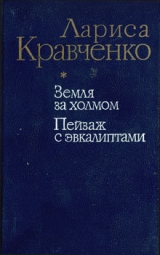
Текст книги "Земля за холмом"
Автор книги: Лариса Кравченко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
– Ты представляешь – на что мы едем?
Лёлька ничего не представляла – главное – едем! А там!..
– Вы едете не к теще на блины! – образно разъяснял на предотъездном собрании консульский сотрудник. Весь апрель Лёлька летала на вершок от земли, не замечая ни маминых отчаянных глаз, ни дедушкиного сопения в усы.
Комитет – боевой штаб отъезда на Родину…
Пыльные ветра дуют из пустыни Гоби, хлопают в Комитете форточки, и, как живые, шевелятся на столах вороха анкет. Тысячи людских судеб, вся эмиграция ложится на стол перед Лёлькой со своим Колчаком и КВЖД, японцами и ССМ. Лёлька, как опытный литработник, сидит и выправляет корявые биографии, потому что чего только не понаписала в них в этот взволнованный момент отъезжающая на Родину эмиграция! Лёлька подводит их под стандарт – никакой лирики. А потом они идут машинисткам в печать, а потом – в плотные коричневые конверты – в консульство. Вот он где кончает свое существование, Харбин, укладываясь в конверты в кабинете первого секретаря!
Опять город поделен на два – кто едет, а кто остается ждать своих документов в Австралию. И теперь уже исключают с позором из рядом ССМ тех, кто не едет – на целину! Хотя и собрания-то проводить некогда. Сумасшедший май месяц!
Все бегают ошарашенные, с отсутствующими глазами и добывают справки – от ДОБа, со старой работы, медицинские и прочие – невероятное количество справок нужно иметь за душой, оказывается, чтобы прожить на целине!
Всем харбинским влюбленным срочно понадобилось регистрироваться (все-таки неизвестно, что это за целина, и вдвоем не так страшно). Очереди стоят в консульстве в ЗАГС.
– Ты не представляешь, что там делается! – рассказывала Нинка. – Мы даже все бланки не заполняли: так и подписались – под пустыми – некогда!
Дело в том, что Нинка зарегистрировалась со своим Гошей – из медтехннкума. Всю прошлую осень – с наводнением и разливом Сунгари, они работали в отряде Красного Креста – по прививкам против эпидемии, под Санкешу. Ходили с сумками санитарными по китайским деревням, и сами жили в такой деревушке в фанзе, на канах. Гоша проявил себя там – какой он серьезный, деловой и заботливый: во дворе фанзы сложил из камешков печку, чтобы Нинка кипятила свои шприцы, и помогал ей носить воду – от колодца, под корявыми вязами. Если бы не Гоша, Нинке тяжко пришлось бы в тех походных условиях! И таким образом – в общем деле – они нашли друг друга.
Они приходили в Комитет оформляться на выезд в одинаковых светлых пыльниках и даже похожие, черноволосые – потомок забайкальского казачества Гоша (из Трехречья, Лёлька знала его – но Драгоценке) и Нинка – смуглая, как цыганочка. Не будь такой суматохи в городе, все бы сказали – какая прекрасная пара! И Нинка полноправно держала Гошу под руку.
Гоша уехал в командировку от Комитета – на периферию – с медосмотром отъезжающих. А Пинка ходит с гордым видом молодой жены, разлученной с мужем ради Родины.
Прошел слух: можно выбирать, куда ехать – в Казахстан или на Алтай. Учебник географии – о, это самая дефицитная теперь в Харбине книжка – изучают и спорят: кого привлекает Красноярск – говорят, там сопки, как в Маньчжурии, кого – Иртыш, потому что в нем когда-то утонул Ермак.
Тополя цветут в городе, белый пух летит в окна, словно все свои подушки вытряхивает город, да так оно и есть, по существу.
Магазины Чурина – метры ситца, закупаемые в дорогу – жатого, в цветочек, по последней моде. В Харбине – лето, и трудно поверить, что где-то могут потребоваться резиновые сапоги. Все, конечно, знают, что едут на целину, на работу в поле – ну, что ж, для этого шьются на заказ элегантные курточки на зиперах и брюки. В вопросах сельскохозяйственной экипировки Харбин ориентируется на последний фильм «Свадьба с приданым», – сапожки лакированные, платочки в горошек. Днем и ночью шьют и перелицовывают китайские портные и сапожники, снаряжая Харбин в дорогу, – конец эмиграции.
Китайские старьевщики со своими круглыми корзинками на скрипучих коромыслах – теперь настал их час, и никогда больше не будет такого: идут за бесценок бабушкины лампы и комоды, а то и совсем даром остаются в пустых квартирах. Правда, есть люди практичные и хозяйственные – везут все, вплоть до кочерги, почему не везти – бесплатные товарные вагоны, а выбросить никогда не поздно, по ту сторону границы!
Китайцы с ручными тележками на Вокзальном проспекте и на Сунгарийском – город, как кочевой табор, китайцы с арбами – пошел в ход весь гужевой транспорт! Ящики, ящики с номерами и фамилиями – чтобы не перепутать. Ящики на крытой платформе товарного двора, где была на практике Лёлька. Каждый день уходит эшелон на запад, с десяти утра – погрузка, в два – проводы на вокзале.
Зеленый состав и полукруглые окна вокзала. Лёлька бегает из Комитета на проводы, потому что уезжают все свои ребята:
– Ребята, до свиданья, до встречи на целине!
Словно уезжают они на веселый пикник, словно там снова все будет вместе в своем ССМ!
Ирина едет тоже, это не подлежит сомнению. Хотя дома у нее трагедия на высоком накале – маман падает вобморок:
– Подумать только, у нас готовы все документы в Австралию! И зачем тебе эта ужасная целина?!
Лёлька встретилась с Ириной за неделю до отъезда у Чурина, у витрины с китайскими кофточками, и они поговорили минут десять на прощанье. Пусть будет целина, если это необходимо, чтобы уехать туда! И сам собой разрешится проклятый тупик с разводом! Про Сарычева Лёлька не спросила ни слова, потому что не знала, ждет ли его еще Ирина? И о Юрке тоже…
Юрка, конечно, едет, и весь горит: главное, что беспокоит сейчас его – попасть в один эшелон с Ириной! Юрка торчит в Комитете:
– Послушай, Лёль… (Надо сделать так, чтобы их конверты пошли в консульство с одной партией).
«…Ну, конечно, я сделаю все, что могу, Юрка. Я сложу их рядом на столе первого секретаря, перед отправкой, и даже скрепочкой сколю, если это поможет! Я ведь все-таки друг тебе, Юрка…»
Город перетасовывается, как колода карт…
Лёлька сама заполняет свой конверт. Елена Савчук – одна анкета. А все они остаются здесь – мама, папа и дедушка.
– Незачем мне туда ехать – умирать! – говорит дедушка.
Дедушка ходит мрачный и согнутый, опираясь на палку, по дому и по саду и все думает. Дома, при отъезде, нужно сдавать государству – в китайскую контору. Возможно, дедушке трудно расстаться с домом, в котором тридцать лет прожито?
Папа сидит на стройке под Гирином и отмалчивается. Ехать он явно не собирается. Откровенно говоря, ему там совсем неплохо. Видимо, по наивности, папа считает, что так будет вечно. Или он просто побаивается ехать в Союз – кто их знает, этих советских, все-таки он был некогда прапорщиком в царской армии!
Целина папу не привлекает, и мама остается с ним. Они не поедут. Лёлька давно готова к этому. Хотя вполне вероятно, она никогда больше не увидит их, если они сейчас не поедут, потому что вдруг потом граница опять закроется? На Лёлькиной памяти никто еще никогда не переезжал свободно границу туда и обратно.
Лёльке просто некогда думать в это сумасшедшее лето в треске комитетских машинок и движении. Они работают до глубокой ночи – так надо – для Родины и для Организации. Часов в восемь вечера первый секретарь Комитета кормит свой, совсем одуревший, боевой штаб бутербродами с чайной колбасой на комитетской белой кафельной кухне. А потом они снова работают до двенадцати. Только в первом часу ночи их развозят по домам на «линейке» Общества граждан. Мама одна собирает Лёлькины чемоданы.
– Что тебе уложить?
– Не знаю! – Лёлька падает без снов на подушку. Скорее бы все это кончилось и поезд тронулся! Лёлька вообще не замечает мамы в эти последние дни предотъездные – мама разрывается на части, между папой, который явно не едет, и Лёлькой:
– Может быть, ты подождешь, мы все решим и поедем вместе попозже?
– Нет!
Мама, конечно, плачет, ну что ж, это положено перед отъездом…
Мама, не плачь.
Слышишь? Поезд гудит отправленье…
И через минуту колеса, гремя, побегут…
Если в битву с природой
уходит мое поколенье,
Я оставаться в задних рядах не могу!
Эшелон уходил в полдень шестого июня. На вокзале играл оркестр и была огромная толпа. Мама терялась в ней, как песчинка.
Лёлька висела на поручнях подножки в новой белой блузке и через чьи-то головы жала чьи-то руки:
– До встречи на целине!
Поезд тронулся, и мама бросилась к подножке, но ее заслонили головы и букеты.
А Лёлька, все такая же сияющая, висела на вагонных поручнях и пела вместе со всеми:
До свиданья, мама, не горюй!..
Хотя она совсем не думала тогда о маме, потому что приобретала – Родину!
Книга третья
Целина
1. Эшелон
Кто-то крикнул: «Байкал!» И все свесили головы через брус, перегораживающий дверь теплушки.
Прямо под насыпью в сумерках светилась и шуршала вода, такая чистая, что из вагона видны обточенные на дне камешки. Эшелон стоял перед семафором – Слюдянка, силуэты судов у причала. Ребята выпрыгивали из вагонов и бежали вниз по откосу с кружками и котелками.
Байкальская вода холодная-холодная. Лёлька набрала ее в ладони и поднесла к лицу – то же, что коснуться горсти родной земли! Почти десять лет она ждала этого часа.
Юрка стянул рубашку через голову и с разбегу кинулся в воду. Вода вздрогнула, и складки разошлись по сизой поверхности. Юрка плыл быстро широкими саженками, наверное, ему было здорово холодно. Или он ничего не замечал от восторга? Еще бы, теперь он способен переплыть целый Байкал! Вместе с Ириной они попали в Казахстан, в какой-то Кокчетав. Все правильно. И все-таки Лёльке больно видеть Юркины счастливые глаза. Может быть, именно это грустной нотой вмешивалось в праздничное движение эшелона? Она думала – будет праздник сплошной и нескончаемый, а получилось – трудно и как-то смутно.
Границу переезжали около трех часов дня шестого июня. Утром на станции Маньчжурия подали к платформе русские теплушки – красные, с подвесными лесенками и пожарными ведрами (такими Лёлька запомнила их по сорок пятому году). Началась перегрузка. Мужчины таскали нумерованные ящики и комоды. Ящиками заставили половину вагона до потолка. На другой стороне вагона – дощатые полки. Лёльке досталось место в углу на верхних парах, у квадратного окошка.
В два часа дня стал накрапывать дождик, мелкий и теплый, но на него никто не обращал внимания. Подошли трое китайцев в зеленых военных куртках – пограничники, постояли перед каждым вагоном и объявили: у кого остались деньги КНР – истратить здесь, через границу не перевозить. Все начали шарить по карманам и сумкам. Набралась мелочь – несколько тысяч юаней. Сложились, постановили купить общественный веник, и младший по вагону Алик помчался в станционную лавочку на перроне.
В два пятнадцать тронулись. Лёльке запомнилось – очень медленно. Дождик перестал, но небо оставалось серым. За Маньчжурией начались пологие холмы, под низкой ранней травой. Она все ждала: когда же она будет – граница? Граница – как удар колокола! Граница – как яркая вспышка! Но ничего подобного не происходило.
Поезд приостановился на минуту, а впереди были все те же холмы – покатые и бледно-зеленые. Наверное, от волнения Лёлька не разглядела, какая же она на деле, пограничная черта, – проволока или вспаханная полоса? Она смотрела вперед, потому что за тем, не отличимым ничем, холмом – русская земля, еще такая же, как здесь, но уже – русская!
Около насыпи – деревянная будка вроде стрелочной и дощатая скамейка перед ней. И пограничники в гимнастерках. Один – чистил сапог, поставив ногу на скамейку. И опять запомнилось это ей, как противоречие; в такую минуту – а он чистит сапоги!
Поезд двинулся. И как флаг на ветру затрепыхался красный лозунг на первом вагоне: «По призыву Родины – на целину!»
– Урра! – закричали в передних теплушках, там, где ехал Юрка.
– Урра! – закричали в Лёлькиной. Лёлька тоже кричала и ничего больше не помнила. Словно высокая волна захлестнула ее и понесла на гребне. Второй раз в жизни было с ней такое. Впервые случилось так, на Модяговском мосту, когда шли танки.
А потом был Отпор. По вагонам прошел строгий мужчина в белом халате и всем сунул градусники под мышки.
Вокзал – колонны, покрашенные под мрамор, и красные бархатные портьеры. За вокзалом – разрытая улица. На буграх свежей земли сидели солдаты с лопатами и курили.
А дальше – мокрая после дождя гора, и на ней дома длинные, одноэтажные, одинаковые. И наконец – магазин с непонятной вывеской – «Промтовары». Все, конечно, кинулись в магазин – выяснить: что тут есть в Советском Союзе? Всем только что выдали подъемные – шестьсот рублей на человека и три тысячи на главу семьи, и было еще непонятно – много это или мало – после харбинских миллионов юаней?
На станции у похожего на кассу окошка выдавали путевки, в порядке очереди: вагон – Курган, вагон – в Кулунду.
– Лёль, привет! – встретился Лёльке на перроне Юрка. – Мы – в Кокчетав. Это, кажется, в Казахстане? Это же здорово – Казахстан! А ты?
– Какая-то Грушевская МТС…
– Ну, пока… – Юрка громыхнул пустым чайником и помчался дальше, к зданию с вывеской «Кипяток».
«…Вот как оно получилось, Юрка: в самый великий день нашей юности – переезд через границу – мы не были вместе, и совсем как чужой ты бежал с чайником по отпорскому перрону…»
За барьером сберкассы – женщины в крепдешиновых платьях с крылышками (по местной моде) оформляли подъемные на аккредитив – опять новое и еще не освоенное слово. Начальник эшелона – мужчина полувоенного облика: китель с карманами, фуражка с квадратным козырьком – проводил на междупутье краткую разъяснительную работу:
– Граждане, когда покупаете спички, не суйте продавцам сторублевки; проверяйте сдачу – есть еще, знаете, всякий элемент.
Второй инструктаж проводил на станции Карымской банщик, старичок с интеллигентной бородкой. Он стоял на лавке в раздевалке, а все остальные внизу слушали: о порядке пользования тазами и железными номерками. Распоряжение – идти всему эшелону в баню было встречено старшим поколением со смутной тревогой: видимо, оно все ожидало какого-то подвоха от «этих советских». На всякий случай решено было оставить в вагоне при вещах дежурных.
В Карымской стояли долго и утомительно – ждали, когда все перемоются. По станции ходить не решались – а вдруг паровоз подцепят и эшелон уйдет? Напротив, на путях, женщины, крупные и грубые or своих рабочих штанов и загорелых рук, забивали тяжелыми молотками костыли. Таких женщин и на такой работе Лёлька никогда не видела: на Харбин-Центральной костыли подбивала путейская бригада из китайцев.
К вечеру, к эшелону, слетелась туча цыган – цыганята черные и кудрявые, цыганки в длинных сборчатых юбках и фартуках, словно выходцы из прошлого. В Харбине тоже были цыгане, но не такие колоритные. Цыганки приставали – погадать, и эшелонные жители не понимали – такое в Советском Союзе?!
А потом понесло, наконец, и закачало по Транссибирской магистрали.
Забайкалье с его плавными линиями, похожее на Трехречье. Июнь – цветущие склоны – поляна белая, поляна лиловая.
Качались на столе цветы в банке из-под абрикосового джема, качались поперек вагона на веревках стираные майки и полотенца, а когда машинист тормозил поэнергичнее, сверху падали на головы чемоданы… В центре теплушки сидело на сундуках старшее харбинское поколение и невозмутимо пило чай, словно оно все еще где-нибудь в Модягоу, на веранде, на улице Дачной.
Восемнадцать суток от Отпора до Багана.
Проснешься рано-рано и почувствуешь, что поезд стоит, а совсем рядом с твоим ухом за тонкой стенкой переговариваются и перестукиваются осмотрщики вагонов, а прямо перед твоими глазами рельсы лежат синеватые, запотевшие за ночь, и зубчатая скала нависает над станцией, и название у станции: «Декабристы».
И опять мимо идут горы все в соснах, на почтительном расстоянии от поезда. У брусчатой казармы девочка в ситцеватом платочке, русская девочка с картины Репина, сосредоточенно и бережно продает красно-кислую ягоду в газетных кулечках. Штабеля бревен на путях. И шустрый погрузочный краник работает не покладая рук. Запах дерева и паровозного дыма – запах дороги.
В дороге, как нигде больше, приходит к нам ощущение огромности нашей земли и ее красоты… Как хорошо, что она – здесь! А могло этого не быть, если бы не та ночь, сорок пятого года, с восьмого на девятое августа. И страшно представить, как бы она жила тогда? Страшно, наверное, прожить жизнь и так и не увидеть своей земли? У каждого человека есть его единственная Земля, и он должен быть с ней, даже если ему трудно…
В Чите отстал от эшелона Алик из их вагона. Виновата была слишком длинная очередь за мороженым. Алику в его четырнадцать лет просто невозможно было не попробовать отечественного мороженого! Эшелон пошел, Алик долго бежал за ним и, хотя из каждой теплушки к нему протягивались руки, запрыгнуть не сумел. Алькиной бабушке стало дурно, и ее поили валерьянкой. Алик догнал эшелон на пассажирском и был в диком восторге от вагонов – цельнометаллических! Умаявшись от волнений, бабушка уснула, и ее чуть не вытряхнуло на ходу из поезда – отодвинулась вторая дверь, которую все считали запертой, и бабушку едва успели подхватить вместе с раскладушкой.
Станции, станции, сколько их на великом сибирском пути! Эшелон с ходу пролетал одни и сутками стоял на других. Замирал перестук колес, и все поспешно хватались за сумки и бидончики. Как первооткрыватели, осваивали икру из частиковых рыб в пестрых консервных банках и частные варенцы на базарчиках.
О, эти станции на пути эшелона! На их перронах, как скорлупа, слетали с людей наслоения привычек, привитых жизнью оседлой, предрассудками наделенной.
Остановился эшелон. И из обычного товарняка вдруг вываливается толпа, пестрая от китайских кофточек, и устремляется наперегонки на вокзал, на приступ – в очереди.
– Откуда вас столько? Это не для вас, это для пассажирского! – кричит испуганно продавец у хлебного лотка.
О, вокзальные умывальники и кипятильники, спасибо вам, первым на русской земле умывавшим и поившим паровозной сажей запорошенную не одну тысячу эшелонных пассажиров, лета пятьдесят четвертого – пятьдесят пятого: репатриация из Маньчжурии на целину…
– Людской поезд семьсот двенадцатый отправляется с пятого пути, – объявляет хриплое радио.
Машинист дергает состав. Гремят подвесные лесенки. Харбинская дама, платочком повязанная по-дорожному, прыгает через стрелки, роняя из сумки румяные баранки.
Юрку она видела в последний раз на станции Татарской – эшелон расцепили и повернули на юг – пять вагонов, по ровной невеселой степи.
И словно оборвалось что-то – потеря реальная и окончательная. А не главным оказалось то, что с ним Ирина, и, видимо, так и будет до конца дней его, а сам он – самый последний близкий ее, растворившийся в огромной России, как некогда Миша. Только Миша оставался тогда с ней, как кусочек тепла, и можно было с этим жить дальше. (И кто, как не он, может быть, первая причина тому, что она здесь сейчас – в эшелоне, и степь – за дверями теплушки?)
Почему-то стало холодно – низко на горизонте висели слоистые синевато-серые облака, и все стали вытаскивать из чемоданов близлежащие кофточки и куртки. Неужели здесь всегда так холодно? (Конец июня, и в Харбине сейчас купаются в Сунгари.) Или это потому что – Сибирь? Настроение в теплушке падало вместе с температурой.
У Лёльки под рукой ничего теплого не было. Она сидела нахохлившись на своих нарах и ноги засунула под одеяло… Сейчас, когда восторженный переезд границы позади, цель достигнута и Родина, отвлеченная Родина, обрела наконец конкретные черты, Лёлька почувствовала, как страшно она устала. От двухнедельного качания в продутом сквозняками вагоне, от постоянного присутствия чужих, случайно собранных, людей и еще от неизвестности. Скорее бы оно было, место назначения – какое угодно, только скорей!
На Татарской Лёлька сбросила маме в почтовый ящик первое грустное письмо. Конечно, не нужно было бы расстраивать маму. Она понимала это, но удержаться не смогла.
«…я не знаю, куда нас везут… Все степь да степь…»
Долго стояли на какой-то станции у кирпичной водокачки. Женщина в плюшевой жакетке несла ведра на коромысле, осторожно ступая по грязи резиновыми сапогами. Ветер хлестал по ногам светлой ситцевой юбкой.
И опять была степь – иногда зеленая, иногда голая, такая ровная и беспросветная! Степь Лёльке не понравилась. Она отворачивалась от нее носом к стенке и пыталась заснуть: «Сегодня наверняка еще не приедем».
Почему-то долго не темнело. Поезд шел, а небо оставалось белесым, чуть желтоватым с краю под облаками. И было непонятно – день или уже вечер? Всю дорогу от Байкала вот так долго висело светлое небо и путалось время – местное и московское. Лёлька вначале думала – это потому, что они догоняют солнце и оно не успевает от них закатываться. Или, может быть, в Сибири белые ночи, как в Ленинграде? Странно, раньше она об этом не слыхала.
…А в Харбине в семь вечера сразу падает темнота, плотная и мягкая, только огни китайских лоточников да фонари на Большом проспекте, похожие па круглые желтые яблоки. Это еще настолько реально, что ей кажется: стоит открыть глаза – и все будет на своих местах: ее комната и полка с книжками над кроватью. И будет мама…«Неужели я никогда больше тебя не увижу? Как же я буду жить без тебя на земле?.. А казалось это так просто – сесть в эшелон и уехать!»
Свисают с нар углы подушек и одеял. Толстая свеча горит за квадратными стеклами фонаря, качается язычок свечи, и пятна света кружат по красным дощатым стеклам.
Под фонарем на чьем-то тюке сидит дорожная пара – староста вагона Андрей Сошников (у Сошникова жена отказалась ехать в Союз и записалась в Бразилию, и потому он постоянно грустный), и Анка – байковый «лыжник», решительные усики над верхней губой. У Анки тоже личная драма: муж у нее попал в другой эшелон, потому что они не успели зарегистрироваться. Попробуй найди его теперь, как иголку, в Союзе!
Все вечера они сидят так под фонарем и говорят о своих горестях, а женщины вагона, сбившись в угол, как на харбинской лавочке в Нахаловке, обсуждают их шепотом: «Вы подумайте, не успел расстаться с женой!» Лёльку возмущает: разве нельзя просто сочувствовать в беде человеку? Она понимает, как это больно – терять…
На станцию Баган прибыли ночью. Утром Лёлька обнаружила, что вагон одиноко стоит на путях перед бревенчатым пакгаузом, а хвост эшелона давно ушел на юг, на Кулунду.
Около путей грудой лежал сваленный уголь, и двое мужчин, черных до бровей, грузили его в кузов грузовичка.
Кажется, правда, приехали!
Баган был самой неприглядной из всех станций, виденных Лёлькой на своем веку. Даже вокзала приличного нет – так, что-то деревянное! На перроне бойко торговал базарчик – бабки в платочках с ведрами толстых соленых огурцов. Бабки закрывали торговлю и любопытно подходили к вагону:
– Вы что, вербованные? – спрашивали бабки.
Никто в вагоне не знал, что это значит – вербованные, но слово не понравилось.
– Нет, мы на целину…
– На целину? – поражались бабки, словно никогда здесь о целине не слыхали.
– Куда вы приехали! – сказала одна, постарше, шалью до бровей замотанная. – Да отсюда с одним узелком уходят и – рады!.. – Что, конечно, не могло поднять упавшего в вагоне настроения.
Даже староста Сошников приуныл, хоть и пытался подбодрить временно вверенный ему народ. Зеленый стеганый ватник, срочно купленный в Чанах, совершенно не шел к его городскому «утонченному» облику. Сошников работал бухгалтером у Чурина и к ватникам не привык. Даже с Анкой он больше не разговаривал, только нервно вышагивал один по междупутью и думал, видимо: что теперь делать, и, может быть, нужно доложиться кому-то о прибытии?
Анка сбегала в город, купила матери молока и выяснила, что здесь есть раймаг, чайная, почта и, значит, жить можно.
Прошло полдня, а за ними так никто и не приезжал. Лёльке тоже хотелось выйти в город, но боялась потеряться.
Наконец приехали из Палецкой МТС, потом из Андреевской. Началась выгрузка и суматоха. Прощаться стало некогда. Уехали Сошников, бабушка с Аликом и другие. Только и остались «грушевские»: Лёлька, Анка с матерью и молодожены Лаврушины – Никита и Женя со свекровью. Никита – с одного курса с Гошей из мед-техникума – отдаленно, но все же знакомая душа. И Женя тоже – из Пристанского райкома, итого три бывших члена ССМ – уже не так страшно.
Было все так же холодно и неуверенно. Анка звала Лёльку побродить по станции, но Лёлька отказалась. Молодожены сидели в пустом вагоне на ящике и, наконец-то, целовались. Женина свекровка подрисовала яркой помадой тонкие губы, подвязалась жоржетовым платочком и приготовилась к встрече с руководством. Анкина мать сидела на вынесенном на платформу стуле и курила сигарету. Анкина мать – крепкая и скуластая забайкалка, всех называет на «ты», без различил:
– Ты что, девка, приуныла? Обожди, найдут на нас хозяина!
Под вечер приехали из Грушевской МТС. Грузовик и маленькая машинка, похожая на виллисы сорок пятого года. Из машинки вылез невысокий человек в синем галифе и в кепке с пуговкой на макушке и пошел к вагону.
– Здравствуйте, товарищи. С приездом. Савельев Николай Николаевич – секретарь парторганизации. Давайте перегружаться.
Шофер подогнал грузовик поближе и высунулся из кабины, наблюдая, как эти приезжие таскают свои бесчисленные столы и комоды. Выяснилось, что Лёлька не может поднять ни одной своей вещи, а Никита – единственный представитель мужской силы. Он ворочал вещи за всех, и скоро ему стало жарко. А свекровка только бегала вокруг и приговаривала: «Ника, осторожно, тут стекло!» Наконец, шофер сжалился и взялся помогать Нике, потом они вместе закурили и нашли общий мужской язык.
– Ну, поехали.
Свекровка напросилась в машину к секретарю, потому что ее, видите ли, на грузовике укачивает. Анкину мать усадили в кабину, а все прочие полезли наверх, на вещи.
Двинулись. Через переезд. Мимо полосы зеленых насаждений, в степь. Теперь она была совсем около – свежая после дождя, под низкой порослью, с черной мокрой дорогой посередине. На ходу прохватывал ветер, степь пахла землей и незнакомыми травами. Лёлька чувствовала себя неспокойно – совсем маленькой на ее большой ладони, терялась среди пустого простора и не знала, за что ухватиться глазом.
Чемоданы прыгали по кузову. Женя с Никитой пытались ловить их и придерживать. Анка удобно уселась возле самой кабины, смотрела вперед на дорогу и нела тихонько сама для себя: «Орленок, орленок, взлети выше солнца и степи с высот огляди…» Лёльке петь не хотелось, она слушала.
Проехали поселок из одной длинной улицы. Два дерева, два ряда одинаковых домиков низких, глинобитных, как фанзы, с плоскими кровлями из глины.
Улицу переходило стадо овец, серых и кудрявых. За стадом шел пастух в брезентовом плаще, смуглый, похожий на китайца.
– Казахи, – пояснил шофер, высунувшийся из кабины. Машина стояла.
Рядом Казахстан… Юрка, наверное, так же едет сейчас по Казахстану…
Овцы прошли, и машина двинулась дальше.
Высунулись из-за бугра крылья ветряной мельницы, выглянула по другую сторону большая крыша с трубой – МТС.
Вещи свалили посреди улицы. Улица – бесконечная, в разъезженных колеях, Лёлька отметила с облегчением, что дома здесь нормальные и – копия той украинской хатки, о которой на чужбине плакала бабушка, – беленые, с камышовыми крышами. Странно – это Сибирь, а не Украина? В центре улицы – дощатый, похожий на ящик, колодец с «журавлем» из кривой жерди.
Они стояли у своих вещей и ждали дальнейших указаний.
– Петька, Петька, китайцев привезли! – кричал кому-то через ограду белоголовый мальчишка.
От каждой калитки неторопливо подходил к ним народ, переговаривался негромко и останавливался на расстоянии.
– Смотри, совсем русские, а говорили – китайцы.
Так они и сидели на своих вещах, пока не приехал опять секретарь и не начал распределять их по квартирам.
Оказалось, руководство МТС приготовило для прибывших две комнаты в колхозных домах на две семьи, а Лёльку почему-то в расчет не взяли.
– Что же мне теперь делать?!
– Договоритесь на сегодня между собой, – сказал секретарь, – завтра что-нибудь организуем.
– Ладно, – сказала Женя. – Не расстраивайся, пошли к нам.
Свекровка недовольно поджала губы, а Никита не возразил – он опять таскал материнские сундуки, теперь в сени.
Женя вытащила из чемодана новую китайскую скатерть в красных маках и повесила ее, как занавеску, поперек комнаты – благо на потолке были какие-то крючки. Лёльке досталась половина комнаты с квадратным окошком и большой рамкой на стене – под одним стеклом множество фотографий – старухи и ребятишки, мужчины в пиджаках и шинелях.
Комната – чисто выбелена, пол – некрашеный. В правом углу – треугольная полочка и над ней на месте икон – красный плакат «За урожай».
Лёлька поставила в ряд чемоданы и стала стелить на них постель. Вот он и наступил – первый ночлег на русской земле!
За занавеской шуршали и смеялись Женя с Никой. Ника снимал ботинки, и они с грохотом падали на пол. Потом занавеска заколебалась.
– Я устал, как собака. Давай ляжем спать пораньше. Завтра к восьми – к директору эмтээс…
Свекровка не пожелала поселиться в общей комнате. Она расставила свои сундуки в сенях и здесь организовала штаб-квартиру.
– Я не хочу мешать молодым, – заявила она и при этом посмотрела на Лёльку вызывающе.
Лёлька умывалась во дворе под железным рукомойником и слушала, как свекровка налаживала дружбу с местным населением. Двор был затоптан соломой, к дому прилеплен сарай из камыша, который хозяйка назвала «пригон», а дальше – огород, в степь переходящий без всякого забора.
Хозяйка – женщина пожилая, сухощавая и загорелая, в белом платочке в горошинку. И хозяйский дед – типичный русский дед с картинки из букваря – бородатый, с седым венчиком волос на голове. Они сидели на лавочке у калитки и задавали свекровке вопросы, напоминающие сорок пятый год:
– И давно вы там жили? И по-русски говорить умеете?
Хозяева говорили на странном языке, близком к бабушкиному украинскому. Половину слов Лёлька просто не понимала.
Потом хозяйка сказала, что ей пора встречать свою корову, и ушла. Лёлька тоже вышла за ограду – ей не хотелось идти в дом и мешать молодым.
Коровы шли по улице неторопливо. Солнце садилось в конце улицы, и коровы шли в его желтом луче – задумчивые пестрые коровы. И мошкара танцевала над ними на свету черными точками. Коровы подходили каждая к своим воротам.
Лёлька постояла, постояла и пошла в сторону степи. Улица кончилась, и степь распахнулась перед ней – вечерняя, в косых оранжевых полосах. Лёлька села на жесткую траву на обочине пустой дороги. От степи шло студеное дыхание ночи. Свинцовые облака лежали в небе, расплавленные по краям. Лёлька потрогала ладонью землю – земля была шершавой и чуть теплой, наверное, нагретой за день.








