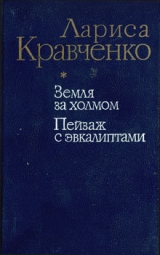
Текст книги "Земля за холмом"
Автор книги: Лариса Кравченко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
3. Уборочная
Па уборочную в Благовещенку выезжали второго августа, сцепом двух комбайнов.
Около десяти утра на поле перед усадьбой пришел трактор. Долго топтался и пятился и делал все, что полагается, чтобы сдвинуть комбайны с места, предварительно соединив их в цепочку. Комбайн Ковальчука – комбайн Ячного. Лёлька впервые увидела своего комбайнера и не успела еще в нем разобраться. Какой-то сухой он, неприветливый, что ли? В летной фуражке с голубым околышем. На Лёльку взглянул как на печальную необходимость – и только.
Со сцепкой комбайнов возились сообща – оба комбайнера и штурвальный Ковальчука, Лёлька тоже должна была заниматься этим делом – ее святая обязанность, как штурвальной, но разные железки, которыми комбайн прицеплялся к трактору, оказались такими тяжелыми, Лёлька разбила себе руки! Мужчины прекрасно обошлись без нее. Ячный ничего не говорил, только сердито поглядывал, и Лёлька совсем растерялась – вот оно, начинается…
Мужчины устроили перекур, Лёлька отошла в сторону, расстроенная, стояла и пыталась отчистить масляное пятно на совсем новом ватнике. Трактористу нечего было делать. Он высунулся из своей кабины и заулыбался, как показалось Лёльке, нахально.
– Алёна, привет! – крикнул тракторист и по местной моде лихо сдвинул кепку на затылок. Раньше его Лёлька на усадьбе не замечала. Или просто они все там одинаково черные от мазута, а тут он сидел, в дорогу собранный, – рубашка чистая клетчатая.
– Ну, чего ты молчишь? – прицепился тракторист. – Вот, тоже мне, загордилась! Как тебя зовут? – спросил он уже серьезнее.
– Лена, – сказала Лёлька. Все почему-то зовут ее Ленкой на целине и никто – Лёлькой. Словно, правда, Лёлька осталась там, а здесь другое существо, на прежнее непохожее.
– Я же говорил – Алёна! – обрадовался тракторист. – Давай познакомимся! Нам работать совместно!
– Усольцев, поехали, – крикнул Ковальчук и на ходу раздавил сапогом недокуренную сигарету.
Тракторист спрятался в кабину, задвигал своими рычагами. Трактор пополз на первой скорости к выезду из села.
Комбайны сдвигались с места медленно и ехали неохотно, тарахтя железом, переваливаясь по-гусиному по колючим колеям. Позади оставалась перепаханная дорога да голые пятна вдавленной земли на поле, там, где стояли комбайны.
Дорога уходила в глубь степей. Именно – в глубь. Лёлька ощущала это медленное погружение в огромную синеву и тишину. Трактор тарахтел, но тишина была сильнее маленького трактора, поглощала его тарахтение, как спокойная вода, и Лёльке становился слышен шелест травы у дороги и треск кузнечиков.
Степь не была ровной, как думалось ей, – степь колебалась валами – покатыми гривами в ярко-желтых квадратах созревшей пшеницы. Далеко по гриве двигался другой, совсем маленький, комбайи, и ветер, словно дым, тянул за ним хвост пыли от копнителя. Но шума мотора не было слышно – поглощала тишина.
Лёлька сидела на мостике у бензобака и дышала тишиной. И сердце ее, судорожно сжатое весь этот месяц непривычной новизны, раскрывалось медленно, как кулачок, и подставляло солнцу ладошку.
Как хорошо! Как хорошо было бы, если бы не мама и не Юрка! И как хочется просто жить и дышать, и радоваться Родине, и не думать о грустном! Устала она от мыслей о маме! И может быть, все будет хорошо, они еще встретятся, и даже с Юркой не все – окончательно?..
Соленые озера лежали но степи, как ровные матовые стекла. И белые птицы кружились над ними. Чайки? Разве на суше бывают чайки? Пятна околков проплывали по горизонту, как острова. Солнце садилось, небо расцвечивалось акварелью розовых и желтых тонов и, наконец, прозрачно-зеленых, там, где кончался закат и начиналась ночь с первой, очень яркой и холодной звездочкой.
Синева сгущалась в камышах. Волк, настоящий серый волк, вышел на дорогу, Лёлька сидела высоко на комбайне, но все-таки ей стало страшно. Волк постоял у обочины, проводил комбайн глазами – только закат сверкнул в них алым отсветом, и невозмутимо ушел в кусты. Нечто прекрасное было в этой степной дороге в сумерках…
– Ты чего улыбаешься? – спросил на остановке опять подвернувшийся тракторист.
– Хорошо, – сказала Лёлька. – Правда, хорошо?
Усольцев снисходительно согласился. Степь для него привычная и само собой разумеющаяся.
В Благовещенку приехали ночью.
Редко светились по улице неяркие пятна окошек. Лёлька шла за своим комбайнером и боялась потерять его в темноте.
Потом была чужая изба и керосиновая лампа на гвоздике на стенке. Хозяйка крупно нарезала на стол хлеба и малосольных огурцов в общей глубокой тарелке.
– Кушайте! – говорила хозяйка, и Лёлька не знала: нужно ли ей заплатить, пли это то, что называется гостеприимством?
Комбайнеры хрустели огурцами. Усольцев хохотал и шумно рассказывал – о чем – Лёлька плохо соображала: ее все-таки здорово укачало на комбайне. Хозяйка 238 поставила перед ней молоко в запотевшем стакане. Лёлька сказала «спасибо», выпила, потом выбралась из-за стола, пошла в темную горницу, где им всем постелили на полу старые тулупы, натянула ватник на плечи, поджала замерзшие коленки, одну секунду еще видела за светлым квадратом двери, прямо на уровне глаз ножки табуреток и комбайнеровы сапоги, а потом ничего не видела.
Бригадный вагончик стоял в березовом околке. Совсем как железнодорожный, только без колес, а на полозьях, и странно было видеть его здесь в поле, по пояс в траве, за десятки километров от паровозных гудков. Вагончик – уже похоже на настоящую целину! Лёлька читала в газетах: первые целинники жили в вагончиках.
Вагончик чудный, только тесноватый и насквозь пропахший мазутом – полки и стол на косых ногах, а на столе – рация. И даже занавеска на окошке – очень уютный вагончик! Жили в нем человек двадцать мужчин и две поварихи: Эмма и Нюра.
В околке пахло сыростью, и травы в нем стояли высокие, нетоптаные. По утрам на травах лежала такая крупная перламутровая роса, что ею можно запросто умываться. Утра были холодные, но в общем-то все это выглядело вполне романтично: и вагончик, и березы, и рассветы.
Первые дни почему-то никто не косил. То ли пшеница не созрела, то ли команды такой не было. Комбайнеры натягивали полотна, регулировали моторы и подкручивали гайки, трактористы тоже чего-то подкручивали. Усольцев болтал разные смешные вещи и помогал поварихам сколачивать длинный дощатый стол под березками. А Лёлька ходила по пятам за своим комбайнером и училась поспешно подавать ему гаечные ключи. Если Лёлька ошибалась и тащила ключ не того диаметра, комбайнер делал злое лицо, и Лёлька совсем все путала. Анка была права: лучше бы он ругался, а не молчал!
Ячный носил старый офицерский китель без погон, но это не делало его привлекательней. Лёлька смутно предвидела, что с комбайнером ей не повезло.
По общему мнению, косить должны были начать с воскресенья. В субботу днем Ячный уехал домой в баню и вообще настроиться перед уборкой. Лёлька осталась од-па и облегченно вздохнула – угнетал ее этот мрачный комбайнер!
В субботу вечером в бригаду приехал на лошадке киномеханик со своей передвижкой и библиотекарша Любовь Андреевна. Любовь Андреевна привезла плакаты – для тружеников хлебоуборки, газеты и письма. Писем накопилось еще мало, но Лёльке было целых два: от мамы и от Юрки. Мамино Лёлька сунула в карман и схватилась за Юркино. Как хорошо она знала этот, единственный в мире, почерк – крупный и стремительный! А то, что Юрка нашел ее на огромной Целине – не удивительно, потому что все они сейчас бурно переписываются и обмениваются адресами: кто – где? Пятьдесят процентов нагрузки на сельские почтовые отделения от этих «китайских» писем!
Юрка! А она думала – все умерло в ней и травой поросло…
…«Значит, ты помнишь меня все-таки?! И то, что было у нас, – настоящее и не может уйти так просто…»
«Лёль, поздравь нас, – писал Юрка. – Ира получила развод, и мы зарегистрировались. Конечно, никакой свадьбы не было – не до того сейчас. Обживемся – устроим слет земляков, по старой памяти – приезжай! Я работаю в совхозе прорабом – собираем финские дома. Все нормально, хотя и трудно, конечно, Ире – особенно…»
И дальше – другим почерком, тоже знакомым со времен станции Харбин-Центральный: «Лёлька, милая, не сердись на меня. Иначе не могло быть, наверное. Сижу дома, жду Юрку с работы и варю ему борщ. Я даже не знала прежде, что это может быть так хорошо – просто варить борщ и ждать с работы. Если можешь – пожелай нам счастья…»
Лёлька сложила письмо пополам, потом еще пополам и медленно сунула в карман комбинезона рядом с маминым, нераспечатанным. «Да, конечно, я – друг твой, Юрка, до скончания века, и пусть будет так, если для тебя это – счастье…»
Совсем стемнело. Механик включил кинопередвижку, и на боковую стенку вагончика, как на экран, упал серебряный луч. Разведчики в пестрых маскхалатах ходили по этой дощатой стенке, и голос маленькой связистки отчаянно звал погибших:
– Звезда, я – Земля!
Лёлька не могла сейчас смотреть на чужую любовь и чужое горе. Слишком людно и светло было около вагончика, и она пошла в сторону, мимо темного околка, просто так, не зная куда. Почему-то хотелось упасть на землю, и закрыть руками лицо, и ни о чем не думать.
Набрела в потемках на соломенную копешку, сначала села, а потом уткнулась в нее носом. Копна была сырая, соломинки лезли за шиворот и кололи шею. Но так было легче.
Совсем рядом зашуршала трава: кто-то шел мимо, и Лёлька совсем прижалась к соломе, чтобы ее не заметили. Шла пара – женщина, кажется, Эмма (это у нее платье в такую крупную горошину) и парень, обнявший ее за плечи – Усольцев, кажется… Не все ли равно!
Она лежала, придавленная почти физической болью к этой соломе. Все затихло и погасло около вагончика, и она продрогла – ночной влагой дышал околок. И только спустя время, сквозь пустоту отупения, начала прорезываться мысль и, странно, не о себе – об Ирине…
Значит, так и не стала Ирина искать здесь своего Сарычева. Значит, приняла в сердце Юрку. Хотя такие они непохожие: Сарычев и Юрка – все еще мальчишка, по существу, хотя ему двадцать четыре. Или побеждает реальность и доброе слово того, кто – рядом?
Значит, что-то просмотрела она в Ирине в ту пору, когда та ждала Сарычева – хоть слова от него через границу… Она вела Ирину за собой на собрания и на воскресники, потому что считала, так – надо, тем более, что это завещал сам Сарычев. А что там думала Ирина, одна в своей комнате, в особняке у старой дамы, когда возвращалась с собраний? Когда ждала его вначале, потому что не мог он не написать, если сказал: «Напишу», не такой он был человек, чтобы нарушить слово! И потом, когда перестала ждать…
Или целина разрушила все окончательно и поставила на свои места?
Но как все-таки умно и дальновидно было со стороны Сарычева заставить ее ждать и тем уберечь от продолжения эмиграции! Потому что если бы не это жестокое ожидание, наверняка она была бы теперь на австралийском берегу с родичами своими: маман и сестрицей Ритой, а не в Кокчетавском совхозе с Юркой. Все на земле взаимосвязано, оказывается…
Висит над током луна, круглая, как алюминиевое блюдо, и вороха хлеба в ее странном свете кажутся песчаными барханами.
Бригадный вагончик спит и шумно дышит во сне. Тракторист Усольцев лежит на парах и руки разбросал в тесноте: одна рука поперек комбайнера Ковальчука – другая на Лёлькином изголовье. И Лёлька спит как мертвая. Ночь пролетает для нее как единый миг, и слов она досмотреть не успевает, Лёльке снятся помидоры на китайском базаре, красные, огромные, как солнце. Смешно, но именно такие сны приходят к ней в первые месяцы на родной земле. А Юрка не спится – ушел, как не было. Или она просто устала? Лёлька спит и не чувствует чужой руки на своем изголовье. Она никогда не думала, что это так трудно – работать…
В углу поля стоит бочка с водой, и когда комбайн заканчивает круг и приостанавливается, Лёлька скатывается с лесенки и бежит, спотыкаясь, по колючей стерне к воде. Перегибается через дощатый край бочки и хватает воду губами, шершавыми от пыли и половы. Вначале она видит в воде свое отражение – совсем чужую черную физиономию, а потом вода мутнеет.
Комбайнер Ячный дергает за свисток, и Лёлька бежит обратно за своим комбайном, мокрая, как мышь, и грязная, как сто чертей.
В первую же неделю выяснилось, что работать на штурвале она не может. Колесо с ручками как-то само собой разворачивалось в руках, и зубья на хедере, которые должны были резать пшеницу, утыкались в землю, и получалась авария и остановка. Ячный отобрал у нее штурвал, и теперь на ходу она следит за бункером.
Бункер заполняется зерном чистым и блестящим. Когда зерно, как вода, начинает выплескиваться через борт, Лёлька ищет глазами по горизонту бегущее с тока пыльное облако. Она научилась издалп различать по профилю машины, возящие зерно от комбайна.
Вот он, выскочил из околка и завилял по борозде курносый «газик» Гриши Яковенко. Скорее, скорее! Бункер полон. Еще немножко, и придется останавливать комбайн. Ячный не выносит простоев!
Машина пристраивается сбоку к комбайну. Теперь нужно открыть железную задвижку, и зерно червонной струей хлынет в кузов. Но задвижка не открывается. Лёлька всем телом наваливается на рычажок, но он все равно не поддается. Кто знал, что на этом комбайне такие тяжелые задвижки! И опять приходится просить помощи у Ячного!
День длинный, как проклятие. Беспощадное солнце стоит на месте, к небу приклеенное. Только комбайн завершает круг за кругом, и нет этому кружению конца. С копнителя, где работают двое запорошенных колхозных ребят, летит полова и желтой метелью заносит комбайн – мостик, и бензобак, и лесенку. Надо бы смести веником из полыни, да некогда. Комбайн идет.
В комбайне постоянно что-то заедает – машина новая, необработанная. Ячный становится серым от злости и хватается за инструмент. При этом он так смотрит на Лёльку, словно она одна во всем виновата.
В ремонте им помогает Усольцев, хотя это, в общем-то, Лёлькино дело. Но ему неинтересно простаивать – он зарабатывает с гектара.
Обед им привозит прямо на поле на бричке повариха Эмма. Еще издали ее серебряные бидоны начинают сверкать на солнце.
Они сидят на соломе и ждут, пока Эмма разливает борщ в алюминиевые миски, по очереди, начиная с комбайнера. Эмма – немка, хотя и говорит по-украински. Здесь почему-то полно немцев в деревне и в бригаде, и они ничем не отличаются от прочих, только фамилиями – Вольфы и Шульцы, все они очень работящие – это еще те немцы, которые в России с незапамятных, почти петровских времен. Эмма – белокурая, в голубом платочке, на Усольцева поглядывает хитро, по-женски.
Не поймешь этого Усольцева – шутит он или всерьез? К Лёльке придирается и дразнит – то у тебя нос в солидоле, то еще что-нибудь. Усольцев зовет ее Алёной, и это все ж таки лучше, чем – Лепка или просто – Савчук, как – прочие. Лёлька сама знает, что она вся в солидоле, даже платочек на волосах в жирных пятнах и руки как у негритоса. С такими руками и обедает – мыть негде!
Усольцев ест энергично, отламывая крупные ломти хлеба, и пьет молоко из бутылки, откинув назад голову. Зубы у него белые, как молоко, и крупные. Ячный ест аккуратно, крошки не уронит, и обстоятельно. Лёлька не видит себя со стороны. Она уминает коричневую горбушку. Она никогда не думала, что хлеб может быть таким вкусным.
Потом мужчины курят пять минут после обеда, а Лёлька лежит тут же, на соломе. Она проваливается куда-то на мгновение, сквозь этот желтый ворох, сквозь весь этот мир ослепительно желтого цвета – солнце и пшеничная равнина, похожая на рыжую щетину, стерня и полосы Усольцева – чуб из-под кепки – цвета соломы.
Только околки еще зеленые, чуть-чуть подрумяненные с боков.
Мужчины встают, и Лёлька тоже идет через силу за ними к немилому комбайну.
День продолжается…
На закате приезжает бензозаправка – белобрысый паренек Саня в армейской фуражке, на быках, медленных и равнодушных. Горючее бежит по шлангу к Лёльке в бензобачок, а солнце садится – огромное, томатное солнце, прищурившееся на Лёльку из-за горизонта. И мир становится лиловым – горбатая тень от комбайна и внизу, у подножия гривы, соленое озеро под серыми пластами тумана.
Ячный уходит ужинать на стан, а Лёлька шприцует комбайн. Солнце закатывается, а она все шприцует тяжелым медным шприцем черные от ныли подшипники. Лёлька ползает под комбайном на животе и мучается с передним колесом – там самый неподатливый подшипник. Всю свою душу она вложила в это переднее колесо! Усольцев тоже остается допоздна и возится со своим трактором.
Иногда он помогает ей:
– Эх ты, маломощная, и чем вас только кормили в Китае?
Вместе с сумерками приходит ночная свежесть, комбайн остывает, Лёлька начинает дрожать в сыром от пота комбинезоне. Почему только ей одной так тяжело, а все кругом работают и не расстраиваются? Маруся штурвалит на соседнем комбайне, и когда машины сближаются на крайнем круге, Маруся весело кричит Усольцеву и копнильщикам, и ветер раздувает ее двойные красно-зеленые юбки…
Лёлька шприцует комбайн, а рядом поблескивает лиловое озеро, и белые птицы кружат над пим. Бросить все, и броситься в воду, и смыть с себя эту беспросветную грязь!
Однажды она все-таки пошла на озеро, хотя было поздно, только луна освещала голубыми бликами черную поверхность. Лёлька едва добралась до него в темноте – берега оказались топкими и заросшими камышом. Соленая вода пахла рыбой, солидол в ней не отмывался, а наоборот, застывал на руках, и Лёлька перемазалась по щиколотку в мокрой земле…
Наконец, она разделывается с комбайном. Она идет в стан в потемках, голодная, и коленки у нее подгибаются – лечь, прямо на полосу, и уснуть!
Ночь пролетит мгновенно, и она опять не успеет отдохнуть!
Два события в один вечер: на комбайне сломалась ответственная деталь, и в бригаду приехал директор.
Шестеренка раскололась пополам, запчасти у Ячного не оказалось, и комбайн встал окончательно. Ячный, конечно, зашипел, а Лёлька обрадовалась. На правой руке у нее вскочил нарыв. Рука стала толстая, платком обмотанная, и синяя – смотреть страшно! Лёльку знобило, каждое движение отзывалось болью. И теперь она обрадовалась, что попадет в бригаду засветло, попросит на кухне у Эммы горячей воды, уйдет куда-нибудь в глубь околка и попробует отмыть больную руку. Лёльке казалось: от горячей воды рука перестанет болеть.
На бригадном вагончике висела доска показателей, и на ней мелом учетчик отмечал дневное выполнение. Знатный комбайнер Ковальчук шел впереди, а Лёлька со своим Ячным – где-то в середине. Не так плохо!
На крылечке вагончика сидел и откровенно скучал городской уполномоченный по заготовкам в синем кителе с якорями. Уполномоченному нечего было делать, и кроме Лёльки им никто не интересовался. Лёлька расспрашивала его про город Новосибирск, и про его Обское пароходство. Она взяла полотенце и собралась идти за водой на кухню, когда подъехал директор МТС и началось собрание.
Лёлька пристроилась с краю на поваленной березе и слушала о темпах хлебоуборки и ждала: скорей бы оно кончилось – собрание – она все-таки надеялась сегодня вымыться. А комбайнеры сидели на травке, тоже слушали и поглядывали на небо. Небо заволокло серой пленкой, и летели дождинки.
Лёлька думала о своем и прослушала, что там говорил вначале ее комбайнер Ячный.
А Ячный жаловался: у него полетела шестеренка, а все – от недобросовестного ухода за комбайном, и он никогда не может быть уверен в своей машине, пока у него такой недобросовестный штурвальный.
Потом директор спросил:
– Вам, наверное, трудно? – и Лёлька с изумлением обнаружила, что это относится к ней, потому что все головы повернули в ее сторону. Лёлька держала на коленях, как куклу, свою замотанную руку и, вероятно, выглядела жалкой.
– Мне трудно, – сказала Лёлька, пытаясь сообразить, о какой недобросовестности толковал Ячный.
– Я думаю, примем такое решение, – сказал директор. – Раз человеку трудно, переведем Савчук на более легкую работу. Вот, например, весовщиком. Алексей Палыч, как у нас с весовщиками? – спросил он присутствующего на собрании колхозного председателя.
– Да можно, хоть здесь. Новикова одна не справляется, – доложил председатель. Он – низенький и весь какой-то круглый, и гимнастерка на нем, кажется, вот-вот лопнет по швам.
– Договорились, – сказал директор. – Это вам подойдет, – снова обратился он к Лёльке, а все собрание смотрело на них и слушало. – Правда, там заработок поменьше…
– А что? Хороший заработок, – вмешался председатель. – Твердый оклад.
– Завтра приступайте, – распорядился директор. – А на штурвал к Ячному поставим Остапчука (Лёлька вспомнила – это один из копнильщиков).
Собрание кончилось. Ячный сел с директором в «газик» и умчался в МТС за шестеренкой. Комбайнеры пошли ужинать к столу под березками, а Лёлька забыла, что собиралась мыться. Она сидела на лавочке у боковой стенки вагончика и пыталась сообразить, что произошло.
Да, ей было трудно, и она проклинала комбайн, но она не хотела, чтобы ее снимали со штурвала! Целое лето она готовилась к этому и надеялась, что привыкнет постепенно. Ей даже казалось, она уже начала привыкать, если бы не рука! Рука подвела ее окончательно! А Ячный все-таки не прав, что она недобросовестная! Она старалась, и облизывала комбайн из последних сил, и шприцевала каждый подшипник, пока по краю его не выступит вязкая желтая полоска солидола.
Ее перевели в весовщики, и, наверное, нужно радоваться. Она знает Шуру Новикову. Обычно они косят вовсю, а Шура только идет из деревни, в ярком платочке, вполне умытая и выспавшаяся. И, значит, действительно покончено с грязью и солидолом. И все-таки ей жалко комбайна. Она не справилась. Она ехала на Целину и не справилась!!
Лёлька прислонилась затылком к стенке вагончика и всхлипывала, и слезы бежали, оставляя на щеках светлые дорожки.
Кто-то подсел к ней на лавочку. Лёльке было не важно – кто.
Это оказался Усольцев. Он сидел рядом и молча курил. И поглядывал на нее дружелюбно. Лёлька сама не заметила, как начала говорить.
Она не ожидала такого от Ячного! Это – неправда, что он сказал на собрании! Неправда и несправедливо! Она не думала, что советский человек может допускать несправедливость!
– Слушай, Алёна, – сказал наконец Усольцев, – ты чего-то не то несешь, – ему, видимо, надоел Лёлькин сбивчивый монолог, и он решил внести ясность. – Ну сняли тебя, ну, и правильно сняли! Тебя считать учили? Ну, и будешь теперь считать центнеры – самое для тебя подходящее.
– Мне стыдно, – всхлипнула Лёлька.
– Подумаешь, застыдилась! Ты же должна понимать – тут каждый час горит, а ты будешь год приноравливаться – кому это надо!
Лёлька замолкла и взглянула на Усольцева с доверием.
– А про советских – это ты брось! – рассердился вдруг Усольцев. – Что ты можешь судить о советских, да еще по одному человеку!
– Но ведь он мог по-другому, без собрания…
– Ну, мог, ну и что? Ему нужен заработок, а ты его по рукам вяжешь! Он мог сказать тебе по-хорошему: знаешь, шагай отсюда, а он сам первый год косит, ему перед директором нужно показаться. Люди разные. И это ж – работа! А реветь нечего!
Усольцев смотрел на нее и теперь откровенно улыбался.
– У тебя зеркало есть? Посмотри, какая красивая!
Лёлька, всхлипывая, вытащила из глубин комбинезона мутный зеркальный осколок, потерла его о коленку, посмотрелась и опять зарыдала: слезы, размазанные по лицу, выглядели ужасно.
– Ну, чего ты? Ну, чего? Вот дурная!
Он схватил внезапно рукой ее вздрагивающие плечи, и Лёлька прижалась нечаянно к его плечу, обтянутому клетчатой ковбойкой. От плеча пахло дымом и бензином, совсем как от рукава Мишиной куртки.
– Алёна, – сказал Усольцев, – давай выходи за меня замуж!
И так захотелось ей поверить ему, хотя и знала она, что он шутит, Усольцев, так захотелось поверить и не отнимать лица своего от клетчатого кармана его ковбойки, кстати уже грязного от слез ее – таким он показался ей добрым и надежным! И наверно, от одиночества своего (совсем одна на такую большую страну) – чуть-чуть не сказала она: «Ладно!», – только опомнилась вовремя, выпрямилась и отодвинулась. И стала искать по карманам носовой платок.
– Покажи руку, – сказал Усольцев. – Слушай, тебе надо к врачу. Что ты думаешь, когда у тебя такая рука! Тоже мне – китайка беспомощная!
Минуту поразмышлял, а потом произнес:
– Знаешь, подруга, топай сейчас в село. Там как раз ваш китайский фельдшер на медпункте. Тут всего по дороге четыре километра. А утречком придешь на ток.
– Уже темно, – сказала Лёлька.
– Испугалась! Минут сорок ходу, не больше! Может быть, проводить, миледи?
– Нет, нет, – заторопилась Лёлька. – Я сама.
– Знаешь, Шульц еще косит, и ты можешь подъехать на последней машине. Ты иди ужинать. Будет машина – я тебя позову.
– Спасибо, – сказала Лёлька.
За стенкой вагончика комбайнеры укладывались спать и стучали сапогами. Тихо пиликало радио.
Лёлька пошла на кухню. Эмма подбеливала плиту, но все-таки кинула Лёльке в миску толченой картошки плюс соленый огурец. Лёлька сидела на краю кухонного стола и ела эту картошку, как самое прекрасное блюдо.
Потом в кухню заглянул Усольцев. Он согнулся пополам в проеме низенькой двери и крикнул:
– Алёна, давай быстро, машина уходит!
Лёлька бросила алюминиевую ложку и побежала.
– Сережка, – позвала из глубины кухни Эмма.
Усольцев шагнул в кухню и прикрыл за собой дверь.
Шофер Гриша захлопнул дверцу кабины, и машина пошла в темноту по степной дороге. Гриша торопился, бешено гнал, и Лёлька подпрыгивала на пружинном сиденье. По земле метались косые полосы света, выхватывали из мрака корявые колеи и пригнутую траву у обочины. Впереди была ровная чернота, и не поймешь, где кончается степь и где начинается небо.








