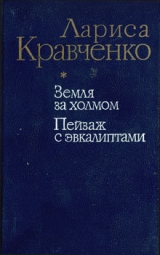
Текст книги "Земля за холмом"
Автор книги: Лариса Кравченко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Лариса Кравченко
Земля за холмом
День учебной стрельбы

Стрельбище лежало за старым русским военным кладбищем.
Когда спустя пять лет, в пятидесятом, мы ходили туда в мае за фиалками, я не нашла ни зеленого полигона, ни земляного вала с белыми кругами мишеней. Все было распахано под огороды, и только серый, похожий па карандаш, обелиск Чурэйто незыблемо торчал в небе, оставаясь единственным свидетелем странного мира нашего детства.
Какая все-таки емкая штука – одна человеческая жизнь. Разные эпохи составляют ее как геологические пласты: у меня лично даже «эпоха» японской оккупации содержится где-то в ранних пластах существования! Пятнадцать лет – четвертый «Б» класс [1]1
Четвертый класс второй ступени японской средней школы соответствует десятому классу советской средней школы.
[Закрыть] . И город Харбин, который по справочникам значится еще «центром белогвардейской организации».
И неужели правда – я – та смешная девчонка, косички из-под кёвакайки, с винтовкой наперевес, на посту ограждения за стрельбищем? Совсем маленькой и чуждой вижу я девочку ту, отделенную дистанцией времени. И мальчишек тех – сорок пятого года, в застиранных гимнастерках, в куцых мундирчиках японского образца:
– Лежа, по мишеням – огонь!
Мир исчезнувший, сметенный с лица земли лавой исторических событий. Что же заставляет меня думать о нем сегодня, словно проходить все заново? То, что есть на земле мальчики и девочки, русские, растущие под чужим флагом? И стрельбища, где под белым кругом мишени подразумевается страна моя и мир, в котором живу я сейчас, только команды не хватает: «Огонь!»
День учебной стрельбы был назначен на двенадцатое июля. И Лёлька была довольна: пропадало два самых противных урока – ниппонский [2]2
Ниппонский язык – от японск. Ниппон – Япония.
[Закрыть]язык и национальная этика.
Ниппонский язык преподавала Хоси-сан – вежливая, но безжалостная старушонка. И у Лёльки возникали с ней вечные недоразумения. Лёлька запутывалась в тонкостях японской грамматики, со всеми ее уничижительными и повелительными частицами при обращении существа высшего к низшему – и наоборот.
Национальная этика (по-другому – «Дух основания государства») – просто скучный урок, толкующий о превосходстве ниппонской нации над всеми остальными нациями мира. Левушка Егоров, молодой человек из Кёвакая [3]3
Кёвакай – прояпонская псевдообщественная организация в Маньчжоуго, способствующая проведению японской политики на континенте. (От слова «кёвакайка» – форменное кепи военнослужащих японской армии и всего мужского населения в годы войны (1941–1945 гг.)
[Закрыть]в кителе цвета хаки, сонно читал по тетрадке истины, к которым сам не относился всерьез. Девчонки подбрасывали Левушке на стол записки, Левушка краснел и совсем запутывался в теории происхождения ниппонского народа от богини Аматэрасу.
День учебной стрельбы нарушал нудный школьный распорядок – девчонки из четвертого «Б» класса были довольны, и Лёлька – тоже.
В первую очередь стрелял четвертый «А», и тащить винтовки было не нужно. Собирались к десяти утра на конечной остановке у трамвайного парка, сидели на ступеньках аптеки и болтали о своих девчачьих делах: кто кого из мальчишек пригласит на «белый бал» (сто дней до выпуска) и какое чудное платье мама сошьет Нинке Иванцовой из выданного по карточкам шифона (в целлофановую искру – мечта!).
Лёлька с вечера начистила зубным порошком туфли и отутюжила форму, измятую на последнем уроке военной подготовки, когда они ползали по земле в Питомнике, «применяясь к местности» (форма, конечно, мужского покроя – черные брюки, китель с медными пуговицами, маме пришлось вытачками подгонять ее к Лёлькиной фигуре). На стрельбище Лёлька взяла папину фляжку с чаем – день ожидался длинный и горячий.
Дорогу до стрельбища никто толком не знал, но инструктор мальчишек Володя Бернинг обещал встретить их где-нибудь на шоссе, и девчонки не расстраивались.
Сначала шли пыльными пригородами. За казармами Госпитального городка свернули на чье-то кукурузное ноле. Острые глянцевитые листья, как бумага, шелестели на ветру. Белые теннисные туфли потемнели от пыли, в толстых кителях стало жарко.
Потом вышли на шоссе, совсем пустынное, только один раз их обогнал фыркающий японский грузовик. Одуванчики желтые, как цыплята, толпились у обочины. Вдоль шоссе росли тоненькие, с трепетной тенью листвы, тополя. Здесь девчонки устроили привал, расстегнув нестерпимо душные кителя и закатав до колеи брюки. Здесь застал их приехавший на велосипеде Володя Бернинг.
Лицо Бернинга стало злым, когда он увидел отдыхающих девчонок: наверное, он только что получил от полковника головомойку за их опоздание. Берпинг слегка заикался, и, когда злился, это становилось особенно заметным.
– Смирр-на! В д-две шеренги становись! По порядку номеров рас-счит-тайсь!
Утренняя прогулка закончилась. Военная дисциплина вступала в свои права.
Над стрельбищем щелкали выстрелы, совсем не страшно, как новогодние китайские хлопушки. От стрельбы холостыми патронами в школьном зале шуму было больше. В воздухе стоял противный железисто-пороховой запах.
Стрельбище уходило вниз покатым зеленым амфитеатром. В его высшей точке, как полководец на поле боя, сидел на стуле полковник Косов – коренастый и горбоносый, в суконном кителе японского образца.
Долго стояли в строю на солнцепеке. Лёльке хотелось пить, но протянуть руку к фляжке с холодным чаем – не рискнула.
– Смирна! Равнение направа!
Полковник Косов, прихрамывая на левую ногу, с грозным видом двинулся от командного пункта к строю. Лёлька замечала, что хромота его увеличивается в зависимости от обстоятельств. На торжественных смотрах и парадах он волочил ногу сильнее, чем в школьном коридоре.
Косов служил у японцев, числился в армии Маньчжоуго, имел верховую лошадь, серую низкорослую полукровку, но все-таки – лошадь, как у японских офицеров. Девчонки видели, как ее привязывал к решетке школьных ворот китаец-ординарец. И по примеру подлинных японских офицеров он заставлял этого ординарца бежать за лошадью пешком, с желтым полковничьим портфелем под мышкой. Полковник ведал всей русской военной подготовкой. Еще выше – над ним – японцы из Кёвакая и Военной миссии…
Рапорт полковнику отдавал корнет Гордиенко. Лёлька смотрела на него, вытянувшегося перед строем с саблей на боку, в своих рыжих сапогах со шпорами, и руки ее делались длинными и неловкими, одно спасение – приходилось держать их в положении «смирно». А Гордиенко, занятый службой, вообще, кажется, не подозревал о ее существовании!
Весь четвертый «Б» класс – влюблен в Гордиенко, и Лёлька – тоже. Она даже посвятила ему что-то вроде стихов:
Во дворе возле школы,
Там, где ветер веселый
Мимоходом качнул дубы,
Повстречались с тобой мы,
Выдавал ты обоймы
Для учебной, в мишень, стрельбы…
(Никаких дубов на школьном дворе не было. Был старый вяз, по которому мальчишки лазили на крышу физического кабинета, как по лестнице.)
Стрелять Лёльке пришлось в первой четверке. Сначала вызвали добровольцев. Никто, конечно, не вызвался. Девчонки нерешительно переминались. Разгневанный полковник велел начинать с правого фланга. Лёлька – самая длинная, ходит в правофланговых и попала в первую очередь. Она была даже рада – скорей отделаться, все равно избежать этого нельзя!
…Лёлька старательно прижимает приклад винтовки к щеке, как учил на уроке инструктор. Поверхность приклада теплая от солнца, полированная, как у обеденного стола дома.
Громадные щиты мишеней на зелени земляного вала выглядят такими маленькими, что поймать их на мушку просто невозможно. Спокойно целиться Лёльке мешает присутствие Гордиенко: он видит ее пыльные брюки и растрепанные косы – на левой развязалась синяя лента, а завязать уже некогда!
– Лежа, по мишеням – огонь! – настигает команда.
Лёлька зажмуривает оба глаза и спускает курок. Приклад мягко толкает в плечо (совсем не так больно, как предупреждал инструктор!). На мгновение уши глохнут, и – все кончено.
Лёлька открывает глаза, видит над собой ярко-голубое небо, с одним белым облачком, ярко-зеленые холмы и белые заплаты мишеней, которые теперь не кажутся такими маленькими.
Присутствие Гордиенко почему-то перестает мешать Лёльке. Она ложится поудобнее и ловит мушкой черную точку в центре мишени. В обойме еще четыре патрона.
…День учебной стрельбы проходил медленно и бездумно, как воскресный день за Сунгари. Свободные от стрельбы девчонки сидели в траве и завтракали. Лёлька принесла котлеты из чумизной каши, Нинка – кусочки обжаренной бобовой туфы и хлеб, сыпучий от кукурузы. Настоящий белый хлеб в классе носит на завтраки только Ира. (Белый хлеб выпекается для начальников из Бюро эмигрантов [4]4
Бюро эмигрантов(сокр. БРЭМа) – административно-политическое объединение русских эмигрантов в оккупированной японцами Маньчжурии.
[Закрыть]. Возможно, Ирин папа имеет к ним какое-то отношение?)
Около трех часов дня Лёльку поставили на пост ограждения за стрельбищем. После всех церемоний, сопутствующих смене караула, она осталась одна за земляным валом у поворота пыльной дороги. Было очень тихо, только выстрелы слабо долетали сюда с полигона. Шевелилась трава, и над самым ухом качались легкие зеленые ветки. Лёлька стояла с винтовкой наперевес и была полна сознания выполняемого долга.
Особенно она ощутила это, когда на дороге показался штатский японец на велосипеде, в очках и шляпе. Лёлька сделала шаг вперед и загородила ему дорогу винтовкой. Вид у нее был, наверное, внушительный, потому что тот спешился и спросил что-то по-своему. Лёлька только сурово мотнула головой. Японец был вынужден отступить перед вооруженной силой и покорно завернул велосипед в обратную сторону. А Лёлька испытала чувство морального удовлетворения и торжества.
Она терпеть не может японцев – вообще всех! Потому что их так униженно боятся взрослые.
Японцы запретили в городе американские танцы, потому что они, видите ли, воюют с Америкой! И всех русских заставили кланяться: «Поклон в сторону резиденции императора Ниппон! Поклон в сторону храма богини Аматэрасу». Поклон нужно совершать точно под углом в сорок пять градусов. В прошлом году, когда они учились еще в одной школе с мальчишками, на утренней молитве полковник Косов ходил по рядам и толкал концом своего кавалерийского стека в спины ребят, вероятно, плохо знающих геометрию… Потом мальчишек отделили. Японцы все чего-то перетасовывают школы, и взрослые ворчат: «Хотят оставить русских детей неграмотными!» Считают всех низшими существами, за исключением двух наций, разумеется – ниппонской и германской!
И еще – японцы ввели военный строй!
Военный строй для девочек – безобразие, как говорит бабушка. Неприлично ползать по земле перед мужчинами, в брюках! И вообще – война чисто мужское дело. В этом бабушка твердо убеждена.
Полковник Косов, естественно, другого мнения: «Вы должны быть готовы к началу военных действий!» (С кем будут военные действия, полковник умалчивал, но само собой подразумевалось, что это могла быть только Советская Россия. Война с Америкой уже шла где-то далеко на островах и пока обходилась без Лёлькиного участия!)
А самой Лёльке военный строй даже правится, особенно когда они маршируют под духовой оркестр по городу и когда при этом присутствует корнет Гордиенко!
Гордненко привел к ним на урок сам полковник, взамен переведенного к мальчишкам инструктора Бернинга. Они были построены в верхнем зале. Солнце из окон, высоченных и зарешеченных, било в глаза, девчонки крутились в строю и жмурились, а полковник кричал на них, чтобы стояли смирно. Проходили ружейные приемы, и Гордиенко выполнял все почтительно и точно – вскидывал винтовку «на караул» и щелкал каблуками.
Он стоял на фоне окна, очень прямой и подтянутый – серьезные серые глаза, мужественность и благородство – совсем как Болконский из «Войны и мира», и Лёлька смотрела на него с восторгом, потому что нашла наконец своего героя! Взрослые, окружающие ее, были ужасно озабочены пайками, подметками и прочими негероическими вещами, и Лёлька начинала подозревать, что настоящие герои перевелись где-то во времена адмирала Колчака.
Правда, один «герой» возник на харбинском горизонте в тридцать девятом – Натаров, убитый под Номонханом [5]5
Номонхан – Халхин-Гол в японском наименовании.
[Закрыть]. Японцы объявили его «героем» потому, что был приказ отойти, а он остался. Взрослые возмущались потихоньку, что японцы сами смотались, а русских поставили под удар, и загубили парня, и так далее… Он убит в бою с теми самыми большевиками, от которых взрослые постоянно собираются освобождать Россию, и лежит похороненный в соборном сквере – на фотографии под крестом – мальчик с пухлыми губами, в погонах русских воинских отрядов.
Теперь эти отряды называются Асано (по фамилии главного, руководящего ими японца), или Сунгари Вторая – по месторасположению. Со Второй Сунгари и приезжают к пим в школу сверкающие шпорами инструктора. Вначале – Бернинг, вредный был какой-то, и хорошо, что его перевели к мальчишкам в Пятую школу на Телинской! Правда, он и там показал себя: когда мальчишки первого мая, шутки ради, разорвали красную тряпку для мытья доски и нацепили себе бантами на гимнастерки, он выстроил всех в коридоре и отхлестал но щекам – за «большевистскую пропаганду» (а вообще, такое в школе не принято – это японско-асановские замашки!).
…«Занесло тебя снегом, Россия…» – поют на именинах под гитару взрослые. Бабушка тоскует о белых березках и Мариинском театре. У дедушки над кроватью висит его старая сабля, как символ русской боевой доблести. И все они живут на чужбине, потому что в России – большевики. Далекая, потерянная и угнетенная Россия. И теперь только от Лёлькиного поколения зависит вернуть ее (если взрослые не смогли сделать этого в свое время) и от Гордиенко, с его корнетскими звездочками, в частности…
…Лёлька все стояла на посту за стрельбищем, и это уже надоело ей порядком, потому что ничего интересного больше не происходило.
Кёвакайка съезжала на глаза, и она сняла ее и повесила на соседнюю ветку, как на вешалку. И винтовку тоже неплохо бы прислонить куда-нибудь в сторонку, но на такое она не решалась – все-таки на посту!
Она стояла и думала о своем герое и прозевала, когда он сам оказался перед ней. Он шел разводящим – снимать посты, и Лёлька не успела сообразить, что она должна делать сейчас со своей винтовкой – держать ее наперевес или приставить к ноге? Она стояла растерянная и жалкая, наверное, до слез расстроенная, что оказалась не на высоте перед пим. А про свою кёвакайку на ветке вообще забыла.
– Почему без головного убора? – строго спросил Гордиенко. И Лёлька похолодела: попадет ей за нарушение!
– Голову напечет, – сказал Гордиенко.
И это получилось у него так просто, не по-военному, что она вся прониклась к нему теплом и благодарностью. Она летела по пятам за ним от поста к посту по траве и по кочкам, не замечая ничего, заполненная светом летнего дня и радостью – без причины…
Домой четвертые классы возвращались около шести вечера.
Лёлька тащила на плече винтовку и все сбивалась с ноги.
Снова шли кукурузным полем, только теперь оно выглядело другим в оранжевом вечернем освещении. Лица были потными, руки грязными.
Во дворе Дома инвалидов полковник разрешил сделать привал. Стекла второго этажа светились отраженным закатным огнем, в окна выглядывали испуганные эмигрантские старушки в серых приютских халатах.
Девчонки сломали строй и кинулись к помпе. Зеленая чугунная ручка двигалась тяжело, качать было трудно, и Гордиенко вызвался помочь. Хотя это не положено ему по чину. Или просто жалко стало их, перемазанных, суетящихся у тугой помпы, смешных в мешковатых казенных штанах, с косичками и бантами?
Сильная студеная струя с шумом обрушилась в котелки и кружки. Лёлька мыла руки и обтирала ладонями лицо. На Гордиенко она боялась поднять глаза, чтобы он ни о чем не догадался! Она была почти полностью счастлива, если не считать стертой пятки. Пятка болела и нарушала Лёлькино лирическое настроение.
Когда строй вышел на Старо-Харбинское шоссе, небо над городом было густо-лиловым. Тоненько позванивая, прошел по Церковной трамвай. На углу в китайской лавочке загорелась тусклая лампочка. Девчонки спотыкались. Винтовки давили плечи.
– Песню! – скомандовал полковник.
Лёлька не заметила, кто первый начал эту песню. Песня была незнакомая, но легко запоминалась. Там говорилось о девушке Катюше, которая «выходила на берег крутой». Лёльке песня понравилась, и сразу стало легче идти. Странно, почему она прежде ее не слыхала?
Внезапно, как гром, обрушился на строй голос полковника. Лёлька заметила: бешеным стало его лицо, и покраснела шея над тугим воротником.
– Отставить! Прекратить! – кричал полковник.
Песня как бы заглохла, а потом снова с конца колонны вырвался голосок Нинки Иванцовой (Нинка – маленькая, в классе сидит на первой парте, а в строю марширует в хвосте):
Пусть он землю сбережет родную,
А любовь Катюша сбережет!..
Теперь до Лёльки стало доходить, что это за песня: советская… Ну, конечно! Иначе ее не запрещал бы полковник! Но откуда ее знает Пинка? Или это та самая, что девчонки переписывали себе в тетрадки после вечерники с мальчишками из Пятой школы? (Говорили – Юрка Старицин поймал по радио из Хабаровска.) А Лёлька не писала – принципиально, потому что – советская.
По тротуару шли прохожие. Мелко процокали деревянными гета две японки в серо-синих кимоно. Проехал взвод японской кавалерии. И Лёльке стало весело и жутко, словно она бежала по краешку льдины и вот-вот могла оборваться: подумать только – песня «с той стороны» – в надменные эти, ничего не понимающие лица! Когда за одну строчку ее, найденную в доме, могут забрать в подвалы жандармерии! А они идут с ней по городу, японцам наперекор! И это, оказывается, особое и ни с чем не сравнимое чувство, никогда прежде Лёлькой не испытанное…
И вместе с тем песня – советская…
В школе говорили: «советские зверства». В соборе служили панихиды по «невинно умученному» цесаревичу Алексею. У бабушки большевики сожгли хутор… Как же она, Лёлька, может идти с их песней!
«…Пусть он землю сбережет родную…» Боже мой, почему от слов этих у нее становятся мокрыми глаза и что-то странно перехватывает горло?!
Гордиенко шел рядом со строем, молча печатая шаг по асфальту. Губы его были плотно сжаты, а глаза смотрели напряженно. Или он тоже в чем-то таком разбирался? Два военных инструктора, Бернинг и Грохотов, отстали и шли сзади по тротуару, словно они к происходящему не имели никакого отношения. Только полковник бесновался, багровый в гневе (или в страхе, что ему нагорит от японцев?).
Голова колонны подходила к зданию Северо-Маньчжурского университета. Здесь нужно было сдать винтовки.
День учебной стрельбы заканчивался.
Книга первая
Год сорок пятый
1. Харбин
Город стоял у большой реки, желтой, медленной и широкой. Заросли ивы на островах. Горячие пески пляжей.
Под фермами железнодорожного моста маячили морщинистые паруса шаланд. Раскрашенные лодки-плоскодонки держались цепями за камни крутой набережной. На береговом бульваре высился ресторан в виде русского терема с японским названием «Конкотей».
По-маньчжурски река называлась Сунгари, русские, начинавшие строить этот город, так и записали на своих картах. Китайцы, заселявшие этот край, называли ее по-своему: «Сун-хуа цзен». Япопцы, которые теперь хозяйничали в Маньчжурии, тоже переименовали по-своему – Сё-ка-ко…
Итак, река называлась Сунгари, город у желтой реки – Харбин. И все в этом городе было вперемешку – русское, китайское, японское, как в театральной кладовой; где стоят рядом декорации спектаклей из разных эпох и стран.
Медленно ухал колокол на колокольне Благовещенской церкви, ему отвечали другие – с Иверской и кафедрального собора. На паперти крестились старушки в старомодных шляпках. А мимо бежал рикша в матерчатых туфлях. За спиной его покачивался в коляске японец – защитный френч, роговые очки.
Напротив улицы, где жила Лёлька, на железнодорожных путях, китайцы грузили платформы с лесом. Их было очень много, этих китайцев в синих бумажных куртках. Когда поднимали наверх тяжелое бревно, они тянули заунывную песню с ударением на последнем слоге. Слов было не разобрать, только висел в воздухе однообразный натужный припев: эй-яо-хэй, хэй-яо-хэй!
Когда Лёлька по утрам бежала в школу по Маньчжурскому проспекту, она обгоняла больших и маленьких школьников-япончат. Их было очень много, с черными челочками и нарядными ранцами за плечами. С годами, как грибов из-под земли, их становилось все больше на этой улице. А улица была совсем русская. Кирпичные дома с высокими окнами. Булыжная мостовая. Старые тополя на Бульварном.
Город строили русские. Это было очень давно, в эпоху бабушкиной молодости. Бабушка любит рассказывать о своей молодости. Сейчас она больная, всегда сидит дома, и, кроме Лёльки, ее некому слушать. Правда, она часто повторяет одно и то же. Тогда Лёлька пытается сбежать или делает вид, что ей нужно готовить уроки.
Чаще всего бабушка вспоминает Россию. Особенно, когда по радио играют вальс «На сопках Маньчжурии», модный в пору ее молодости. Бабушка начинает вытирать платком глаза и что-нибудь рассказывать.
С бабушкиных слов Россия представляется Лёльке зеленым хутором на Украине, с липовой аллеей и деревянным старым домом, где было много комнат и собак разных пород и мастей. Бабушка приезжала туда летом на каникулы. В доме танцевали, собирали вишни с высоких деревьев и ездили к соседям ряжеными на святках. Потом бабушка выросла, половину парка продали и вырубили, а бабушке сделал предложение ветеринарный врач Логинов. Она вышла замуж и уехала за ним в эту Маньчжурию, потому что его назначили сюда на службу полковым врачом.
Дедушкин полк назывался Заамурской Стражей и охранял КВЖД, или Китайско-Восточную железную дорогу, которую как раз тогда строили через Маньчжурию русские. Русские арепдовали у Китая какую-то «полосу отчуждения» на девяпосто девять лет.
Строил КВЖД второй Лёлькин дед – Савчук. И в Маньчжурию он приехал, когда еще не было никаких железных дорог – пароходом из Одессы, вокруг Азии, Он шел пешком с изыскательской партией от Владивостока до Мулина, а потом работал на линии дорожным мастером. Тогда еще китайцы ходили с косами, тигры запросто встречались в сопках (а до Лёлькиных дней только и дошло название – «Тигровая падь» под Шитоухэдзы), и хунхузы нападали на «линию» (совсем – как черкесы во времена Лермонтова на Кавказе). Почему-то им не правилось, что русские строят железную дорогу.
Хунхузов помнит даже Лёлькин папа – конечно, он был тогда маленьким, но хорошо запомнил, потому что ему здорово попало из-за них от деда. Папа бегал с мальчишками в деревню смотреть, как китайские солдаты казнят пойманных хунхузов, а затем пооторвал головы всем сестриным куклам. Конечно, ему попало – за кукол и за то, что бегал смотреть.
А мама родилась в военном городке под Куаньчэнцзы, где стоял полк дедушки Логинова. Когда полк перевели в Харбин, города не было еще фактически – только вокзал, серый с полукруглыми окнами, да бревенчатый собор на верхушке пустого зеленого холма.
Собор этот рубили где-то на севере России, русские плотники резали деревянные кружева и подгоняли бревна. Потом перевезли в Маньчжурию и поставили на середине будущей площади. Так и остался он – русский до последнего гвоздя – у чужой китайской реки.
А город только намечался – пунктирами улиц. Правда, КВЖД жила и свистела паровозами: станция Старый Харбин, и на ней – казармы дедушкиного полка.
За покупками бабушка ездила на Пристань на извозчике. Это, конечно, от Старого Харбина далековато, но там была уже Китайская улица и первые магазины. Китайская улица почти без изменений дошла до Лёлькиных дней – прямая полоса неба над кирпичными фасадами, медные поручни перед стеклами витрин. И спуск к Сунгари, как обрыв, вот отчего – Пристань.
В остальном – Харбин бабушкиной молодости не похож на Харбин Лёлькин. Военные парады в царские дни на Соборной площади, денщики, раздувающие голенищами сапог самовары на крылечках офицерских казенных квартир. Балы в гарнизонном собрании – и бабушкины платья (до полу, тонюсенькая талия), шляпы со страусовыми перьями… Все это было задолго до того, как дедушка вместе с полком уехал на германскую войну.
Дедушка воевал в Галиции, а бабушка с мамой жили в Харбине в Миллеровских казармах и ждали его с фронта. Он приехал раненый в отпуск, и как раз в это время в России случилась революция и в Харбине тоже – солдаты стали ходить по улицам без погон, а железнодорожники надели красные банты. Потом в России началась гражданская война, граница перекрылась, и дедушка насовсем остался в Харбине работать фельдшером на городском ветеринарном пункте.
Бабушкин хутор в революцию сожгли крестьяне, а теперь, говорят, там – глушь и запустение.
Бархатные лоскутки от бабушкиных платьев давно износили Лёлькины куклы, а страусовые перья еще лежали в круглой шляпной коробке, и мама доставала их, когда собиралась идти с папой на маскарад. Лёлька была еще совсем маленькая, и ей очень правились перья – белые, как ветки деревьев зимой у них в садике. («Когда вырасту, тоже буду ходить на маскарады».) Но когда Лёлька выросла, маскарадов в городе не было. В городе были японцы.
Японцы захватили Маньчжурию в тридцать втором, и день входа их в Харбин Лёлька помнит уже совсем самостоятельно. В замороженном окне – небо алое, то ли от заката, то ли от пожара, и гулкие удары где-то далеко, от которых чуть позванивали стекла. В столовой был накрыт стол – ждали гостей, но почему-то никто не пришел, и бабушка ходила вокруг стола в парадном бежевом платье с брошкой и расстроенно говорила:
– Что же это? Ну что же это?
Папа лежал на кушетке и читал Лёльке сказку Пушкина о золотой рыбке, когда в комнату вошла мама.
– Бегут, ты видишь, бегут… – и голос у нее был не такой, как всегда.
– Кто бежит? – сначала не понял папа, а потом долго искал туфли под кушеткой.
А дальше Лёльку несли закутанную в платок поверх шубки, но почему-то не улицей, а через соседние дворы. Было темно, и непонятные удары ухали уже совсем близко. Но Лёльке только хотелось спать, и было жаль недочитанной сказки.
Потом, кажется, был чужой дом, много взрослых и незнакомый остриженный мальчик, спящий на кровати. На спинке кровати торчали блестящие шары, Лёльке хотелось поиграть ими, но ей не позволили, напоили чаем с молоком и заставили спать. Лёлька спала, и что было дальше – не знает.
И только позднее, когда опять стало тихо и они все были дома, мама все сердилась на папу: зачем это он подобрал на улице брошенную китайцами винтовку.
– Ты хочешь, чтобы у пас в доме нашли оружие? Еще неизвестно, как на это посмотрят японцы!
В конце концов папа послушался, пошел и выбросил ее в поло за Саманным городком.
И еще Лёлька помнит, как прилетал японский аэроплан и сбрасывал на город летучки. Цветные бумажные квадратики плавали в небе и медленно оседали за соседними крышами. Одна такая, ярко-розовая, залетела в садик, где гуляла Лёлька, на середину черного февральского сугроба. Лёлька потопталась в своих коротких ботиках, но достать не смогла – мама не велела лазить в снег.
Листовку, только белую, принес с улицы папа. И все в доме читали ее и обсуждали. Японцы призывали русских не волноваться – они никому ничего плохого не сделают, и на три часа дня такого-то числа назначается их торжественная встреча. Мама с папой были тогда еще молодыми и побежали на Старо-Харбинское шоссе, а Лёльку не взяли. Лёлька хныкала, ей тоже хотелось посмотреть, как японцы будут идти с ружьями и под музыку. Так и пропустила она это историческое событие!
А потом долго-долго ничего не менялось: папа ходил на службу в свою строительную контору, на масленицу пекли блины и только на Большом проспекте повесили над штабом новый флаг: на белом фоне – красный круг – солнце.
Когда Лёлька так подросла, что доставала до средней перекладины садовой калитки, уезжали в Россию кавежедековцы (те, которые советскоподданные). Они грузились в красные товарные вагоны на платформе, как раз напротив дедушкиного дома, и Лёлька влезала на перекладину и вытягивала шею – посмотреть.
А дед Савчук не уехал тогда со всеми, хотя он-то как раз – старый кавежедековец. Был такой момент в двадцать четвертом, когда всем на Дороге предложили брать подданство – советское или китайское. Дед Савчук с папой взяли китайское. Позднее, когда стало совсем плохо при японцах, дед Савчук поехал к папиным братьям в Австралию. Братья выписывали туда папу, маму и Лёльку. Папа долго колебался: ехать – не ехать, а когда, наконец, собрался, японцы напали на американцев в Жемчужной гавани, и плыть через океан стало страшно – из-за подводных лодок.
Японцы напали на американцев в декабре сорок первого и очень ликовали по этому поводу.
Уроки отменили, и все школы повели в «Модерн» на кинохронику.
…Японцы в касках тащили свои пушки через мокрые джунгли.
…Англичане, в коротких шортах, с поднятыми руками, выходили на улицы Сингапура.
Половину кадров прокручивали по два раза, и у Лёльки заболела голова.
Сингапур японцы переименовали в Сёнан. Они вообще любили все переименовывать: Маньчжурия у них называлась теперь – государство Маньчжоудиго, и во главе его они поставили императора Пу И – совсем молодой, в очках, последний отпрыск династии, правда, уже свергнутой однажды революцией в девятьсот одиннадцатом. Пу И написал манифест о вечной дружбе с народом Ниппон, и его зачитывали (обязательно в белых перчатках) в школе на торжественных церемониях.
Японцы всё воевали. Они уже подбирались к Филиппинским островам.
– Вот жмут! – сказал папа.
И в газете «Харбинское время» только и было, что о малайской войне да еще о военных действиях на западе: «…доблестные германские войска занимают улицы Сталинграда…» И на снимках – немецкие солдаты в касках, бегущие на фойе горящих развалин.
Бабушку малайская война не интересовала, зато она очень переживала, что на ее Украине – немцы! А дедушка сердито сопел в усы – видимо, ему это тоже не правилось. То, что в России большевики, было фактом устоявшимся, хотя и нежелательным, но то что немцы – немыслимо!!
Папа рассказывал: он сидел в ресторане на Пристани, а рядом сидела компания из немецкой колонии и веселилась. И вдруг они запели: «Волга, Волга, мать родная, Волга немецкая река…» И тогда русские шоферы, которые тоже оказались там за соседним столом, не выдержали, и получилась буквально «битва на Волге». Шоферов забрала жандармерия, и японцы извинялись перед союзниками за таких невыдержанных русских эмигрантов. Папа очень радовался, что немцам крепко досталось в том ресторане, а про настоящие события на Западе – помалкивал. Потому что вслух говорить о таких вещах опасно – для жизни!..
Потом малайская война застопорилась. И тогда японцы придумали «камикадзе». Это ужасно жестоко, с Лёлькиной точки зрения, – живые люди, в начиненных взрывчаткой самолетиках, брошенные на американские авиаматки!..
– Допрыгались, – сказал дедушка, но сказал это очень тихо – громко говорить о японцах стало тоже опасно.
Видимо, японцам не из чего было уже строить самолеты, потому что даже медные дверные ручки велено было сдавать для фронта. Папа прошелся с отверткой по квартире, ручки отвинтил, но сдать не сдал, а припрятал. И еще – был приказ – сажать касторку в каждом саду, а потом сдавать ее семена. Оказалось, она тоже нужна для самолетов! Касторка росла бурно, и дедушка долго дергал ее из земли и поминал японские порядки.








