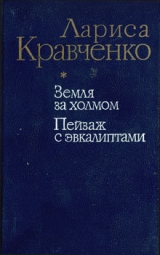
Текст книги "Земля за холмом"
Автор книги: Лариса Кравченко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Оказалось, Боба, опытный краевед, по рассеянности завел их в обратную сторону – за шесть перевалов! Хотя огни станции, как горсточка горячих углей в долине, могли быть ему прекрасным ориентиром! Ночью были заморозки, и у него даже спичек для костра не оказалось! Травы поседели, и девчонки буквально обморозили голые коленки.
Зато каким великолепным был рассвет в горах и какие рекордно-крупные ландыши привезли они в город под вечер! Пострадавшие чувствовали себя героями и дня два на переменках «давали интервью» всем желающим: как мы заблудились! А Боба сказал: что особенного? По существу, его сбила с толку одна из в никуда идущих японских дорог.
Все кончилось хорошо, как в кинофильме. Однако что-то беспокоило Лёльку подсознательно: он не так сделал – Юрка! Неправильно было – уехать всем до единого и бросить их без еды и без денег на чужой станции! Тем более: никто не знал тогда – а если беда случилась ночью в сопках? Они могли потерять человека. Кто-то должен был остаться – сам Юрка, по крайней мере.
И эта растерянность его на Маоэршаньском перроне, прикрытая резкостью, снижала его в глазах ее невольно.
Он не прав – Юрка! Пока он не понял этого, и значит, ее – Лёлькина – обязанность помочь ему увидеть это! Она не должна молчать и так все оставить, хотя он и друг ее. Именно потому, что друг!
Она должна пересилить в себе личное отношение и написать статью о нетоварищеском поступке товарища Старицина – лучше всего прямо в журнал «Советская молодежь»!
Лёлька писала статью долго, урывками на лекциях, с трудом и болью, но все-таки писала, потому что видела в этом долг свой перед Организацией. И потом она принесла ее в Комитет редактору Лазарю.
Лазарь – пришел в восторг от Лёлькиной принципиальности. Статью обсуждали на редколлегии в Юркином присутствии, Юрка сидел на углу стола, угнетенно кусал ноготь на указательном пальце и не смотрел в Лёлькину сторону. Лёлька страдала, а Лазарь сиял через свои круглые роговые очки:
– Ты – молодец, Савчук! Мы должны воспитывать нашу молодежь! Как мы должны воспитывать? На примерах! Это ж у тебя – ценный материал нашего роста в рядах Организации! Постановка вопроса у тебя правильная…
Юрке поручили на редколлегии нарисовать заголовок для клише: крупные буквы «товарищ» на фоне изломанных сопок и большой вопросительный знак, хотя ему, наверное, не очень приятно было делать это для разгромной на самого себя статьи.
Юрка все-таки не вполне сознательно воспринял критику: всю дорогу от Комитета он шел рядом с Лёлькой надутый, а потом свернул к Новогороднему клубу: «Пока, товарищ Савчук!»
Опять надвигалась практика. Лёлька оставалась в городе на станциях Узла. А Юрка умчался в Хайлар на Дистанцию пути и с Лёлькой не простился – видимо, не мог пережить критику.
А Лёлька уговаривала себя: хорошо, что Юрка уезжает, и скорей бы, и наконец-то!.. Потому что нужно ей одной подумать в тишине, что он за человек, – разобраться! Что-то подозрительно много стала думать она о нем последнее время – с прошлым летом по сравнению. Тогда он носился на мостах на Второй Сунгари, и вообще она о ном не помнила, пока Нипка не спросила ее на скамейке стадиона: «Тебе нравится Юрка?»
Папа уехал на стройку на Западную линию. Мама устроилась учительницей на школьную спортплощадку. Дома – одна бабушка, потому что дедушка тоже работает на Дороге – фельдшером ветеринарным, на товарном дворе, как раз там, где на практике – Лёлька. Дедушка проверяет скот, поступающий на погрузку, а Лёлька изучает работу станции.
Станция Харбип-Центральпый. Пути разветвленные. Песок между шпалами, знойный, как на пляже; пока идешь из Восточного парка в Южный, можно обгореть запросто. Рельсы – яркие, глазам больно. Горячий воздух над станцией шевелится, как марево. Составы на путях, коридоры составов с углем, черным, блестящим на гранях, и лесом – желтые толстые стволы в шершавой коре – запах смолы, таежный запах лета.
Составы, лязгающие автосцепкой, и работяги-паровозы маневровые на своих четырехколесных парах, пыхтящие, словно от жары, от пота лоснящиеся паровозы. Лёлька относится к ним недоверчиво и с опаской, когда они проскакивают мимо на стрелках. (На японских паровозах прежде стоял сигнальный колокол рядом с сухопарником и звонил всю дорогу, пока идет паровоз по станции – хоть не наедет! Только бабушка все не могла привыкнуть к паровозному звону и крестилась: что-то сегодня рано к вечерне звонят!)
Товарный двор. Арбы на двух колесах, правда, осовремененных старыми покрышками от грузовиков, лошаденки, лохматые «монголки» с боками, потертыми бренчащей сбруей. Пакгаузы – пыльные и прохладные, как погреба, – вот где можно отсидеться и передохнуть в тени на рампе от разгоряченной станции! И платформа «Высоко-воинская» – та самая историческая платформа перед Лёлькиными окнами, с которой уезжали кавежедековцы на заре Лёлькиного детства, и японцы грузились в спешке перед капитуляцией, и Мишины танки стояли перед отправкой на запад. Лёлька ходит теперь по высокой этой платформе с чувством хозяйки станции: мы – на практике, и мы – будущие инженеры, и это – наша станция Харбин-Центральный, и наша Дорога! И как это, оказывается, здорово – ощущать участие свое в движении ее!
Сверху с платформы Лёльке виден дедушкин дом: крыша оцинкованного железа в зелени вязов и сад – кусты вишневые, даже издали красные, плотно усаженные ягодой, из которой бабушка варит варенье.
Юрка приехал неожиданно. Лёлька соскучиться не успела и никаких выводов о нем не сделала. Какие тут выводы – приехал!
Только пришла со станции, обкатилась холодной водой под крапом и нацелилась бежать в Чуринский клуб на «Встречу на Эльбе» и тут услышала: он идет, еще где-то на углу Соборной, и поет свою последнюю, коронную: «Две пригоршни цвета белых вишен бросил ветер под ноги тебе!..»
Все отпало само собой: Юркина провинность перед Организацией. Он осознал, если пришел. Как давно она не говорила с Юркой!
«Встреча на Эльбе» отменилась, Лёлька потащила Юрку в сад – кормить вишнями, а сама не ела, она смотрела, как ест он, она только ходила за Юркой и спрашивала: ну, как там практика, и как – Хайлар, и почему ты приехал? Юрка сплевывал косточки в траву и докладывал.
Практика – ничего особенного. Хайлар – пыльный – периферия! И все еще развороченный той первой бомбежкой сорок пятого – пустые коробки зданий и арматура, торчащая из глыб бетона. И доты под Хайларом – помнишь – пояс японской оборонительной линии? Это ж целый подземный город, и все там осталось, как было после боев, – каски лежат вперемешку японские и советские, и он чуть не подорвался там на старой гранате!
Юрка привез Лёльке стреляную гильзу от автомата – темную и заплесневевшую, Лёлька понесла ее в комнату и поставила на письменный стол у чернильницы.
Юрка захлебывался от восторга – какие там мировые ребята в Хайдаре, с которыми он лазил по этим дотам! И, вообще-то, он приехал в Харбин не просто так, от безделья, а в Комитет и завтра уезжает снова, потому что ему поручено подготовить создание Организации на периферии!
Юрка вырос на вершок в собственных глазах от боевого задания и в Лёлькиных тоже, разумеется.
Они сидели в темноте на камешках у калитки, смотрели на освещенную прожекторами станцию Харбин-Центральный и обсуждали, как Юрка собирается это делать – создавать Организацию.
Лёлька сунула Юрке в карман совсем новый карандаш. Потом Юрка будет говорить, что он как раз пригодился ему в вагоне:
«Поезд качает. Над Хинганом – ночь, – будет писать в путевой корреспонденции Юрка. – Завтра – экзамен для молодежи Хайлара и для меня…»
«Звезды на карте!» – напишет потом очерк Лёлька.
Огромная карта будет висеть в фойе Совклуба на Третьей союзной конференции в пятьдесят первом: синие жилочки рек, пунктиры КЧЖД и красными лампочками вспыхивающие звезды, там где действуют уже группы ССМ – Хайлар, Мукден, Муданьцзян. И Трехреченские поселки со смешными названиями: Щучье и Попирай… Расправляет крылья Организация – ступенька к Родине…
5. Исключение
В мае пятьдесят первого Лёлька вернулась в Харбин со своей последней, преддипломной, практики. В Харбине стояла сухая прохладная весна, а там, откуда приехали они всем курсом – десять девчат и один парень, – настоящее лето, юг, город Дальний.
Собственно говоря, это была ненастоящая практика, а так – поездка, подаренная им на прощанье институтом. Механизация грузовой работы: портальные краны на высоких ногах, железные челюсти грейферов и эстакады в Ганьчинцзы – в море убегали по рельсам вагонетки, переворачивались над бункером, и уголь сыпался прямо в трюмы океанских судов! Ничего похожего в Харбине не было, и нужно было рассмотреть все хорошенько, а потом применить в дипломном проекте.
Жили девчата в общежитии для советских командированных. Прямо под Лёлькиным окном росла туя, жесткая и резная. Ночью, когда через площадь пролетали машины, тень от нее, странно увеличенная, двигалась на беленой стене над кроватью. И это было замечательно – туя и грозди глициний в парках, кривые японские сосенки на скалах и сам город – солнце и застекленные здания (сорок лет, с девятьсот пятого, перестраивали этот русский город на радость себе, в своем стиле, японцы – порт Дальний – форпост Японии на материке!)
Два белых маяка далеко в море, как ворота порта, чайки над заливом и брызги пены прямо Лёльке в лицо, когда стоит она на носу моторки, идущей из Ганьчинцзы. Море Лёлькиного детства: «Прощай, свободная стихия!», и деловое море у причалов, в радужных разводах масла, солнечными зайчиками лежащее на красных носах кораблей!
Но самое главное – в городе стоит Армия! Та самая советская Армия, что ушла из Харбина в сорок шестом, а здесь она осталась еще, и весь город полон военных. Девчата метались невыспавшиеся и между своей «механизацией» и свиданиями у клуба «Локомотив». Даже Ирину, замужнюю и высокомерную Ирину, пригласил в Интурист на танцы морской офицер, даже Лёлька – суровый общественный деятель, бродила вечером по асфальту с неизвестным моряком Васей.
Небо было розовым от огней большого города, пароходы гудели в порту, пахло морем и акациями, и ленточки на бескозырке раздувал ветер. И билет его комсомольский, скромную серую книжечку, держала она на ладони с благоговением – Комсомол – самое светлое и святое, высший недостижимый идеал!
А рядом был Порт-Артур, от японцев освобожденный, где испытала она первое чувство Родины! Девчата ездили туда на выходной с железнодорожниками, потеряли их и ходили по городу, смешавшись с экскурсией летчиков, которые все казались синеглазыми от своих голубых околышков. Потом рассеялись – сбор у автобуса, в шесть. И Лёлька помчалась по улице Порт-Артурской сама – попрощаться! – на башню на сопке Перепелиной, похожую на патрон (японцами построенную как памятник своей победы над Россией в девятьсот пятом).
С высоты были видны бухта и внешний рейд, где стояла некогда русская эскадра, а теперь – советские суда, мыс Тигровый хвост, Электрический утес, где служил Борейко, и домик Вари Белой – крыша грибком, меж двух пирамидальных тополей. А главное – Порт-Артур сегодняшний, – моряки в форме на белых и зеленых, взбегающих в гору улочках. Почти – русская земля. Как в тех городах России, что она не видала еще…
Юрка встретил Лёльку на вокзале и тащил до дому ее чемодан. Лёлька, конечно, трещала о своих путешествиях. Но Юрка оборвал ее на разбеге и сообщил деловым тоном, чтобы показать, что не ради нее, Лёльки, пришел он на вокзал, а для дела исключительно.
– У меня новость. Нас направляют на работу в редакцию. В «Русское слово».
– Кого это «нас» и кто направляет? И как же дипломный?
– Тебя и меня, конечно! А дипломный должны успеть сделать параллельно. Лазарь сказал: назавтра нас вызывают на прием в консульство, к Андрианову. Там все узнаешь.
Ну, если в консульство, да еще если сказал Лазарь, Лелька не может не пойти! Консульство – высшее руководство от лица Родины, а Лазарь – непосредственно – от лица Организации.
Лазарь упорно растит из Лёльки, по его выражению – «молодой печатный кадр».
– Чтоб ты была завтра в десять утра в школе на Казачьей! – говорит ей Лазарь, и Лёлька идет в своей деловой тужурке и с блокнотом журналистским в руке в ту самую розовую школу и в тот самый зал, где сидели интернированные советские в сорок пятом. А теперь здесь опять просто школа, и первый красный галстук повязывается торжественно перед строем на лпнейке, и ребячьи ладошки вскинуты над головой в салюте – «всегда готов!» У Лёльки в горле щекочет от волнения, словно она опять стала маленькой и это ее саму принимают в юнаки (юные активисты).
– Я достал вам пропуска на трибуну печати! – радуется Лазарь накануне первого октября сорок девятого – исторический день основания Китайской Народной Республики.
Желтые листья и красные фонари на ветру. Барабаны, толстые красные китайские барабаны, бьющие по всему городу спозаранку. Митинг в Парке Героев – все поле во флагах – целые километры флагов над синей толпой.
И Лёлька с Юркой выше всех на трибуне. Мэр города, товарищ Жао Бин, тут же рядом говорит в микрофон, протягивая вперед над толпой руку.
Государственный флаг поднят – пять желтых звезд на красном фоне. Выстрелы из пушек и гимн, перекрывающий выстрелы, потому что поет его вся площадь во флагах.
И ребята из ССМ стоят там внизу в интернациональных колоннах – под руки китаец и русский через одного. Красные ленты через плечо с белыми иероглифами: «Чжунго» [25]25
«Чжунго» – государство Китай.
[Закрыть]. Лёлька должна смотреть на это все и запомнить, чтобы потом записать – для журнала, как свидетель Истории…
Лёльке правится ее почетная роль – журналиста. На все пленумы, куда и попасть-то может не каждый, а только кому положено, Лёлька проходит запросто – печать!
В сентябре сорок девятого мимо Харбина в Пекин проезжала советская делегация – в том числе тот самый Фадеев, который написал «Молодую гвардию», и тот самый Симонов, стихи которого, с риском для жизни, ловил по радио Юрка. Лёльке очень хотелось поговорить с ними, рассказать: как мы живем и как хотим ехать на Родину. Был митинг на вокзальной площади, через который – не пробиться – даже трибуны не видно! Но Лазарь пробился, вернее, клялся, что проник к самой трибуне, и, когда те спускались с лесенки, сунул-таки в карман самому Фадееву упакованную пачку журналов «Советская молодежь» для ознакомления в дороге! И Симонов тоже прочтет, наверное.
Журнал на сёро-желтой газетной бумаге и – чудо харбинской полиграфии: юнак на фотографии синим цветом, а галстук – красным! («Литературно-художественный и общественно-политический журнал».) Лазарь гордится, что журнал расходится по северо-востоку КНР в тысячах экземпляров (цена одного – пять тысяч юаней) и тем самым стал «фактором сближения молодежи в рядах ССМ!»
После Второй конференции Лазарь ушел на повышение в отдел культуры Общества граждан СССР. У него теперь кабинет и машина в распоряжении. Лазарь ходит в солидном кожаном пальто и в серой шляпе, как консульские командированные, и уже не только журнал «Советская молодежь», но вся печать города, в том числе газета «Русское слово», в его ведении. Не удивительно, что он двигает туда Лёльку с Юркой, для идейного оздоровления редакции.
С невольным трепетом проходила Лелька через те железные ворота с гербами, на улице Главной, на которые в японские времена был направлен прожектор японской жандармерии. Генконсульство СССР – территория его считается советской, и можно вообразить на минуту, что ты уже переехал границу!
Лёлька сидела в кабинете против товарища Андрианова и смотрела на него, мало сказать, с благоговением. Это – не просто человек, это – советский и представитель Родины, да еще такой русоволосый. Одна рука у него – в черной кожаной перчатке. «Потерял на фронте», – потом сказал Лазарь.
Лёлька слушала его, а он объяснял ей очень серьезно, как это надо – идти работать в редакцию, хотя у нее и дипломный проект на подходе… И как важно газетпое слово в этом городе, где столько русских с советскими паспортами, которые ничего, по существу, не знают о Советском Союзе!
Итак, дороги судьбы вновь привели Лёльку в то, угловое, со стеклянной башней здание редакции на Диагональной, откуда позорно сбежала она в сорок пятом, застыдившись расклеивать по городским заборам первые приказы военного коменданта.
Лёльке выделили половину стола, исчерканного предыдущими поколениям«, эмигрантских еще, журналистов. И машинка у них с Юркой общая. Лёлька ожесточенно давит клавиши двумя пальцами, а Юрка договорился, и для него печатает материал – по знакомству – хорошенькая секретарша издателя.
– Ну конечно, – злится Лёлька, – тебе легче!
И вообще Юрке везет: статьи его идут почти без поправок, а Лёлькины!.. Редакторские ножницы крошат их, как капусту, и в конце концов она сама ничего в них не понимает! Не удивительно, что по три раза носит их на утверждение в консульство толстый редакционный курьер Лао Ван!
Оказывается, это совсем не просто – писать в газету. Редакторские ножницы выкраивают из ее статей все, что касается «гнилой лирики», – только производительность труда! И все ругают Лёльку – редактор за корявый текст, читатели – за перевранные фамилии, а издатель – за невыполненные нормы строчек. Хотя, видит бог, она старается и босоножек не жалеет, бегая по мягкому от солнца асфальту на Паровозоремонтный, в Депо и в мастерские «Зенит»!
Лёлька расстраивается, теряет покой и сои, а дипломный проект стоит – на «точке замерзания», и там тоже ругают ее – в институте. Юрке пожаловаться она не может – из самолюбия и потому, что у него все идет гладко.
Юрка строчит свои статьи, руки не отрывая. Юрка сидит напротив на другом конце стола, поднимает голову и смотрит отрешенно мимо нее и сквозь нее в пространство, но странно, нисколько не обижает это отсутствие его Лёльку, – хорошо ей работается, когда он вот так сидит напротив, устремленный в свою статью. Юрка, принадлежащий общему делу, и, следовательно, ей принадлежащий… (И что это – подлинность человеческой дружбы или то самое настоящее, – единственный твой человек на земле?)
А за дверью редакции печатные машины лязгают и выбрасывают свежие газетные листы, про которые принято говорить, что они «пахнут типографской краской». Проходить мимо машин нужно с опаской, как бы они не задели тебя железными граблями. А наверху, в банте, сидят ребята-линотиписты за своими, на громадные пишмашинки похожими, аппаратами, в которых олово плавится внутри где-то, как в адской кухне. Пожилой метранпаж в синем рабочем халате колдует над гранками, втискивая не влезающую в «подвал» Лёлькину статью. И зеленым светом бессонно горит лампа над столом секретаря редакции. Петя Гусев – тоже «молодой печатный кадр» и тоже из райкома ХПИ.
Петя приехал в институт с периферии. Петя упорный и старательный, как все периферийные ребята. На столе у Пети в корзинке – свежие сводки ТАСС и вырезки из «Правды» и «Комсомолки». Можно сказать – весь мир лежит на столе у Пети Гусева, и все-таки отделенный от Харбина, словно стеклянной стенкой. Мир, в котором все что-то меняется постоянно, кипит и плавится, а в Харбин только брызги долетают.
Совсем близко, в сутках езды, идет война в Корее. И когда американские самолеты залетают к пограничным китайским городам, в Харбине пробует голос забытый гудок противовоздушной обороны. Но это бывает редко и не принимается Лёлькой как реальная опасность. Лето в городе. Шоколадные «айскеки» на палочках продают на улицах, Сунгари лежит в золотых пляжах, только загорать некогда – дипломный проект!
Но в Харбин из Кореи вернулись, уезжавшие туда на работу, энкомовские ребята, и у одного так и осталось лицо в шрамах, обожженное напалмом после бомбежки Пхеньяна… Идут мимо Лёлькиного дома через знаменитую погрузочную платформу эшелоны с китайскими добровольцами (синие курточки летом, синие стеганки зимой).
С этими добровольцами Лёлька влипла в служебную неприятность. Она написала заметку о помощи китайцев корейскому фронту, и как-то слова там у нее стояли не в том порядке, и получилось – уже не добровольцы, а вообще Китай воюет…
– Поздравляю вас с первой политической ошибкой, – сказал ей утром Чен-маленький, едва она кинула плащ на вешалку.
Ким-большой и Чен-маленький – корейские друзья. Они сидят за соседним столом в редакции и выпускают книжки на русском языке – «Корея сражается», стихи без рифмы корейских поэтов – гневные и возвышенные строчки. Юрка правит для Чена переводы о фронтовых героях и курит с Кимом в коридоре.
Собственно говоря, в одной комнате с Лёлькой – корейская война, и все-таки воспринимается она через материалы ТАСС – словно это так далеко, что ее лично не касается, хотя рукой подать до пограничной реки Ялуцзян… Беспечность возраста или от бабушки перешедшая подсознательная уверенность, что с Харбином никогда ничего не случится? Слишком долго, наверно, жили русские в этой чужой Азии и привыкли, что вечно воюет она между собой: Гоминдан – с Мао Цзедуном, северные корейцы – с южными. (В ранней юности, в двадцатых годах, когда Лёлькин папа работал на линии на паровозе, на перегоне между Ханьдаохэцзы и Муданьцзяном, он подвозил «на попутных» солдат генерала Чжан Цзолина, а между Муданьцзяном и Мадаоши – генерала У Пейфу – они как раз воевали там в то время. Остановят состав, залезут на крыши и едут, еще и спасибо скажут и те и другие! Папе не все ли равно?)
Редактор отругал Лёльку за узость политического кругозора – и поделом! Лёлька страдала, что у нее ничего не получается, как трудно – работать в газете, тем более что в мире все быстро меняется, не уследишь и не сообразишь!
В мире идет Борьба за Мир. И собираются подписи под Стокгольмским воззванием. Поджигатель войны – Америка. А теперь американцы пытаются применять в Корее бактериологическое оружие, японцами придуманное во времена их власти в Маньчжурии. Опять выплыл на страницы истории, вернее – газет, памятный, страшный разъезд Пинфан под Харбином – отряд № 731. (Боба забрел туда случайно в году сорок восьмом, когда собирал на соседнем китайском кладбище свои черепки. Там еще стояли пустые полуразрушенные здания, внутри выложенные белым кафелем. Все травой заросло, только крыс было видимо-невидимо – потомство тех самых, зараженных. Боба говорил, что долго потом боялся, как бы не заболеть какой-нибудь чумой, но все обошлось).
– Ты была уже на выставке? – спросил Лёльку Петя Гусев. – Вот можно сделать статью о бдительности! (Выставка в городском парке Чжаолина материалов разоблаченной американо-шпионской группы.)
Лёлька на выставку не попала, хотя и пыталась – народу там от самых ворот: толпа – немыслимо! А Петя прошел – от газеты – и все видел: длинный барак из циновок и внутри – фотографии и столы, где хранились разведданные, запчасти к радиоприемникам. Кто мог подумать – такое в их городе!
Петя сидел за столом редактора и ожесточенно шарил по ящикам запропастившееся старое клише, которое он снова собирался тиснуть в номер. А Лёлька сидела напротив за столом с очередной своей, мучительно застрявшей, статьей. Жара была тяжкая – пальцы прилипали к машинке, и мозги таяли, как «айскеки». Улица гудела прямо под окнами, ослепительная летняя улица. Лёлька завесила стекла от солнца старыми пожелтевшими газетами – невозможно работать!
А Юрка был в командировке на Западной линии, в Чжалантунском лагере юнаков. Лёлька ожидала, что он вот-вот приедет и привезет очерк – что-нибудь в своем стиле «Пять дней в лагере на реке Ял». Последнее время Юрка что-то сильно загорелся юнакской работой. Все носился с вожатыми – девочками в белых блузках и красных галстуках, проводил слеты и разучивал с малышами «Взвейтесь кострами, синие ночи».
Лёлька печатала, Петя – искал клише, и вдруг изрек, наверное, ему не терпелось сообщить это кому-либо:
– Меня вчера вызывали на Комиссию в Комитет, и я, конечно, сказал все, что знаю…
Лёльке сразу не дошло до сознания, от жары, может быть, почему в Комитет и какая комиссия?
Петя возмутился: как, она ничего не знает?! Ее тоже, возможно, вызовут, если понадобится! Комиссия по расследованию деятельности райкома ХПИ! А в чем дело? Дело – серьезное! Тут пахнет антикомитетской фракцией!
Петя забрал клише и ушел наверх в типографию. А Лёлька не смогла больше работать: райком ХПИ – это же – Юра Первый (теперь секретарь – по новому уставу) и ее Юрка – член райкома, и даже Сашка, правда, по хозяйственной части! Это же – живое сердце института, и сама она, Лёлька, – жизнь ее в Организации! И что они могли сделать такого преступного, если их деятельность расследует комитетская Комиссия?! А Юрка сидит с малышами в лагере у костра и ничего не знает!
Статья остановилась на середине строчки. Лёлька собрала свои бумаги и помчалась в институт на разведку.
В институте – пустыня: лето, каникулы. Дирекция в отпуске. Райком закрыт. Тогда Лёлька ринулась в Комитет на Мукденскую, 16.
Дом серый, в саду за решеткой железной – кусты сирени, пионы на клумбах. Лестница, по которой сто раз они взбегали с Юркой – к Лазарю на редколлегию. Комитет – родной дом.
В гаду на скамеечках сидели знакомые ребята из XПИ, и у двери кабинета оргсектора – тоже. Лица у всех были кислые, как в приемной к врачу. Лёлька пыталась выяснить, что же все-таки происходит, но ребята не были расположены разговаривать. И из комитетских спросить не у кого – весь состав новый, после Третьей конференции. А Гена Медведев занят в том самом оргсекторе, куда вызывают сейчас институтских ребят.
Наконец Лёлька поймала на лестничной площадке своего – Светика Игнатенко, с пятого курса. Со Светиком она еще в кубики играла в раннем детстве, пока мамы их, приятельницы, пили чай в бабушкиной столовой. Светик стал великим активистом ревизионных комиссий, но отношения у них с Лёлькой сохранились, в намять детства, непринужденные.
– Светик, подожди, ты что-нибудь знаешь?
Светик понял, о чем речь. Он сделал загадочное лицо и стал говорить шепотом:
– Это строго секретно. Я не могу тебе ничего сказать. Мы еще не выяснили некоторых деталей. (Оказывается, Светик как раз в этой комиссии по расследованию). И вообще, – Светик не выдержал тона и заулыбался во всю свою розовую, с оттопыренными, как у тушканчика, ушами, физиономию, – ты знаешь, я никогда не думал, что мне придется быть следователем!
Лёльке почему-то неприятно стало говорить со Светиком, и она отошла в сторону.
Оставалось ждать Юркиного приезда.
Юрка приехал и пришел на работу. И, видимо, что-то уже сообщили ему. Лёлька поняла эго но его вытянувшемуся и пожелтевшему, несмотря на загар, лицу. Юрка молча работал на своем конце стола, и Лёлька не приставала к нему с вопросами, потому что чувствовала сердцем – сейчас нельзя этого делать, и, видимо, ему самому сейчас очень плохо.
– Меня сегодня вызывают на Бюро Комитета на семь вечера, – только и сказал Юрка, а Лёлька подумала: наконец-то все проясняется, и, конечно, это нелепость какая-то – Комитет разберет по справедливости, и все станет на свои места.
Они вместе вышли из редакции, Юрка шел и смотрел вниз, на носки полуботинок.
– Хочешь, я встречу тебя после Комитета, – сказала Лёлька. – Ну, сколько будет идти бюро – часа два, не больше? Я подожду тебя на трамвайной остановке у Чурина. Хочешь? Все будет хорошо, йот увидишь!
– Ладно, – сказал Юрка, – от девяти до половины десятого на остановке у Чурина.
Вечером Лёлька не могла усидеть дома. В доме запустение. Мама тоже увлеклась общественной работой по линии местных отделений Общества совграждан, у мамы теперь свои пленумы и совещания, мамы нет дома, и руки у нее не доходят ни до чего – окна надо вымыть и кухню побелить, а у Лёльки тоже не доходят – свои заботы: редакция, дипломный проект, и теперь эта странная беда с Юркой. Папа на стройке лесозавода в Якэши, и дома один дедушка в двух пустых квартирах и в саду, одуванчиками заросшем. (Бабушка прошлой осенью – умерла. И похоронена на Старом кладбище, где покоятся все старожилы города.)
Дедушка сам жарит баклажаны по бабушкиному рецепту и кормит Лёльку, когда она прибегает, теперь уже рабочий человек, на обед из своей редакции. И это единственное время, за обедом, когда Лёлька может воспитывать дедушку, как говорит дедушка – в советском духе! Дедушка высказывает предположение, что не все так идеально в Советской России, как думает Лёлька, и наверняка там еще разруха, после такой страшной войны тем более, а Лёлька обижается: «Дедушка, ты не понимаешь ничего, какие там сейчас стройки коммунизма!»
Сегодня она молча проглотила дедушкину стряпню и посуду вымыла.
– Скажи маме, что я ушла к Нинке.
Они сидели с Нинкой во дворе на деревянной приступочке у помпы, под черемухой, на которой вечно полно гусениц, серых и колючих, как щетки. Душный, тяжелый какой-то вечер – все Модягоу сидело во дворах на скамеечках и на верандах. Девчонки прыгали по двору в классы. Нинка говорила Лёльке что-то о своих делах, Лёлька почти не слушала ее – думала: Бюро началось – как там Юрка?
– Юрка приехал? – спросила Нинка.
– Приехал.
Больше ничего ей Лёлька не сказала – институтские дела совершенно Нинки не касаются! Тем более, еще неизвестно, что решит Комитет…
Когда часы пробили восемь, ей стало совсем тяжко и страшно, словно что-то случилось непоправимое.
– Ну, я пошла…
– Подожди, сейчас чайник закипит.
– Нет, нет. – Лёлька выскочила на Гоголевскую.
Темнота легла на город, как всегда – сразу, густая и теплая. Огоньки карбидок зажглись на лотках у китайцев. Трамвай подошел, совсем пустой. Стекла были опущены, и ветер от движения надувал голубые шифоновые шторки.
На остановке у Чурина Юрки не было. Значит, еще идет Бюро. Юрка не мог уйти, не дождавшись ее.
На освещенном перекрёстке – народ, видимо, в Чуринском клубе кончился семичасовой киносеанс. Ходят китайские влюбленные пары – одинаковые синие курточки и брюки из синей дабы, матерчатые сумки с книжками через плечо, только у нее – черные тугие косички, у него стрижка бобриком. Ночные бабочки кружатся и бьются в стекла уличных фонарей.
Лёлька не может больше ждать, она пойдет Юрке навстречу, они никак не разминутся – здесь всего три квартала.
На углу Гиринской прошла мимо группа знакомых райкомовских ребят – Юра Первый и другие, мрачные. Юрки среди них не было. Лёлька не спросила, чем кончилось бюро, – зачем? Она сейчас увидит Юрку и все узнает.
На Мукденской, сквозь резную решетку, сквозь темный сад, просвечивали комитетские окна. На втором этаже у первого секретаря тоже горел свет. Юрка наверняка здесь. Он просто задержался. Она подождет его в саду. Мало ли по какому вопросу мог он задержаться в Комитете?.. Она знает здесь по соседству подходящую скамейку.








