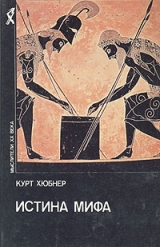
Текст книги "Истина мифа"
Автор книги: Курт Хюбнер
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 39 страниц)
В наши дни политические программы вообще обозначаются как «идеологические». Под политической идеологией понимается более или менее свободная и ясная система основоположений, которые определяют направления политических действий. Обыденное словоупотребление связывает с этим отчасти представление о вере или об интересе. Если идеология опирается на веру (говорят, например, о вере в социализм), то последняя, конечно, основательно отличается от религиозной веры. Для религиозно верующего его вера дана благодаря божеству, для идеологически верующего, напротив, его вера коренится только в человеке и его истории. Идеологическая вера понимается поэтому как секуляризированная, профанная вера. Если, однако, идеология опирается на интерес, тогда ее основоположения и ведущая линия являются лишь предлогом. Если, например, религию считают лишь идеологией наряду с прочими, тогда часто видят в ней лишь орудие, с помощью которого одна группа или класс оглупляет другие, для того чтобы лучше угнетать их («опиум для народа»).
На что же опирается идеологическая вера? Так как она, будучи секуляризированной, не может взывать к божественному озарению, милости и тому подобному, то есть к тому, что обычно обозначается в целом как "lumen supranaturale", то она ищет своего оправдания в "lumen naturale", следовательно, в апелляции к человеческому разуму. Идеологическая вера в конечном счете является верой в разум, верой в разумную очевидность его основоположений. Это происходит даже тогда, когда она, как, например, в движении хиппи, требует освобождения иррационального, чувств, инстинктов и сексуальных потребностей от так называемого рационального насилия. Ибо в этом, как и в других проявлениях нового руссоизма, такое освобождение мыслится как произведение истинного Просвещения, следовательно, как произведение истинного разума в противоположность псевдоразуму, который, сковывая жизненный порыв, якобы навязывает мрачную тиранию и таким образом противоречит свободе и человеческому достоинству.
Именно потому, что со словом "идеология" сегодня ассоциируется секуляризированная вера или скрытый интерес, оно, как правило, употребляется в негативном смысле. Поэтому с утверждением типа "это – идеология" большинство людей связывает "критику идеологии" – не менее излюбленное в наши дни выражение.
Здесь примечательно то, что те, которые упражняются в такой критике, в большинстве своем имеют в виду научную или по крайней мере согласованную с наукой критику. Они пытаются показать ложность притязаний идеологии на соответствие lumen naturale, либо опровергая эту идеологию научными средствами, либо подчеркивая ее неспособность удовлетворять рациональным требованиям логической последовательности или эмпирической проверяемости. Даже сам интерес к идеологии объясняется научно, например с помощью психологии, глубинной психологии, экономики или социологии. Таким образом, даже те, например, кто считает идеологическую науку "буржуазной наукой", полагают возможным защищать истинную, а именно так называемую "критическую науку".
Подобное употребление слова "критика идеологии", однако, обнажает одновременно и другие стороны употребления слова "идеология". Поскольку в критическом смысле под идеологией понимают "псевдонауку", то ее приверженцам , очевидно, приписывают по меньшей мере стремление к научности, пусть хотя бы в смысле науки, альтернативной по отношению к институциализированной; если же последняя разоблачается как носительница скрытых интересов, то ее носителям приписывается состояние духа, характерное для нашего секуляризированного, лишенного веры времени. Такая возвращающая нас в XVIII столетие эпоха'привела к представлению о мире, лишенном трансцендентного начала. Следствием этого стал чисто психологический образ человека, из которого вытекают все его профанные интересы,
содержат ли они волю к власти, к обладанию, компенсацию несбывшихся надежд или что-то подобное этому.
Значит, в известном смысле верно, что в политической идеологии видят сегодня форму религиозного суррогата, замену религии чем-то сходным с наукой или псевдонаукой.
Теперь же именно эта заимствованная из науки и оттого довольно сухая форма идеологии заставляет ее приверженцев пользоваться мифом для более успешной мобилизации чувств и инстинктов масс. Подобно тому как Дестют де Траси ввел выражение "идеология" для основополагающего знания, которое должно быть выведено из абсолютно достоверных научных данных, и как Наполеон первым указал на сопутствующую этому критику идеологии тем, что он эту мнимую достоверность обозначил как лишь идеологическую, то есть не соответствующую истине, так Ж. Сорель впервые заговорил о "мифе", имея в виду суммирование усилий для придания идеологии революционного размаха. Миф, писал он, должен "отобразить" "тенденции", "инстинкты", "ожидания"218 народа или партии, что позволяет наглядно изобразить219 все эти страхи и стремления в виде "целостности". При этом не играет никакой роли, что миф в частностях выглядит "фантастично" и "в значительной мере отклоняется от реальности"; дело заключается лишь в том, чтобы воздействовать на человеческую фантазию220. Влияние Сореля едва ли можно переоценить; ни одно из глобальных социалистических и фашистских массовых движений нашего столетия не осталось без его влияния.
Сорель, следовательно, является одним из духовных отцов тех политических псевдомифов, которые так сильно повлияли на историю XX столетия. К. Керени и М. Элиаде, правда, указывали на то, что эти псевдомифы лишь потому принимались политиками и имели такой успех, что они шли, по-видимому, навстречу "мифической потребности" человека. Керени поэтому говорит, что подлинный и неподлинный миф, несмотря ни на что, едины в том, что они "имеют какое-то отношение к реальности"221. "Если бы они вообще не имели отношения к реальности, то неподлинные мифы, которые все же должны служить одной цели, были бы непригодны, а... подлинные мифы были бы "вымыслом, химерой, игрой воображения" и тем не менее принимались за истину таким одаренным народом, как греки!"222
Неподлинные мифы, исходя из всего вышесказанного, имеют поэтому отношение к реальности, ибо они пробуждают глубоко укоренившиеся формы представлений, даже если они при этом наполняются новым содержанием и поэтому рассматриваются отстраненно. На это намекает М. Элиаде, когда он замечает, что "...определенные аспекты и функции мифического мышления являются конститутивными для человека"223. Политические демагоги используют такой подлинный мифический потенциал сообразно со своими целями и даже злоупотребляют им. Они умело пробуждают определенные ассоциации, затрагивающие все еще
живые, хоть и вытесняемые формы опыта. Это воздействие тем сильнее и доходит тем скорее до взрыва, чем сильнее было вытеснение, искавшее лишь клапан, чтобы вздохнуть полной грудью. Например, Гитлер мастерски смог употребить глубоко уязвленный Версальским договором миф о рейхе и нации в качестве движителя своих расистских и антисемитских псевдомифов.
Так в наши дни присутствие подлинных мифов парадоксальным образом проявляется еще в тех псевдомифах, которые заимствуют из них свою силу и уже привели к самым ужасным преступлениям. Именно воспоминание об этих преступлениях по-прежнему затрудняет предметное обсуждение темы "миф и политика" и склоняет многих дискредитировать все мифическое в целом. Однако во имя религии и науки также свершались злодеяния, что не дает нам права отбросить по этой причине их целиком и полностью. Вспомните о преследовании иноверцев или о создании и применении атомной бомбы во второй мировой войне.
Борясь с псевдомифами, не следует забывать, что существуют также подлинные мифы, которые все еще образуют одно из оснований современных национальных государств и соответствуют самым глубинным человеческим чувствам. До сих пор неясно, как можно от них полностью отказаться, не разрушая современного политического ландшафта. Как мы видели, неверно утверждать, что только всеохватывающая демифологизация политической жизни указывает путь к истине, свободе и миру. Чем сильнее блекнет ошибочная вера в-то, что всякий миф является простой видимостью и ведет к политической катастрофе, тем вернее будут продолжать действовать и в будущем те мифы, политическое значение которых несокрушимо и в созданных по демократическому образцу странах*.
Перевод выполнен при участии А. Кузьмина.
ГЛАВА XXVI Теоретические проблемы вытеснения мифа
Как показано в XVII—XXI главах, мы не в состоянии ответить привычным нам способом на вопрос о причинах вытеснения мифа наукой, утверждая, будто это является результатом развивающегося опыта, усовершенствованной семантики и логики, большей оперативной эффективности и нормативного преимущества, то есть в целом более высокой рациональности науки. Опыт, на который опирается наука, не более обоснован и интерсубъективно убедителен, чем опыт, на который опирается миф. Опыт науки относится лишь к иным предметам и содержаниям (см. гл. XVIII). Семантика науки не отличается точностью, когда она применяется не в научных целях. Хотя научная логика и более экстенсивна и ее оперативность действеннее, но связано это с особенными предметами и целями, которые выбирает наука, что и обеспечивает высокую эффективность и широту ее применения (см. гл. XIX, XX). В конечном счете невозможно рационально обосновать, почему следует предпочесть содержание, предметы и цели науки содержанию, предметам и целям мифа, поскольку такое требование носит нормативный характер, а нормы не могут быть обоснованы абсолютным образом (см. гл. XXI). Но если из этого следует, что наука не рациональнее мифа, то неизбежно возникает вопрос о принципиальной объяснимости перехода от мифического к научному мышлению.
Речь идет о принципиальном вопросе, а потому мы не можем пренебречь обстоятельством, что перед нами сложный и длительный исторический процесс, состоящий из множества отдельных стадий. Мы ограничимся анализом того, какую форму могут иметь объяснения данного процесса.
1. Вытеснение мифа наукой. Попытка научного объяснения а) Внеисторические объясненияЕсли мы ограничиваемся естественными, социальными, историческими науками, а также психологией, что мы и делали и будем продолжать делать далее, исходя из приведенных в главе XVI оснований, то можно сказать, что научное объяснение осуществляется с помощью либо законов природы, либо исторических правил. В первом случае речь идет о внеисторических, а во втором – об исторических объяснениях.
Предположим, что построено следующее заключение: существует психолого-антропологическое, а значит, природно-закономерное стремление человека ко все более полному овладению миром в соответствии со своими целями. Тогда научная онтология в противовес онтологии мифа представляет собой прогресс в овладении мира человеком. Так, от мифа человек переходит к науке.
Широко распространенное убеждение и в самом деле гласило, что истолкование истории может быть сведено в духе оптимистической уверенности в научном прогрессе именно к подобной формуле. Наука, как говорится, одаряет человека в целом лучшей долей, ведет к неуклонному прогрессу. Она якобы делает возможным исполнение древней мечты всего человечества, удовлетворяет стремление к благосостоянию, обуздывая силы природы, утихомиривает наш страх перед ними. Наука укрепляет надежды на более долгую жизнь, делает приятнее и удобнее нашу жизнь в целом. Неизмеримо возросшие познания утоляют специфически человеческую жажду знаний. Поэтому мы взираем с известным сочувствием и снисходительностью на человека предшествующих эпох, лишенного наслаждения современными достижениями, которые, без сомнения, осчастливили бы его так же, как и нас.
Лежащая в основе этого идея счастья характеризуется полностью секуляризованной, даже "материалистической" фундаментальной установкой. (Даже любознательность духа, выявляющаяся в рамках этой идеи, основывается на соответствующих этой установке знаниях.) Речь здесь идет об удовлетворении так называемых "чувственных" потребностей, в то время как нуминозному, то есть "сверхчувственному", не отводится при этом никакой роли. Там, где его еще можно обнаружить, в особенности в сфере личной жизни, оно представляет собой лишь реликт прошлого и потому нетипично для современности.
Если берется в качестве факта, что упомянутая идея издавна лелеялась человечеством, но лишь научно-техническая эпоха создала предпосылки ее поступательного осуществления, то это оказывается эмпирической гипотезой, не выдерживающей проверки. Данная эмпирическая гипотеза, касающаяся психолого-антропологических черт сущности человека, то есть естественного закона, управляющего человеческими влечениями, является ложной, поскольку, как было показано, представления о счастье были подвержены значительным историческим изменениям. Счастье мифологического человека представляло собой ту эвдемонию, которая достигала вершины в божественной эпифании. Для человека средневековья совершенное счастье (beatitude) заключалось в visio dei (лицезрении Бога). В обоих случаях счастье в полном отличии от наших дней не мыслилось вне созвучия с нуминозным началом, вне его познания, присутствия и содействия.
Попытка заменить в научно-техническую эпоху идею счастья чисто теоретическим стремлением к всеобъемлющей
рациональности, которым отмечена современная наука, была бы безуспешной. Ведь сама эта рациональность, как мы видели, имеет предпосылкой интерес к полностью секуляризованной конструкции предмета, а следовательно, ту практическую идею счастья, которая и должна была быть заменена.
Подведем итоги: существует природно-закономерное влечение человека, из которого вытекают цели науки, а наука может рассматриваться в качестве результата усовершенствования мифа. Первое неверно, ибо этому противоречит принципиальное и однозначное отличие мифа от науки, то есть одно и то же влечение никогда не было свойственно им обоим, пусть даже и в порядке последовательности. Второе неверно, ибо об усовершенствовании можно говорить лишь при условии наличия сопоставимых целей, что не имеет места.
Эти возражения касаются всякой возможной попытки объяснить историческое решение в пользу науки законами природы, то есть внеисторически. Ведь подобное объяснение всегда должно состоять в выведении определенных, на деле лишь исторически постигаемых содержаний из мнимой психо-антропологической конституции человека и в сравнении науки и мифа на основе этой конституции.
б) Исторические объяснения
Как же обстоит дело с возможностью построения искомого объяснения с помощью исторических правил?
В данном случае историческую систему правил науки, то есть онтологию, на которой она основывается в качестве условия научного опыта, следовало бы выводить из другой подобной системы правил. Во II главе приведены относящиеся к этому примеры, показывающие, как это происходит. Так, лежащий в основе картезианской онтологии принцип исключительно рационально действующего творца мира возникает из определенной метафизики, направленной против философии номинализма, а основополагающая для ньютоновской физики аксиома об абсолютном пространстве сводится к метафизике Мора и Барроу.
Сама по себе демонстрация подобных рациональных положений дел еще не является достаточным объяснением их реальности. Следует поставить вопрос, почему Декарт принимает именно упомянутую метафизику, над которой надстраивалось все остальное; почему идеи Мора и Барроу произвели на Ньютона такое впечатление, что он сделал их исходным пунктом своих размышлений?
Или же взять философию досократиков в качестве примера одной из стадий развития от мифа к науке. Коротко их появление можно было бы объяснить следующим образом. Досократики жили еще в системе мифических правил. Но уже существовали и другие, чуждые мифу правила, в соответствии с которыми все сущее должно быть подчинено единственному принципу. Если мы учтем в дополнение и другие правила, то как следствие
получаем различные попытки выбрать из мифических архе одну из стихий (воду, огонь, воздух и т. д.) и сделать ее этим искомым принципом.
Но и при помощи этого объяснения, служащего моделью перехода от мифа к науке вообще, все же не объясняется, почему досократики следовали принципу единства и другим правилам. В чем секрет их очарования? Почему в жертву этим принципам был принесен мифический политеизм? Почему состоялся этот переход к системе правил, которые в свою очередь послужили предпосылкой для вывода объясняемой здесь системы, а именно философии досократиков? Чтобы стать исторической реальностью, этот вывод должен был стать предметом стремления.
Может, стоило бы попытаться и это стремление, в свою очередь, вывести из определенной системы норм и целей, тем самым объясняя его. Но и тогда лежащая перед нами проблема была бы лишь переведена в другую сферу, так как в этом случае следовало бы спросить, почему была признана в качестве предпосылки используемая при объяснении система норм.
Законы природы суть нечто принудительное, чему должно следовать. Исторические правила, напротив, лишены принудительной силы и, как показано в IV главе, суть нечто, лишенное необходимости. Это такие исторические возможности, которые в принципе могут быть отвергнуты. Поэтому при объяснении с помощью исторических правил предполагается наличие определенных правил, но сами они не объясняются и даже вообще не могут быть объяснены, ибо эти правила являются чем-то случайным. Объяснения этого рода там, где они вообще возможны, помогают тем не менее реконструировать рациональность решений, то есть следствия из исторических правил. Однако обязательность этих правил возникает на дорациональной основе. Это дорациональное связано с тем обстоятельством, что вообще происходит принятие применяющихся исторических правил, причем "дорациональное", как это показано в главе XII, означает следующее: оно невыводимо, а значит, не подлежит дальнейшему объяснению.
Здесь следует напомнить, что решение в пользу чего-то рационального, в сущности, является дорациональным и не должно смешиваться с ним. Оно есть нечто нормативное, потому столь же мало объяснимо, как и выбор между добром и злом. Далее будет разграничена область дорационального и иррационального, к чему я вскоре намерен возвратиться. Так, с одной стороны, попытка исторического объяснения и вытеснения смены мифа наукой предпочтительнее неисторического способа объяснения в той степени, в какой оно отказывается от ложных эмпирических гипотез по поводу человеческой сущности. Но и эта попытка обречена на неудачу, ибо невозможно объяснить формирование и признание исторических правил, служащих предпосылкой историческому объяснению224.
в) Комбинированные объяснения
Рассмотрим последнюю возможность, заключающуюся в том, чтобы связать друг с другом исторические правила и законы природы. Итак, мы видели, что законы природы не в состоянии объяснить всеобщее значение исторических правил, хотя в отдельных случаях они помогают постичь некоторую склонность к тем или иным правилам. Так, на основании психологической предрасположенности одни отдают предпочтение материалистическому, другие – идеалистическому способу решения проблем. Но, несмотря на это, не может быть объяснено всеобщее духовное содержание какой-либо эпохи, и даже особенное содержание едва ли может быть выведено. В лучшем случае речь идет о примерных очертаниях этого содержания. Остается достаточно много необъясненного. Что же касается уже упоминаемого иррационального, которое мы часто наблюдаем в действии, то в той степени, в какой решающую роль здесь играют чувства и страсти, оно может быть отчасти объяснено психологически. Но и это иррациональное действует вовсе не как закон природы, так как оно не производит устойчивого содержания, но произвольно вспыхивает и снова затухает в истории. Так, наряду с рассматриваемыми антропологическими, так называемыми общечеловеческими чувствами существуют также чувства специфически исторические, связанные с определенным историческим содержанием, а потому демонстрирующие ту же необъяснимую контингентность. Хотя и возможно эксплицировать психологические законы привычки, инерции и т. п., дающие возможность раз установленным системам правил существовать и далее, но тем не менее сам переход к новым системам, о которомто в первую очередь и идет здесь речь, остается непостижимым.
Все предшествующие рассуждения указывают на то, что такие явления, как вытеснение мифа наукой, в конечном счете принципиально не могут быть объяснены. Мы можем, впрочем, сделать эти явления более понятными благодаря тому, что будем анализировать то множество больших и маленьких шагов, которые привели к науке через переход от мифа к греческой философии, от нее – к христианской религии и далее – к современному стилю мышления. Но как бы много законов природы, исторических правил и рациональных соображений не играло при этом определенную роль, при объяснении каждого отдельного шага мы наталкиваемся на нечто до– или иррациональное, а значит, на далее невыводимые решения, что придает объяснению поверхностный характер.
То, что не объясняется в рамках подразумеваемой здесь эмпирической науки ни с помощью законов природы, ни с помощью исторических правил, в научном смысле представляет собой случайность. Это помогут прояснить некоторые примеры.
Если рушится прочно построенный мост в ходе бури, сопровождающейся землетрясением, то хотя обе эти причины можно свести к каузальным цепям, тем не менее вне каузального объяснения остается одновременность совпадения данных событий. На этом основании говорят: это было случайностью. То же, если мы наблюдаем множество статистических событий, например бросание кости. Если утверждать, что из 120 бросаний выпадает 20 шестерок, то перед нами статистический закон. Но если шестерка выпала и в тридцатый раз, то это не может объясняться никаким законом и является случайным событием.
Правда, ведущие к вытеснению мифа случайные события не покоятся необходимо на пересечении казуальных рядов, не являются обязательно элементами статистического множества событий. Но как для изложенных выше примеров, так и для данных процессов не существует никакого объяснения ни с помощью законов природы, ни с помощью исторических правил. Следовательно, эти процессы следует рассматривать именно как случайные. О случайностях такого рода говорят: "Мне что-то случайно пришло на ум", к примеру новое правило для старой игры. Именно эмпирически-научное понятие объяснения и вынуждает нас сделать этот вывод.






