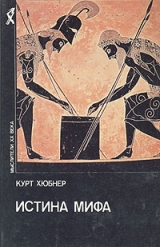
Текст книги "Истина мифа"
Автор книги: Курт Хюбнер
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 39 страниц)
Начинался праздник, как правило, с процессии, целью которой был теменос – чаще всего храм, где обитал бог. Он мог представать культовым изображением или просто присутствовать как место, выделенное в качестве священного. Но концентрация его субстанционального присутствия происходила также с помощью определенных культовых обрядов и ритуалов. К ним относятся не только обряды перехода в теменос, но в качестве введения – греки называли это «катархейн» – обход вокруг алтаря слева направо, то есть, поскольку храм был ориентирован на восток, значит, по движению солнца. На алтаре разжигался огонь, пламя и дым от которого поднимались вверх, обращаясь таким образом к богам, которые господствуют в поднебесье, в заоблачных высотах Олимпа, даже если тот или другой из них присутствует одновременно в этом теменосе. (О том, что здесь нет противоречия, уже достаточно говорилось в предшествующих главах.) Вслед за тем земля и община окроплялись святой водой; так обращались к хтоническим божествам и божествам подземного царства. Право и Лево, Верх и Низ – все это имеет здесь абсолютное значение. С другой стороны, то обстоятельст– г во, что теменос представляется частью пространства со сменными предметами, не играет никакой роли. В качестве мифического пространства он сливается в каждом случае с вечным божеством, которое занимает его и в котором оно полностью растворяется.
3. Роль единства идеального и материального, мифического отношения целого и части, а также мифической субстанции в празднике как жертвенном пиреЖрец, который может быть и старейшиной рода, и военачальником, и царем или какой-либо другой выдающейся личностью, если только это крейттон, то есть человек, в котором можно предположить присутствие божественного меноса, божественного олбоса или чего-то подобного, – итак, жрец призывает бога его истинным именем и вместе с тем приглашает его к жертвенному пиру. Этот призыв повторяется культовым сообществом. Как уже неоднократно подчеркивалось, идеальность имени, произнесенного при определенной сосредоточенности и в ритуальных условиях, означает как раз материальное присутствие им призванного. Теперь под чтение молитв начинается подготовка к убиению жертвенного животного. Эти молитвы устанавливают связь между животным и богом, идеальная мифическая субстанция проникает в материю животного и превращает его в священное жертвенное мясо. Затем после омовения рук, дабы не осквернить святое профанной грязью, жрец состригает шерсть со лба животного и бросает ее в огонь вместе с жертвенным ячменем.
Этим часть, а именно часть животного и часть всего жертвенного ячменя, мифически принимается за целое. Теперь наступает решающий миг. Жрец призывает всех к эвфемии, к благоговейному молчанию255. В нем завершается транссубстантивация жертвенного пира, бог окончательно вступает в событие культа. Затем жрец топором умерщвляет животное. Оно разрезается на части, внутренности проверяются, и отобранные куски мяса сжигаются для божества. Если жертва удалась, вверх поднимается пахучий дым, смешанный с фимиамом, тем самым божество принимает жертву и выражает свое божественное присутствие, так присутствующим передается его обещающая успех близость: они разражаются ликующими криками, ололиге, и восклицают "иеие пайан", "иеие пайан". Кровь жертвы собирается в чашу и выливается на алтарь. Так снова получают свою часть Земля и мир хтонических божеств. Затем начинается жертвенный пир, во время которого съедаются прежде всего "спланхна", внутренности, особенно печень и почки, которые считали средоточием жизни. Вместе с этим съедается хлеб. Далее следовало питейное пиршество. Оно начиналось жертвой питья, "спонде", при которой вино лили на алтарь, что называлось "лейбейн". Подобно тому как перед этим каждый ел жертвенное мясо (пусть даже особые куски оставлялись жрецам), так теперь каждый пьет жертвенное вино.
В произведениях греческого изобразительного искусства и поэзии можно проследить отблеск настроения, царившего во время мифического праздника. Вот только несколько примеров: фриз Парфенона в Афинах, который представляет праздник Панафиней; поэма Вакхилида, которая описывает пылающие алтари, а также жертвенные ароматы, воскуряющиеся над бычьими окороками, и повествует о сладких песнопениях и роскошных пиршествах, наполняющих радостью деревни и города256; красочные изображения жертвоприношений и пиров в "Одиссее"257; а вот даже и пародия на Панафинеи в комедии Аристофана "Женщины в народном собрании", на основе которой Гронбех смог убедительно реконструировать и в высшей степени наглядно описать этот праздник258. "Большие государственные жертвы, – пишет Виламовиц-Моллендорфф, – праздники богов государства с их различными ритуалами, процессиями, которые предполагали активное участие всех, затем церемонии, требовавшие предварительного освящения, ночные праздники, которых было немало, неизменно производили свое глубокое впечатление также и на тех, кто иначе думал о личных богах или соответствующих мифах". И он цитирует Плутарха, который говорит: "Не изобилие вина и жаркого радует нас в празднике, но радостные надежды и вера в присутствие бога, который благосклонен к нам и удовлетворенно принимает заповеданное"259. В. Буркерт замечает, что по описаниям, "на всех организованных мероприятиях праздника царило настроение, подобное определенному аромату, который только и остается от незабываемого переживания и едва ли может быть описан"260.
Жертвенный пир, теоксения, где гостит бог, представляет собой сердце мифического культа. Здесь наияснейшим и непосредственнейшим образом проявляются одновременно мифические отношения части и целого и сущность мифической субстанции. Призывы, молитвы, священные обряды позволяют чувственно ощутить близость бога. Бог присутствует здесь и сейчас. Его эпифания (она могла бы быть увидена, услышана или прочувствована) есть, с одной стороны, только "особое" проявление его "всеобщего" и всеобъемлющего существования, а, с другой стороны, он все-таки тут целиком и полностью. Как тела вблизи сильного электромагнитного поля заряжаются им, так субстанция божества проникает в жертвующих и в жертвенное. В решающий миг все ею, так сказать, наэлектризовано, насквозь пронизано ее "идеально-материальными" флюидами. Но прежде всего божественная сила наполняет мясо жертвенного животного, жертвенный ячмень и вино, и, когда они съедаются культовой общиной, эта сила переходит в них. "Жертвенный пир порождает в участниках "божественное укрепление", – пишет В. Гронбех. – Трапеза перед лицом бога распространяет в народе счастье, благодать и радость. Ее сила исходит от жертвенного животного, священное мясо которого поедается только тогда, когда боги находятся среди людей"261. Таким образом, мифический жертвенный пир является таким же причастием божеству, как и христианская евхаристия, при всех радикальных отличиях между ними в частном и содержательном. С другой стороны, он символизирует также и высшую удаленность божества, если совместная трапеза с богом навсегда исключена из соответствующих основ. Эринии, которые подвергают виновных людей ужаснейшим мукам и толкают их в глубочайшую тьму, говорят поэтому в "Эвменидах" Эсхила о себе, что таков их жребий, "бессмертных, быть далеко; не существует, конечно, никого, кто бы пировал вместе с нами"262. Л. Дойбнер в своей работе "Аттические праздники" пишет: "Есть мясо священного животного значило когдато принимать участие в пиршестве божества, быть с ним связанным совместной трапезой, приобщиться силам благодати, которым оно позволяет изливаться на своих товарищей по обеденному столу: первоначально ели всегда только в святом месте"263. В том же смысле высказывается также П. Штенгель в своей книге "Обычаи жертвоприношения у греков"264. ?. ?. Корнфорт замечает в этой связи: "Ритуальными средствами – едением мяса и питием вина – может быть возобновлено древнее ощущение мистического единства и участия"265. Г. Муррей обобщил первоначальный смысл греческих праздников жертвоприношения следующими словами: "Люди едят мясо и пьют кровь священного животного для того, чтобы в них перешла его мана..."266 В. Буркерт указывает на то, что боги нередко изображались с жертвенной чашей в руке, и объясняет это таким образом: "Бог как бы жертвовал самим собой, или более того: он втянут в заставляющий плыть по течению поток – Давать и Брать
– воплощение замкнутого в себе благочестия"267. Он жертвовал самим собой, поскольку его нуминозная субстанция превращалась в мясо жертвы, которое съедалось, а эта субстанция перетекала из него в людей и через их благочестие и самопожертвование возвращалась снова к нему. В. Буркерт напоминает также о структурных соотношениях между греческим и семитским ритуалами жертвоприношения, отчего их связь с христианской жертвенной трапезой становится еще более очевидной: "...Соединение вкушания пищи, возлияния и сжигания частей жертвенного животного связывает ветхозаветную и греческую жертвенные практики". По-видимому, речь может идти о всеобщих формах мифического культа, о чем свидетельствуют соответствующие находки по всей Европе, относящиеся к бронзовому и железному векам268.
Против такого толкования жертвенного пира выступил У. Ф. Виламовиц-Моллендорфф. Он пишет: "Я хорошо знаю, что древнейшие христиане сравнивали свои обряды причастия с греческими жертвоприношениями, но транссубстантивация или способ проникновения божественной силы в верующих у христиан несравнима с первоначальным смыслом греческих жертвоприношений"269. Он трактует их как "свидетельство уважения"270. В другом месте, однако, он говорит: "Ведь не может же быть забыто, что в священном богослужении воплощаются идеи античного жертвоприношения и как застольной общности бога и человека, и как искупительной жертвы"271. То обстоятельство, что позднее, когда миф сильно деградировал и воплощался уже только в застывших формах, когда он мыслился примерно так, как в диалоге Платона "Евтифрон", в котором над ним смеются, жертвоприношение понималось как "свидетельство уважения", не должно оспариваться. Но транссубстантивация внутри мифа все-таки есть нечто постоянно происходящее: едва ли не все может превращаться во все. Так, стали людьми брошенные Девкалионом и Пиррой камни, Фаэтон и Орион были превращены в звезды, Кадм стал змеем, Дафна – лавровым деревом, Арахна – пауком и Ниоба – камнем. Из богов возникают животные и растения, из людей – боги и т. д. Даже если это может быть отчасти просто "мифологией" и даже если понимается не как мифическая действительность, а как нечто принадлежащее больше поэзии, то вырастает оно все же на априорных фундаментах мифа. Если рассматривать жертвоприношение в данном контексте, тогда становится понятно, что для греков не могло быть странным происходившее при этом наполнение жертвенного животного божественной силой и вместе с тем нуминозной субстанцией, а также идея душевного состояния исполненности божеством, которое является, к примеру, для Виламовица историческим фактом.
Другое возражение на предложенное здесь толкование жертвенного пира можно найти в статье "Жертвоприношение" Энциклопедии античности, с. 618. Оно заключается в указании на то, что теоксения состоит в совместном использовании жертвенного
мяса богом и человеком; но мог ли в таком случае бог, если его сила перешла в мясо, есть некоторым образом сам себя? С другой стороны, в этой статье настоятельно указывается на то, что мясо жертвенного животного было "освящено культовым обрядом", что выражается, в частности, в том, что им не злоупотребляли профанно и в большинстве случаев его не разрешалось есть за пределами святилища272. Но что другое может здесь означать "священное мясо", как не то, что оно исполнено божественной субстанции? Кроме того, неудивительно, что "uni mystica" бога и человека находит свое сильнейшее выражение именно во время общего пира.
Представление о том, что бог вкушает сам себя, никоим образом не является, впрочем, чем-то особенным с позиций истории культуры. Причем необходимо иметь в виду, что речь идет не о чисто "материальном" потреблении, но о восприятии нуминозной субстанции. Так же и Христос вкушал причастие во время Тайной вечери с апостолами, несмотря на то что превратил вино в свою кровь, а хлеб в свое тело. Правда, мы можем заметить, согласно свидетельству Луки (22:18), что он перед своей смертью не стал пить вино вместе со всеми, однако этот отказ Христа пить заповеданное вино (т. е. свою кровь) представляется временным, он может быть снят, когда наступит Царство Божие. В этом эпизоде из Евангелия от Луки отсутствует, кроме того, соответствующее указание на то, что Христос не ел вместе со всеми и хлеб, после того как преломил его (там же, 22:19). Но в Деяниях апостолов (10:41) определенно подтверждается, что после воскресения он ел и пил вместе с апостолами. Что во время жертвенного пира, следовательно, не только апостолы вкушали Христа, но и он вкушал сам себя (как потом это позднее совершается постоянно в ритуале евхаристии помощником священника) – это собственная воля, которая не могла быть осуществлена только в исключительной ситуации.
На формальные связи между христианской евхаристией и античным культом указывал особенно О. Казел. Он пишет: "В своей форме христианская евхаристия пребывает под полным влиянием античных законов, к которым она присоединяет также восточные, особенно иудейские элементы"273. "Так евхаристия становится... символически-драматическим исполнением дела Спасения"274. Что Казел при этом понимает под "символическим", он объясняет в другом месте, где замечает, что "посредством символического ритуала" "снова становится современным древнее событие"275. В конце концов он обобщает результат своего исследования в следующих словах: "Понятия: жертвоприношение, жертвенный пир, торжественное чествование звучат для античного уха вполне конкретно. Ведь каждый античный культ, в том числе и государственный, достигал своей кульминации в общественном акте жертвоприношения. Очень многие жертвоприношения были жертвованием еды и заканчивались поэтому пиршеством. За этим стоит мысль, что прежде всего
преподносят пищу богу, а затем вместе с ним едят божественные кушания. Так смертные становятся сотоварищами божества; божественная сила, которая была усилена в боге едой, устремляется обратно на сотоварищей по пиру; или же общая трапеза объединяет бога и человека так, что люди возносятся до уровня богов. Так алтарь превращается в священный стол, жертвователи являются сотоварищами небожителей по застолью. Это в высшей степени конкретный способ вступить в жизненное содружество и в семью богов посредством наслаждения той же самой едой. Эта конкретность едва л^ не стала еще выше в христианском культе"276.
Подобное слышится везде, где в области метафизики и мистики речь идет о вкушающем самого себя боге. Так, платоновский демиург наслаждается своим собственным произведением; бог Аристотеля занимается только самим собой (себя самое мыслящее мышление); боги Эпикура живут в полнейшей уединенности и блаженнейшем самосозерцании; в символике любви средневековой мистики Христос объединяется с преисполненной им невестой; и даже у Фихте мы находим еще следы такого рода представлений, когда он полагает, что центробежная деятельность абсолютного Я могла бы быть ограничена центростремительной, этим оно могло бы войти в себя самого. Но Гёльдерлин пишет: "... и нуждаются небожители в вещах, а также в героях и людях, иначе в смертных. Так как блаженнейшие себя не ощущают, нужно, пожалуй, если дозволено так это сказать, в божественных именах причастным чувствовать другого, в ком нуждаются они..."277
Но к именам богов может ощущать свое причастие лишь тот, кто "преисполнен бога".
4. Мифическое время и мифический праздникКак уже отмечалось, предметом культового праздника было архе. Примеры, приведенные уже в 1-м разделе данной главы, могут быть теперь дополнены еще следующими.
К празднику Панафиней примыкает Агон – состязание на колесницах, в ходе которого вооруженные воины спрыгивают со своих боевых колесниц, чтобы продолжить состязание бегом. Тем самым воспроизводился миф об Эрехтее, основателе города, который первым проехал на колеснице в одеянии воина. Во время Анфестерий, праздника, посвященного Дионису, в так называемом "Буколионе", Доме Пастуха Быков Агоры, справлялась "священная свадьба" царицы, жены "архонта Басилея", с богом, причем эта свадьба тоже покоилась на архе. В определенном ритуале такого праздника воспроизводились трагические обстоятельства начала культивирования винограда. Люди напились допьяна, когда первый раз попробовали вино и убили при этом Икария, который научился у Диониса выращивать виноград.
С тоски его дочь Эригона повесилась на дереве (последнее воспроизводилось тем, что афинские девушки раскачивались на качелях). По случаю Фесмофорий, которые были посвящены Деметре, бросали в каньоны поросят, которых позднее в разложившемся состоянии снова вытаскивали женщины и клали на алтари. Тем самым воспроизводилась история о том, как свиньи пастуха Евбулея сорвались в пропасть, когда Персефона исчезла в подземном царстве. В Дельфах воспроизводили борьбу Аполлона со змеем, его победу над ним и его искупление. Таким образом, во время едва ли не каждого праздника имело место культовое представление соответствующего архе.
Часто они были непосредственно связаны с призывом бога перед обрядом жертвоприношения: этот призыв имел иногда форму поэмы, "призывающего гимна", который исполнялся под музыкальный аккомпанемент одним певцом или хором278. Нуминозные события представлялись при этом в виде танца. Этот культовый процесс можно особенно ясно представить, прочитав гомеровский гимн 28, который прославляет рождение Афины: мы видим жреца с поднятыми руками, возглашающего начало этой поэмы: "Афину Палладу, доблесную богиню, хочу я воспеть". Затем гимн повествует о том, что Афина родилась из головы Зевса, откуда ее освободил Гефест ударом секиры. Можно увидеть в этом связь с ходом жертвоприношения, при котором ведь тоже что-то рождается, а именно божественная сила, которая вырывается из животного. Дальше гимн сообщает о буйстве земли и буре на море, из-за чего все присутствующие испуганно оцепенели, – намек на рев убиваемого животного, в котором проявляются разбушевавшаяся стихия, и близость бога. Потом вдруг наступает глубокая тишина, "вдруг замирает соленая волна и сияющий сын Гипериона дает остановиться быстрым коням" – это момент эвфемии, которая упоминалась в предыдущем разделе. А затем следует большой ликующий призыв Зевса, "ололиге", которым приветствовалось появление божества. О связи жертвенного пира, пения и танцев Гомер говорит в "Одиссее": "они составляют одно целое"279. Хотя он говорит там только о пире вообще, но для греков пир всегда был одновременно и жертвенным пиром. Далее он подробно описывает, как Алкиной велит послать за поющим под лиру сказителем Демодоком и подготовить одновременно площадку для танцев. Демодок приходит и встает в центре круга, который образован танцорами. Пока Одиссей удивляется их танцу, Демодок начинает свою песнь, которая снова представляет архе, а именно появление "гомерического смеха"280. Существенно в этой связи и то, что гомеровский гекзаметр определялся, по-видимому, известными танцевальными движениями, которые сопровождали его декламацию281. Но благодаря мифическому единству идеального и материального даже один лишь рассказ мифа также может "выколдовать" действительность его истории. Поэтому Ван дер Лев с полным основанием говорит: "Миф есть воспевание в основе, ритуал есть заявление в действии"282. Этому не противоречит и свидетельство Аристотеля, когда он объясняет введение ямбического триметра в трагедию тем, что данная стихотворная форма была согласована с живым словом (Поэтика, 4, 1449а 18), так как речь здесь идет просто о намного более позднем явлении.
Теперь надо уяснить себе, что исполнение и культовое представление архе понималось в смысле мифического восприятия времени как его действительное возвращение. По этому поводу среди исследователей мифа также едва ли существуют различия во мнениях.
"Не существует сценария и спектакля, – пишет Э. Кассирер, – которые лишь исполняет танцор, принимающий участие в мифической драме; но танцор есть бог, он становится богом. Что... происходит в большинстве мистериальных культур – это не голое, представление, подражающее событию, но это – само событие и его непосредственное свершение; это ???????? как реальное и действительное, поскольку насквозь действенное событие"283. Но действенное оно потому, что мифическая субстанция присутствующего в архе божества пронизывает участвующих в драме, наполняет их, и вместе с тем в нее переходит нечто от силы данной субстанции. В этом коренится блаженное чувство жизни, которое она переводит в свое ежедневное существование. И для Кассирера эта идентификация танцора и бога возможна только потому, что в мифе сняты "разделение идеального и материального", "мера непосредственного бытия и. непосредственного значения", "образа и предмета". "Где мы видим отношение чистой "репрезентации", там для мифа имеет место... скорее отношение реальной тождественности; "образ" не представляет "предмет" – он есть предмет... Во всех мифических действованиях существует момент, в котором происходит настоящая транссубстантивация – превращение субъекта этого действия в бога или демона, которого он представляет... Так понятые ритуалы, однако, имеют изначально не "аллегорический", "подражающий" или представляющий, но непременно реальный смысл: они так вплетены в реальность действия, что образуют ее незаменимую составную часть... Это есть всеобщая вера, что на правильном исполнении ритуала покоится дальнейшее продолжение человеческой жизни и даже существование мира"284. Только так необходимо понимать и слова Гомера, когда он говорит о певце, что тот равен богам (????? ??????????) и что единство пира, пения и танца – "прекраснейшее", поскольку благодаря этому каждый достигает "евфросине". Но "евфросине" ценилось также и позднейшими философами как ощущение счастья, которое появляется в опыте божественного и резко отличается от "гедоне", профанного и чувственного удовольствия. Так, Платон говорит в своем "Тимее" о музыке, что она доставляет неразумным "гедоне", а разумным – "евфросине" вследствие располагающегося в ней "подражания божественной гармонии"285; и Аристотель также говорил о способности музыки вызывать "евфросине"286.
Аналогично Кассиреру высказывается также и В. Гронбех: "Святость... пронизывает и наполняет... все: место, людей, вещи и делает эту совокупность божественной. Эта все наполняющая святость составляет предварительное условие того, что люди могут сыграть и "показать" в драме. С полным правом мы можем сказать, что участники играют богов; однако они в состоянии сделать это, только если бог присутствует в них. Это Афина, которая исполняет танец с оружием, это Аглавра, которая несет в Акрополь таинственный ящик... Поэтому, если гимн описывает поход критских мужчин в Дельфы (здесь подразумевается гомеровский гимн 3) после проведенной жертвенной трапезы и попойки, то это не выдуманная картина, наколдованная гимном: Аполлон предводительствовал, с арфой в руке, и они, танцуя, следовали за ним под пение пеана..."287 "Древние времена лежат не далеко в сумерках прошедшего времени, как то лишь, о чем можно вспоминать, как то, что можно использовать, чтобы объяснить современность. Они живо стоят среди участников культа и всегда вновь доказывают свою власть. В священных действиях буквально переживают глубочайшую древность; сказание, которое воспроизводит историю в ее вечном течении, является реалистичным сообщением на сцене о произошедшем... Если мы хотим понять институты греков и уловить их действительный смысл, то мы должны отказаться от нашего разделения жизни на сферы идеального и реального. Сказание представляет собой высший реализм, поскольку праздник выступает высшей реальностью... Таким образом, жертвенные обряды выстраиваются в ряд драм, которые лежат очень далеко от наших представлений о сценическом искусстве... Значение сакральной драмы идентично содержанию, как душа присуща веществу. Зрители не думали о смысле, они видели его"288. "Хор —это танец 12—15 человек, – пишет Г. Небель289, – танец все сильнее вовлекает в круг божественной действительности, в замыкающемся на себя повторении он устраняет текущее и влекущее вперед время, он ломает хребет времени, он приводит к падению стен настоящего. Сам бог танцует танец человеческими телами".
Б. Снелл также указывает на единство представляющего и представляемого, представления и действительности. "Трагедия, – пишет он, – в своем начале была танцем и хоровой песней в честь Диониса, исполняемой певцами, которые наряжались животными и тем самым первоначально превращались в божественную сущность, чтобы вымолить благословение бога; так мифический мир и земная действительность совпадали в продолжительности танца"290. "Сообщается, что ранние хоровые песни. непосредственно представляли мифическое событие"291. Так, в качестве примера можно взять пеан Вакхилида, который рассказывает, что Тесей, после того как вместе с афинскими юношами и девушками выдержал приключение на Крите, станцевал на Делосе так называемый танец журавля и что этот танец воспроизводится каждый год. Таким образом миф становился "современной действительностью"292. До известной степени все это имело силу еще даже во времена Вакхилида, так как заключение его пеана звучит так: "Девушки (из свиты Тесея) ликовали, а юноши около них пели пеан прекрасными голосами. Аполлон Делийский, возрадуй свое сердце песней хора "кеер" и пошли им божественную встречу с благом"293. Здесь, полагает Спелл, сливаются хор Тесея с хором сограждан Вакхилида, "кеер", "песнь мифического хора становится песнью современного хора"294.
Такое слияние современного с прошедшим можно обнаружить также в поэзии Пиндара. В качестве примера могла бы быть приведена первая пифийская ода, которая исполнялась по случаю праздника Зевса в новооснованном Гиероном городе у подножия Этны. Она начинается с околдовывания мира Аполлоновой музыкой. Только титаны, противники основанного кронидами порядка, не могут ее выносить, но они остаются заключенными в Тартаре. Среди них также Тифон, которого Зевс погреб под Сицилией и заключил в Этну. Но изрыгающая огонь ярость титанов все еще пугает живущих там людей. Так битва титанов в этой местности остается современной еще и далее, и тут видны также противостоящие друг другу миры: здесь стихийная сила укрощенных, изгнанных в глубины первоначальных богов, там – "несущие небо столпы" блистающих вечным снегом гор, которым близки боги, очарованные красотой Аполлоновой музыки. От этого мифического образа Пиндар переходит затем неожиданно к своему современнику Гиерону, основателю городов, в котором действует сила Зевса и Аполлона: ведь он одержал победу в пифийских состязаниях. Но в этом властелине обитает также нечто от сущности ландшафта, который он застраивает и над которым господствует; и наконец, уже к троянско'й войне устанавливается связь: как некогда Филоктет, раненый Гиерон принял участие в сражении. Но город, который он основал, будет иметь основной закон, покоящийся на порядках Гилла, сына Геракла. Затем следует ретроспективный взгляд на то, как дорийцы, которым этот закон был дан Гиллом прежде, получили свое государство и стали соседями рожденных в Амиклеях Диоскуров. В конце концов Зевса умолили защитить от врагов этот порядок и накликали большие битвы, в которых они впоследствии успешно оборонялись от персов, этрусков и карфагенян (Саламин, Платеи. Кумы и Гимера). Таким образом, временная последовательность разрушается и сливается в одно божественное настоящее.
Для В. Буркерта в культовых танцах "божественный первообраз и человеческая действительность часто в конечном счете неразрывны", только то, что в мифически-божественном образе имеет длительность, то у людей является кратким кульминационным пунктом, "расцветом юности"295. Таким был пиррихий, танец с оружием, который исполнялся по случаю праздника
Панафиней; это – воспроизведение божественного происхождения Афины, которая, едва появившись из головы Зевса, исполнила этот танец со щитом и копьем296. Сходные связи между мифическим прошлым и современностью В.Буркерт отмечает также и в праздничном агоне, о чем уже было упомянуто ранее; в Олимпии повторяется состязание между Пелопсом и Эномаем; немейские игры продолжали миф об Археморе; матч на Истмосе связан с мифом о Палемоне, а агон в Дельфах демонстрирует, как уже отмечалось, битву Аполлона со змеем. Олимпийские игры В. Буркерт описывает так: "Праздник начинался с жертвоприношения – предваряющего жертвования для Пелопса и богатого жертвования быков для Зевса. Священные части затем клались на алтарь (здесь Буркерт цитирует Филострата), но огонь еще не горел; бегуны находились далеко от стадиона; перед ними стоял жрец, который давал своим факелом сигнал старта. Победитель подносил огонь к освященным частям жертвы... Бег обозначает переход от кровавого "дела" к очистительному огню, от хтонических богов к олимпийским, от Пелопса к Зевсу". Во время некоторых агонов, к примеру при Карнеях, "этот бег является еще большим ритуалом, чем спорт. Необычно переплетается мифом метание диска: сам Аполлон во время такого метания убил своего любимца Гиацинта..."297.
"В качестве всеобщей формулы мы можем сказать, – резюмирует Элиаде, – что тот, кто "живет" мифом, из профанного, хронологического времени вступает в другое время, другое состояние, а именно в "священное время", которое изначально и все-таки может неопределенно часто возобновляться". "... Первая задача мифа состоит в том, чтобы выявить канонические модели для всех человеческих ритуалов и для всех важных видов человеческой деятельности: режима питания или бракосочетания, воспитания, искусства или мудрости..."298 "Житие" мифом представляет вследствие этого подлинно "религиозный" опыт, отличающийся от обычного опыта повседневной жизни. "Религиозность" этого опыта в том, что человек придает новую силу легендарным, возвышенным, важным событиям и вновь становится очевидцем творческих деяний сверхъестественных сил; человек прекращает свое повседневное существование в обычном мире и вступает в просветленный, сияющий мир, который пронизан присутствием сверхъестественного. Речь идет не о празднике воспоминания мифических событий, но об их повторении. Действующие лица мифов становятся участниками сегодняшнего дня, современниками. Это означает также, что человек живет уже не в хронологическом, а в изначальном времени, когда событие случилось впервые... Изведать снова это время, воспроизводить его как можно чаще, быть инструментом драмы божественного произведения, встречать сверхъестественное и изучать снова его творческое учение – это желание, проходящее красной нитью через все ритуальные воспроизведения мифов"299.






