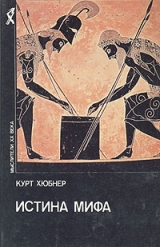
Текст книги "Истина мифа"
Автор книги: Курт Хюбнер
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 39 страниц)
ГЛАВА XIX Рациональность как логическая интерсубъективность в науке и мифе
Интерсубъективное признание выводов, полученных строго логическим путем, может быть гарантированно. Наука в своем стремлении к наибольшей рациональности пытается поэтому придать своим теориям по возможности логическую и тем самым, как мы видели, аксиоматическую и систематическую структуру. Более того, она пытается объединить различные теории в более крупные системы, чтобы в перспективе вывести их все в конце концов из каких-то наиболее общих аксиом. Это связано, очевидно, с распространенной в науке склонностью представлять свой предмет в как можно более математически описываемой форме. Нам ни к чему более подробно рассматривать этот вопрос, поскольку рациональность математики характеризуется прежде всего логической интерсубъективностью. Лишь об этом и пойдет речь в данной главе.
Предшествующее исследование показало, что миф вовсе не лишен логики. Лежащая в его основе онтология построена не менее систематично, чем онтология науки, и каждой части научной онтологии соответствует элемент онтологии мифа (см. ч. II книги). С формальной точки зрения мифическая модель объяснения идентична научной (см. гл. XVII, разд. 1). Наконец, конститутивные посылки мифического опыта, так же как и в науке, опираются в целях обоснования на другие, исторически уже устоявшиеся предпосылки (см. гл. XVII, разд. 6). Тем не менее мифу чужд свойственный науке способ мышления, требующий устанавливать все пронизывающие логические связи и организовывать все по принципу единства. Не в этом ли состоит приписываемый ему недостаток рациональности?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вновь вспомнить о том, что в основе мифа лежит совершенно иное, чем в основе науки, онтологическое понятие реальности. Нуминозные сущности и их архе не могут быть логически построены из отдельных элементов, исходя из определенных принципов, но представляют собой целостные гештальты, несводимые к чему-то иному (см. гл. V, разд. 4 и гл. VI, разд. 3). Хотя они и могут находиться в определенных систематических отношениях, например полярности (диалектика), аналогии, связи общего и частного, иерархического подчинения (см. гл. IX, разд. 2 и 3), но все же одновременно они представляют собой отдельные друг от друга сферы, разные "номены" и области компетенции, в контексте которых всякий общий логический принцип был бы абсурдом, ибо они сосуществуют как выражения различных сил природы и жизни, отчасти в гармонии, отчасти во вражде, но в любом случае обладают нуминозной самостоятельностью, если не выраженными личностными чертами. Не иначе обстоит дело, как мы видели, с пространством и временем, распадающимся на многообразие дискретных пространственно-временных гештальтов и потому невыводимых из какого-то единого отношения (см. гл VII и VIII).
Недостаток сквозной логики в мифе происходит, следовательно, не оттого, что он не способен быть соответственно рациональным, а основан на том, что предмет и реальность, с которыми он имеет дело, не допускают такой логики. Тот же, кто упрекает миф в таких представлениях о реальности, аргументирует не на основе логики – ведь логика не говорит о реальности, – а вновь на основе опыта. Вопрос о том, что более рационально: видеть реальность в логико-систематической форме научных теорий или в живой форме мифа, в форме объемлющего единства или же множественности– тождествен вопросу об источнике большей эмпирической интерсубъективности. Однако при этом мы и в самом деле попадаем в ситуацию, аналогичную описанной в предыдущем разделе. Там мы видели, что упрек в недостаточности семантической интерсубъективности мифа лишь тогда оправдан, когда оспаривается возможность рационального обоснования мифического опыта. А теперь мы устанавливаем, что так же обстоит дело и с упреками в недостатке логики, поскольку о ней можно судить лишь применительно к той реальности, с которой связан миф. А определенное рациональное решение по поводу такой реальности по уже указанным причинам вообще не является возможным. Тем самым как критике семантической неоднозначности, так и критике логики мифа недостает рационального основания. (Другое дело, если бы считалось, что целесообразнее по определенным причинам следовать научным представлениям, а не мифическим. Об этом мы поговорим ниже.)
Однако мифу не только предъявляется претензия в недостатке сквозной логики, но, помимо этого, делается ссылка на то, что противоречия сосуществуют в нем непостижимым для современного человека образом. И все же, вместо того чтобы ничтоже сумняшеся полагать, что раньше люди, очевидно, были неспособны мыслить, было бы лучше подумать о том, как же это вообще могло быть возможно, почему же это никого не беспокоило и что может за этим скрываться.
При этом обнаруживается, что за противоречие многое принимается лишь потому, что оно невольно переносится на мыслительные схемы того мира представлений, который чуть ли не противоположен мифическому. Нелепо, конечно, в свете
современной интерпретации пространства говорить о камнях, находящихся в разных местах и представляющих собой всякий раз центр мира, Омфал; кроме того, если проецировать все, по сегодняшнему обыкновению, на профанное измерение времени, то представление о существовании прошлого в настоящем оказывается абсурдным; с точки зрения современной психологии некое "Я" также не может существовать одновременно в нескольких местах, и т. п. Однако как показало предшествующее исследование, для того, кто придерживается мифической онтологии, это не является абсурдным.
Я вынужден здесь обратиться к еще одному обстоятельству, которое в этой связи особенно часто подчеркивается. Речь идет о причине вариабельности многих мифов. Одна и та же история нередко излагается по-своему в разных регионах. Существуют разные версии рождения Афины, Афродиты и Эрехтея, взаимопротиворечивые изложения мифов о Дионисе и Аполлоне; любая энциклопедия античной мифологии дает многочисленные примеры подобных различий.
Нельзя усомниться в том, что при этом порой возникали серьезные расхождения во мнениях между разными городами, в которых культивировалось одно и то же божество, но, с другой стороны, вовсе не каждый вариант воспринимался всерьез, в особенности когда уже начался процесс перехода от мифа к мифологии. И тем не менее оставалось немало такого, что имело культовое значение и, следовательно, не может быть объяснено только свободой поэтической фантазии, хотя и представляется несовместимым друг с другом.
Но загадка разрешается сразу, как только мы вспомним, что мифы и архе, будучи вечным и священным, должны выражать собой вечно самотождественное и повторяющееся и в то же время могут осуществить эпифанию только путем проникновения в сферу земного и принятия смертного и профанного облика. Едва ли существует такой природный объект, в котором не мог бы проявиться бог, и его нуминозная сущность пребывает актуально во многочисленных местах. Именно поэтому он вместе с тем связан постоянно с определенной ситуацией, существует "здесь и теперь", и это определяет, формирует его. Характерное для мифа неразрывное сплетение "субъективного" и "объективного" вновь выступает на поверхность. Сегодня мы стремимся к избавлению от субъективно-"перспективных" моментов, считается, что "объективность" познающего сознания состоит как раз в их критике. Однако для греков все это многообразие и варианты "субъективного" и "перспективного" являются той самой подлинной "объективностью", вне которой неразличимы и вообще не могут быть даны нуминозные феномены. Если жители Афин, Аркадии, Беотии или Ливии и рассказывали тогда разные истории о рождении Афины, то для них это было выражением "объективного" факта, что каждый из тех городов возникает из субстанции этой богини и тем самым рожден вместе с ней. Но идентичность Афины этим не отрицается, что обусловлено уже не раз обсуждавшимися причинами. Далее, противоречие между, с одной стороны, Афиной и Палладой как разными гештальтами и, с другой – как одной личностью снимается в историческом процессе (а именно в завоевании Афин греками), в котором оба нуминозных гештальта "объективно" сливаются друг с другом. Таким же образом многие противоречия мифов о конкретных богах заканчиваются тем, что этого бога начинает культивировать некое победившее племя, включая его в собственный миф. С точки зрения мифа это является изменением не в сознании, а в рамках самой нуминозной реальности.
Бог, формируемый, с одной стороны, одной сущностью, является вместе с тем в различных формах, обусловленных местом, временем и человеческим участием, и поэтому грекам показалось бы весьма странным, если бы кто-нибудь попытался свести эти формы в их своеобразии к одному носителю, как это произошло позже у логографов и мифографов. Сама реальность мифа полна противоречий, поскольку они, возникая в среде людей, не могут быть сведены лишь к их субъективности и ошибкам, но сами обладают "объективно"-нуминозным значением. (Под этим не имеется в виду, что конкретный миф противоречив в себе, а лишь то, что он выступает в противоречащих друг другу вариантах.) Миф обладает сильной чувствительностью к живой полноте мира, не исчерпываемой никакой мыслью. Его логика и систематика никогда не поднимаются до стремления нанизать все на нить логических дедукций и тем самым достичь единого объяснения на основе одной небольшой группы аксиом. Мифу чужд подобный идеал и "регулятивный принцип", свойственный науке. Это противоречит разворачивающемуся в мифе опыту и познанию, а также и человеческим целям, связанным с ними.
В отличие от Леви-Строса (см. гл. III, разд. 7 и 10) я не усматриваю в мифе более или менее бессознательного кода, служащего диалектическому разрешению логических трудностей, а напротив, – открытое и неприукрашенное признание нелогичности реальности, не подчиняющейся "логическому разуму". Надо напомнить, далее, о том, что и в науке есть такие аспекты реальности, для которых справедливо то же самое. Разве не было бы абсурдом, если бы психолог рассматривал человека как существо, насквозь характеризуемое рациональностью, в силу чего его личность должна быть понята в контексте строго систематической структуры некоей применяемой к нему теории?21
ГЛАВА XX Рациональность как операциональная интерсубъективность в науке и мифе
Предположим, что кто-то предостерегает ребенка от общения с Майером, потому что он хитрая лиса. Ребенок рассуждает так: если кто-то является лисой, то он имеет четыре лапы. Следовательно, у Майера четыре лапы. О том, что ребенок заблуждается, мы знаем только потому, что знакомы с содержанием, то есть с семантикой слова «лиса». Если же, напротив, мы обратим внимание на форму детского вывода, то он вполне корректен, что сразу же видно, если формально представить его приблизительно следующим образом: нечто есть F; если F, то V; следовательно, есть также V.
Рассмотрим сейчас некий узор для вязания. Предположим, что кто-то связал петлю формы А. Но в соответствии с данным узором такая петля всегда ведет к петле В; следовательно, теперь вяжут петлю В. Снова представим это формально: нечто есть А; если А, то В, следовательно, В. Между этим и вышеупомянутым выводом формально нет никакой разницы.
А теперь изменим формулу: "Если А, то В" и напишем: "Если А, то А или В". Это правило могло бы относиться и к выполнению узора для вязания, но могло касаться и самих предложений и значить примерно следующее: "Если предложение А истинно, то предложение "А или В" также истинно". По сравнению с прошлым случаем здесь имеется некоторая разница: измененная формула для вязания выражает некоторую чистую установку, в то время как, напротив, измененная формула предложения "логически очевидна". Если не обращать внимания на содержание, то в обоих случаях мы имеем дело с правилами выполнения фигур и знаков. Это выполнение осуществляется с абсолютной точностью и оказывается бесспорно повторяемым в интерсубъективном смысле. Таким образом, речь здесь идет о некотором случае операциональной интерсубъективности. Каждый, кто знает эти правила, будет в соответствии с ними точно выполнять то, что они позволяют сделать, и мы можем убедиться в корректности его действий через проверку того, что он совершил. И кому нужно точно знать, в какой степени что-то для кого-то "очевидно"?
Системы правил указанного вида называются исчислениями. .Правда, лишь содержательная интерпретация позволяет выяс-
нить, имеем ли мы в данном случае дело с "исчислением" узора для вязания, логическим исчислением или чем-то иным. Та интерсубъективная строгость, которая приписывается логике, заключается в конечном счете лишь в том, что с ней обращаются как с формальным исчислением и поэтому могут использовать ее также и в компьютере. Таким образом, логическая интерсубъективность есть только особая форма операциональной.
В основном в силу этой тесной связи обеих форм интерсубъективности научным теориям может порой придаваться логическая форма, которая не только делает возможным ее схематическое применение, но и позволяет также перенести это применение в ту предметную область, к которой оно относится. Это становится прежде всего ясно применительно к теориям точных естественных наук, которые поэтому особенно пригодны для практического применения в технически-производственной сфере. Для них характерно интерсубъективно ясное, происходящее по правилам обращение со знаками, символами, сигналами и вообще элементарными физическими предметами. Именно на этом основывается сегодняшнее массовое производство. ·
Исчисления обозначенного типа из-за отчетливого вида их формальных структур имеют одновременно премущество, позволяющее легко устанавливать их связь с другими структурами и продолжать развивать их с помощью вариаций и комбинаций (структурное тождество и различие, выводимость одного из другого и пр.). Операционально-логическое построение научных и применяемых в технике теорий ведет к поиску и изобретению новых возможностей, типичных для нашего времени, и тем самым к постоянному техническому прогрессу.
Известное равнодушие по отношению к содержанию есть следствие известной позиции – искусство для искусства, позиции игры со все новыми и новыми конфигурациями, когда перемены становятся ценными сами по себе. Но одновременно желательное, искомое является в общем количественно-материальной задачей: это относится в основном к сохранению определенного состояния (отопление, охлаждение, вентиляция, бункер, дамбы, консервы), к использованию энергии (автомобиль, самолеты, ракеты и т. д.) и ускорению передачи информации (телефон, радио, телевизор, печать, компьютер и т. д.)22.
Само собой разумеется, и в мифической культуре мы найдем операциональный элемент в том смысле, что создание физических предметов по однозначным интерсубъективным правилам, как и все подобное этому, вообще принадлежит к практическому "жизненному миру" (например, ремесленная деятельность). Но этой культуре недостает как идеала всеобщей логики, так и идеала всеобщей операциональности. Связанная с этим тенденция систематического поиска новых практических возможностей и усмотрения подлинной цели в постоянном прогрессе оказывается мифической культуре тем более чуждой, что она придает применяемым операциональным правилам нуминозное значение, не
позволяющее ей опрометчиво разрушать связь с традицией. Так, человек мифа часто сознательно идет на некоторое ограничение возможностей, табуируя многие из них, но зато то содержание, к которому он стремится, выступает для него более весомым.
Особенно следует выделить в этом контексте то, что в области мифа, как мы видели, созданное никогда не оказывается чисто материальной вещью. Это скорее нечто, во что перешла и проникла та нуминозная субстанция, которую ее творец наполнил жизнью при создании (см. гл. V, разд. За). И оттого оно непосредственно связано с делом его рук. Вспомним и о том, что в каждом орудии живет сущность его владельца (см. гл. V, разд. 2г) и оттого это орудие персонально к нему приспособлено. Машинное производство, в котором производитель и потребитель суть переменные, было бы с этим несовместимо.
Так, операциональная интерсубъективность гораздо в большей степени овладела нашим сегодняшним миром вплоть до деталей повседневной жизни, чем это было бы возможно в мифической культуре. Мы должны, однако, задаться вопросом: является ли такое доминирование и такое акцентирование операциональной рациональности чем-то самим по себе рациональным? Иначе говоря: становится ли требование какой-либо формы рациональности стремлением к всеобщей рациональности? Какие рациональные основания можем мы для этого привести?
Говорят, технико-индустриальный мир неизмеримо улучшил условия нашего материального существования, и это по большей части несомненно верно. Но, с другой стороны, мы должны также признать, что отнюдь не всегда это было мечтой человечества. Если прочесть, что все философы и пророки в течение человеческой истории называли высшим счастьем, если рассмотреть зачастую столь отличающиеся от наших ценностные ориентации прошлых времен, то можно обнаружить, что им были совершенно чужды те желания, которые нам кажутся естественными. Не то чтобы им не было кстати данное улучшение жизненных условий, хотя и в их время это тоже происходило, но такие улучшения искали в более высоком контексте, который был мифическим, религиозным или нравственным.
Согласно широко распространенному заблуждению, если бы только людям было известно, какие возможности дает техника, они непременно к этому бы стремились23. При этом ссылаются на то, что возникновением техники в XVI—XVII веках мы обязаны некоей программе, можно сказать, некоему новому волеизъявлению, которое мы находим, например, у Бэкона и Декарта, и что эта программа была придумана исключительно как некий вызов прошлой установке, которая позволяла преодолевать господство природы, понимаемой как божественная или сотворенная Богом, лишь в очень умеренных, благоговением и благочестием установленных границах. Выход за такие границы назывался греками "хибрис" (дерзость), а позднее христианами – дьявольским делом. Даже горные работы рассматривались
как опасное вмешательство в "священное место", позволительное лишь при соблюдении соответствующих ритуалов24. Строительство Ксерксом огромного моста через Геллеспонт было сочтено кощунством25; миф об Икаре должен был служить человеку предостережением от дерзкого желания пренебречь установленными границами покорения природы. Такие примеры можно умножать сколько угодно. Даже когда технический мир начал свои победоносный поход, человечество вплоть до сегодняшнего дня не переставало сомневаться в его смысле и мудрости.
Такое историческое напоминание показывает нам, что вопрос о рациональной обоснованности сегодняшнего акцентирования логически-операциональной рациональностью и стремления к ней в конечном счете зависит от того, насколько обоснованы связанные с этим высшие цели. Эти цели оказываются одновременно нормами, ибо им придается значение, обязательное для человеческого счастья, блага и добра, какое бы название ни давали последнему.
Тем самым я прихожу к последней из перечисленных в главе XV форме рациональности*.
Перевод выполнен при участии С. Коначевой.
ГЛАВА XXI Рациональность как нормативная интерсубъективность в науке и мифе
Мы должны поставить перед собой следующий вопрос: возможен ли рациональный выбор между целями и нормами, свойственными мифу и науке? Можно ли показать, что одна из этих областей может притязать на обладание нормативной интерсубъективностью, тогда как другая ее не имеет? Будет ли более рациональным осуществлять те всеобщие идеи счастья и добра, которые ведут к поиску нуминозного «единства идеального и материального», архе и всех других связанных с этим мифических действий и поступков? Или рациональнее провести в жизнь отличающиеся от мифа всеобщие идеи счастья, добра и т. п., которые согласованы с научными целями, вырвать предметы из всякого нуминозного контекста, отделяя идеальное от материального, чтобы установить правила и законы природы, построить соответствующие пространственно-временные конструкции и осуществить все из этого следующие действия и поступки, чуждые мифу?
Для ответа на эти вопросы не требуется особо точного определения, в чем заключаются высшие нормативные цели, которым служат научные и мифические способы мышления. В дополнение к предыдущим разделам напомню, что к догмам современного сознания принадлежит убеждение в том, что научный и технический прогресс принес людям освобождение от гнета природы и страха перед трансцендентными силами, тем самым умножив человеческое счастье и спася человеческое достоинство. В данном контексте также необязательно детально останавливаться на том, что различные представления о целях и счастье появлялись в рамках мира, на который наука уже наложила свой отпечаток. Здесь этого уже достаточно, чтобы представить следующую мысль.
При желании рационально обосновать те или иные нормативные цели оказывается возможным сделать это, только выводя их из каких-либо других. При этом можно или идти все дальше этим методом обоснования, попадая в итоге в бесконечный регресс, или остановиться наконец на некоторой исторической данности. И, как всегда, человек сбивается с пути: в конечном итоге норма становится лишь никак рационально не оправданным утвержде-
нием. И ничего не меняется от того, считаются ли высшие цели с научной точки зрения исторически созданными человеком или с точки зрения мифа – постигаемыми как божественные заповеди, относят ли их в итоге к профанной или нуминозной предметности. Из этого следует, что общая убедительность, исходящая из этих целей, может быть лишь фактической, а не рациональной. Поэтому нормативная интерсубъективность всегда расположена в определенных границах и временных рамках и, говоря научным языком, является, таким образом, чем-то исторически обусловленным.
Даже Кант, предпринявший впечатляющую попытку отделить моральные нормы как абсолютные цели от их догматического понимания, вывел их из некоего "факта разума", как он назвал категорический императив26. Не имея возможности вдаваться в подробности, надо указать на то, что в этих фактах категорического императива речь все равно должна идти о чем-то историческом, даже если сам Кант этого и не осознавал. А именно таком историческом, которое следует из общих условий просветительского понимания морали. Непосредственно освободиться от этой исторической соотнесенности совершенно невозможно. Исторический провал всех, кто пытался уйти от этого путем рефлексии, – здесь я прежде всего напомню о Гегеле, – показывает, что они не смогли передать именно ту рациональную интерсубъективность, на которую должны были бы претендовать. Они напоминают, да простят мне это непочтительное замечание, барона Мюнхгаузена, вытягивающего себя за косичку из болота.
Тем самым мы ответили на поставленный в начале этого раздела вопрос. Между нормативными целями, объединяющими науку, с одной стороны, и миф – с другой, исключается рациональный выбор. Нормативная интерсубъективность, на которую сегодня в целом опираются цели науки, есть некий исторический факт и ничего более. И хотя никому не возбраняется усматривать в этих целях нечто очевидное и насущное, однако невозможно надеяться на рациональное обоснование этой личной убежденности и ее абсолютное интерсубъективное признание*.
Перевод выполнен при участии С. Коначевой.






