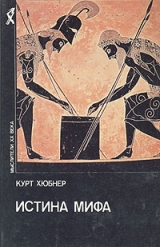
Текст книги "Истина мифа"
Автор книги: Курт Хюбнер
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 39 страниц)
Нечто похожее характерно и для его учения о воздействии, оказываемом трагедией на слушателей. Хотя он и одного мнения с Платоном по поводу того, что это воздействие в основном заключается в пробуждении страха и сострадания, но в этом он видит не зло, паралит/тощее человеческую активность, а, напротив, укрепление и очищение, катарсис364. Что под этим подразумевается, показал Бернайс в своей работе "Основные черты утерянных сочинений Аристотеля о воздействии трагедии" (Бреслау, 1857), причем кроме "Поэтики" Аристотеля он привлек еще его сочинение "Политика", а также труды Прокла и Ямвлиха. Исходя из них аристотелевское учение о катарсисе может быть суммировано следующим образом: страх перед несчастьем так же присущ человеку, как и сочувствие к тем, с которыми оно произошло. Так как мир всегда чреват угрозами, то человек стремится избегать опасности быть парализованным этими аффектами и потерять то уравновешенное душевное состояние (эвдемонию), а также ту рассудительность (софросинию), без которых он не может достичь высшего состояния, а именно – созерцания божественного365. И чем сильнее пытались вытеснить эти чувства, тем сильнее они становились366. Здесь трагедия действует подобающим образом: поскольку страх и сострадание, вызываемые ею лишь в определенных пределах, не связаны с реальными событиями, то она позволяет зрителю очиститься от них и найти в этом радостное облегчение. Мы назвали бы сегодня такое освобождение от душевного гнета "разрядкой"367. Вообще говоря, эту задачу трагедия может выполнить лишь при следующих условиях: во-первых, герой не должен обладать безупречной добродетелью, потому что мы сочувствуем лишь себе подобным368, и, во-вторых, он не может попасть в беду из-за собственных проступков369, потому что тогда он не пробудит нашего сострадания. Лучше всех, как полагает Аристотель, выполнил все эти условия Еврипид, и поэтому он "самый трагичный" из всех поэтов370.
Я не останавливаюсь здесь на чисто формальных исследованиях трагедии Аристотелем, которые не имеют значения
в данной связи, и добавлю лишь, что даруемую ею радость он выводит не только из феномена катарсиса, но и из удовлетворенной склонности к имитации, которая присуща всем людям371.
Рассматривая античные теории, посвященные трагедии, в таком контексте, мы ясно видим, что они не уделяли никакого внимания ее культовому и мифическому смыслу. Речь идет не об истинности, действительности и непосредственном присутствии в ней нуминозного события, архе, и даже содержание трагедии в его частностях учитывается лишь поверхностно. Горгий увидел в ней только обман, Платон – видимость видимости, и лишь один Аристотель пришел к необходимости на свой "философский манер" дефинировать самые общие сущностные черты трагедии, по отношению к которым та особая историческая форма, которую ей придали Эсхил и Софокл, не имела значения.
Но философы не только поэтому сразу же переходили от собственно содержания трагедии к воздействию, которое она оказывает на слушателей, но и потому, что это содержание явно уже стало им совершенно чужим. Это как раз и показывает, каким они представляли себе такое воздействие. Прежде всего оно должно вызывать страх и сострадание. Эпифания и борьба нуминозных сил вызывают, однако, не только страх; они, говоря языком Р. Отто, не только tremendium*, но и fascinosum372**. Кроме того, к концу трагедии в центре внимания оказывается не столько сострадание герою, сколько очевидность божественного миропорядка. Это есть, помимо всего прочего, очевидность, сообщаемая трагедией, несмотря на показанные страдания, очевидность, способная вызвать в зрителе глубокое чувство счастья. Только если она умерла, если исчезла вера в истинность мифа, можно вместе с Аристотелем прийти к филистерской мысли, что причину радостного облегчения, испытываемого после театрального представления, следует искать в гомеопатических дозах, в которых внушались Страх и сострадание, или же в удовлетворении свойственной людям склонности к подражанию. С содержанием трагедии и с миром представлений Эсхила и Софокла, на котором оно держится, это не имеет ничего общего; их вообще не постичь с помощью медицинско-психологических категорий, которые, как было показано в IV и V главах нашего исследования, исходят из онтологического фундамента, полностью чуждого мифу.
Итак, теории античной философии, посвященные трагедии, большей частью пребывают в таком противоречии с ее текстом и контекстом, что самое большее, что мы можем из них почерпнуть, это кое-какие сведения о духовном состоянии греков – современников Софокла, но не о духе их времени или предшествующей эпохи. Очень показательно также замечание Аристотеля о том, что
Т. е. внушающий трепет, страшный, ужасный (лат.). – Примеч. пер. **Т. е. околдовывающий, зачаровывающий, завораживающий (лат.). – Примеч. пер.
сюжеты преданий были известны лишь немногим373. Зрители, которых он наблюдал, были "просвещенными" гражданами четвертого столетия. Традиция обстоятельно сообщает нам о настроении мрачности и безжизненности, распространившемся тогда после упадка мифа374. Совершенно очевидно, что в таких обстоятельствах людьми овладели страх и сострадание, и они искали себе спасение в медицинско-психологических средствах, в том числе и в трагедии, которую они принимали за таковое. Невольно приходит на ум сегодняшнее время. Того, у кого перед глазами стоит история театра и относящиеся к ней теории последних лет, не удивит, что так быстро могла поблекнуть мифически-культовая форма трагедии. Современные инсценировки классических пьес и опер совершенно не связаны с представлениями их создателей и людей, показываемых в них. Сегодня, как и в те времена, такой перелом стал возможен прежде всего потому, что сюжеты классических театральных произведений знакомы лишь немногим и их полное искажение современными режиссерами в целом никому не мешает375.
ж) Экскурс в работу Ницше "Возникновение трагедии из духа музыки"
Соображения, высказанные в этой главе, должны были, как уже отмечалось, послужить главным образом наглядному углублению предшествующих (по необходимости более структурных) размышлений о сущности и форме мифического праздника и одновременно подготовить последующие разделы. Мы бы далеко перешагнули рамки поставленной цели, если бы я теперь захотел вступить в подробную полемику с литературой, имеющей отношение к обсуждаемым здесь вопросам греческой трагедии376. Тем не менее в заключение следует остановиться на интерпретации греческой трагедии Ницше, так как она, на первый взгляд, обнаруживает определенное сходство с тем, что сделано мною. В произведениях Эсхила и Софокла он также видит попытку примирить между собой противостоящие друг другу мифические представления. Их он обозначает как "дионисийское" и "аполлоновское". Что подразумевается под дионисийским и аполлоновским началами, мы уже обсуждали (см. гл. III, разд. 5). Поэтому сейчас мы можем проанализировать взгляд Ницше на взаимосвязь обоих этих представлений с трагедией.
Происхождение трагедии, согласно его точке зрения, следует искать в хоре сатиров, который в своем варварстве разодрал покров цивилизации и ее упорядоченных законоположений и нашел подлинную причину всех вещей в сексуальности. Тем самым он возбуждал как ужас, так и желание. В. маске и костюме, напевая и танцуя, танцор воплощался при этом "в другое тело, в другой характер"377 и так переживал дионисийское "восхождение индивидуума"378; но "в качестве сатира он опять-таки внимает богу"379, страдания которого, по мнению Ницше,
первоначально были темой дифирамба380. Один из танцоров в конце концов даже принял образ бога, и с тех пор сам Дионис "объективированно" выступал им навстречу381. Это было для Ницше как раз тем моментом, когда аполлоновское начало вступало до сих пор в исключительно дионисийскую область. Если прежнее культовое событие было похоже на то "вечное море", которое есть "сменяющееся действо, пламенная жизнь" и не может "сгуститься до наглядного", то здесь выступает ясно очерченный образ382. Первое выражало собой дионисийское, второе – аполлоновское начало. Хотя позднее и другие лица занимали место бога, все они, по существу, изображали только Диониса, пусть и в различных масках383. Так "разряжается" само по себе безобразное дионисийское начало, данное в чистом виде лишь в музыке, превращается "в мир картин, образов"384, "искрится"385 и тем самым объективируется в качестве аполлоновского. Хотя поющий хор "материнского лона" в трагедии сохранялся386, в диалогах теперь мы встречаем язык Гомера387. В трагедии грек спасался от первобытной воли, вторгающейся в аполлоновскую меру и форму видимых, действующих и говорящих персон. Даже если они переживают мучительные испытания, то трагедия все же освобождает нас "метафизическим утешением, что жизнь в своей основе, несмотря на все изменения в водовороте явлений, несокрушимо могущественна и радостна"388.
Что сразу поражает в этом толковании Ницше греческой трагедии, так это одностороннее сокращение им трагедии до дионисийского и аполлоновского элементов. Решающая роль хтонического мифа и культа героев остается без внимания, как и роль олимпийцев, которые в трагедии отнюдь не имеют чисто аполлоновского значения. Дионисийское у Эсхила и Софокла обнаруживается лишь постольку, поскольку оно находится в тесной связи с хтоническим царством ночи, преисподней, с бездной и умершими, но совсем не с неистовой волей к жизни, упоительным экстазом и счастливым возвышением в повседневной жизни путем разрушения "принципа индивидуации" ("principium individuationis"), как полагает Ницше. Поэтому и герой драмы не является всего лишь маской Диониса; напротив, речь идет как раз о его благе или его несчастье в борьбе мифических сил. Ему как зрителю в качестве метафизического утешения предлагается тот самый божественный миропорядок, который также содержит в себе целительные силы Матери-Земли и вместе с тем примиряющую смерть как спасительное возвращение в ее лоно. Что касается олимпийцев, то хотя они представляют в трагедии аполлоновское начало, защищая меру и порядок, но ни в коей мере не соответствуют "миру снов", обретшему (в духе Ницше) художественный образ и форму389, что позволяет выносить дионисийскую действительность; они являются в большей мере силами, которые держатся за свой порядок со страшной жестокостью и вызывают скорее ужас и трепет. Их слияние имеет поэтому частицу той страшной красоты, которая будто "подчас отказывается от ужасного решения нас уничтожить". Они живут вдали от людей в небесной высоте, и их божья воля, порою приносящая гибель, часто остается непостижимой для людей. Но если всякая объективация дионисийского начала должна быть уже чем-то аполлоновским, то это предполагает, что его следует представлять только как лишенное наглядности и образности, как постижимое лишь в музыке. И хотя верно, что олимпийцы наглядным образом чаще всего выступали как хтонические силы, но это связано не с тем, что они являются выражением принципа индивидуации, а с тем, что они принадлежат царству света, а не ночи. Также и хтонические силы "объективируются" на свой лад, поскольку и насколько в культе изображается их архе, например спуск Диониса в преисподнюю, похищение Персефоны, появление вызванного заклинаниями из царства мертвых героя и т. д. Уравнение Ницше "дионисийское = музыка, аполлоновское = словесный и наглядный образ" уже потому неосновательно, что грек всегда воспринимал все как целое, и потому слово, внешний вид, жестикуляция, пение, танец и музыка были для него нерасторжимо связаны, по крайней мере, там, где он предполагал сам постичь действительное, а именно – в культе, а значит – ив мифическом празднике. Очень надуманным выглядит, когда Ницше пытается интерпретировать связанную с лирой аполлоновскую музыку как всего лишь "волновой удар ритма" и его "художественную силу"390. Тем самым он также отдает должное мифу, который рассказывает, как Марсий получил от Афины принадлежавшую дионисийскому культу двойную флейту, которую она выбросила, потому что игра на ней искажала лицо, и Аполлон с лирой в музыкальном состязании победил Марсия, игравшего на флейте авлос; хотя тем самым и празднуется триумф аполлоновской музыки над дионисийской, все же одновременно показано значение музыки для обеих культовых форм. Не имея возможности здесь более глубоко войти в данную тему, следует все же, подводя итоги, заметить, что недавно упомянутое уравнение Ницше "дионисийское = музыка, аполлоновское = словесный и наглядный образ" представляет лишь неудавшуюся попытку перенести определенные проблемы вагнеровской теории музыкальной драмы на греческую трагедию. Особенно ясным станет это благодаря замечанию Ницше, что музыкальный диссонанс есть непосредственное выражение первоначального феномена дионисийского искусства391. Если бы это было действительно так, то непонятно, каким же образом обходилась без него, как известно, греческая музыка.
Бросается в глаза, какие незначительные усилия прилагает Ницше к тому, чтобы подкрепить свое понимание трагедии примерами из ее текстов. Но и там, где он приводит таковые, они неубедительны. Так, момент, в который Адмет вдруг узнает в укутанной женской фигуре свою жену Алкесту, он называет "аналогией к "объективации" Диониса"392. Но разве не проще было бы связать эту сцену, взятую из драмы Еврипида, с культом заклинания умерших героев, поскольку она все же повествует о возвращении Алкесты из царства мертвых? В качестве следующего примера Ницше приводит Прометея. Согрешив в "титаническом порыве", он представляет собой дионисийское начало и носит поэтому "дионисийскую маску"; борясь за справедливость, он относится к Аполлону, "богу индивидуации и границ справедливости, благоразумия"393. Однако, как следует из 1-го раздела этой главы, вовсе не Прометей согрешил, а Зевс; справедливость же, за которую вступается Прометей, —это не справедливость Аполлона, а справедливость Матери-Земли, Геи-Фемиды. Особенно яркий пример проникновения аполлоновского элемента в трагедию Ницше видит в строгой логической последовательности, с которой Эдип разоблачает себя самого как убийцу отца; тем самым в пьесу приходит "превосходящее веселье", которое "лишает остроты" ужасающие события394. Но все обстоит как раз наоборот. Именно эта неумолимая логика ярко демонстрирует нам почти дьявольскую безысходность героев. Наконец, Ницше видит взаимосвязь также между способностью Эдипа к отгадыванию загадок и его злодеяниями, выражающимися в отцеубийстве и инцесте, ибо такая способность была бы возможна лишь там, где нарушают закон природы и тем самым упраздняют жесткий закон индивидуации395. В чем же, однако, связь между способностью Эдипа к разгадыванию загадок, с одной стороны, и законом природы и принципом индивидуации – с другой, это тоже остается загадкой.
Несмотря на это, Ницше предчувствовал в целом правильное решение. Если его противопоставление дионисийского и аполлоновского начал в действительности и оказалось недостаточным, то он все же обнаружил нечто от противоречия, появившегося внутри греческого мифа. Мы также можем согласиться с ним в том, что трагедия стала последней большой попыткой самостоятельно снять это противоречие средствами мифа. Провидческая сила Ницше оказалась способной вынести большую историческую нагрузку, чем тот справедливый филологический выговор, который выпал на его долю396*.
Перевод выполнен при участии О. Кузнецовой.
ГЛАВА XIII Мифические структуры в гомеровском культе мертвых
В предшествующей главе многократно шла речь о хтоническом культе мертвых. Сказанное об этих мифических структурах может быть в наиболее лаконичной форме суммировано так: основой мифа о Матери-Земле и заклинании мертвых вновь служит идея идеально-материального единства. Земля – не только условие всей жизни, она также в идеальном смысле – божественное лоно, из которого происходит жизнь и в которое она возвращается, в то время как в идеальной субстанции слова, песнопения, танца и т. п. мертвый может в то же время стать материально реальным. Вместе с ним является его архе, его героическая жизнь; прошлое возвращается в настоящее в соответствии с мифическим представлением о времени. Мифическая субстанция умершего пронизывает живущих и в них продолжает свое действие. Но эпифания героя разыгрывается на теменосе могилы, в принадлежащем ему мифическом пространстве. Это взаимодействие между живыми и умершими предполагает существование собственного царства умерших, Аида. Согласно хтоническому воззрению,-одни умершие живут там в страданиях, как, к примеру, Тантал и Иксион, а другие блаженствуют на острове блаженных (Elysion), как Менелай397. Олимпийско-гомеровский мир представляет себе царство умерших по-другому, однако мифические структуры, как мы сейчас увидим, остаются теми же самыми.
Олимпийско-гомеровские представления о царстве умерших доносит до нас, в частности, одиннадцатая книга "Одиссеи", которая рисует пребывание Одиссея в Аиде. Там умершие полностью отделены от жизни, в них стерты все отношения с настоящим и будущим. Они представляют собой лишь прошлое бытие – и все же они вечно в наличии – как свернутое прошлое398. Так, хотя они и обладают памятью и пролетевшая жизнь стоит перед их глазами, но они лишены всякого сознания будущего и тем самым также и настоящего, определяемого будущим. Поэтому Одиссей видит умерших в подземном мире как тени, из которых ушло ожидание грядущего и тем самым жизнь, он видит их как застывшее навечно прошлое. Здесь,
"'•'?'·: как замечает В. otto, вспоминается посещение Фаустом своих К праотцов, описанное Гете в следующих стихах399: :Ц
t'· Беги к возникшим ^!у
В образах пространств, оторванных от жизни; -Цр Наслаждайся более уже не существующим... Отражения жизни подвижные, безжизненные, г Что было однажды, во всем блеске и сиянии, Там продолжает движение; Ведь оно хочет быть вечностью.
Это представление об умерших определяется также и так называемой собственностью мертвых, о которой мы знаем из могильных раскопок400. При этом речь шла изначально не столько о подарках от близких родственников или о средствах поддержания загробной жизни, сколько о собственности или имуществе мертвых. То, что принадлежало ему, к примеру его оружие, могло оставаться с ним, подвергаясь сжиганию401. Как свидетельствуют микенские гробницы, близкие покойного нередко должны были расставаться при этом с огромными богатствами. Мысль, лежавшая в основе всего этого, становится ясной для нас лишь после рассмотрения двух различных и резко отделяемых друг от друга понятий собственности у греков. Принадлежащее отдельной личности называлось "ктема" (ktema) или "ктерия" (kteria), в то время как имущество клана обозначалось как "патроя" (patroa). Умершего сопровождала в загробный мир лишь его личная собственность, ктерия, поскольку она непосредственно принадлежала к его прошлому бытию, к самотождественности его истории, к его протекшей жизни. Напротив, в собственности клана, в натрое, видели продолжение жизни клана. Поэтому у Гомера мы находим стереотипный оборот "kterea ktereizein" (возжигать погребальный огонь), что с тем же успехом означает "погребать, имущество умершего"402. Мертвые, лишенные своего имущества, вызывали ужас. Они не могли по-настоящему умереть до тех пор, пока их частица остается при жизни, и беспокойно блуждали вокруг, досаждая живущим, пока те наконец не отпускали их в подземный мир со всем их имуществом, то есть со всем их прошлым бытием403.
Это все объясняется верой в то, что прижизненный социальный порядок сохраняется и после смерти. "В мире духов все получают тот же чин, ту же профессию и выполняют те же функции, что были им присущи в земной жизни", – замечает Кассирер404. Так, в "Одиссее" говорится, что Кастор и Поллукс и в Аиде пользуются пожалованными им Зевсом почестями405, а Минос и там правит царством406. В трагедии Эсхила "Плакальщицы" хор оплакивает то обстоятельство, что Агамемнон пал не в битве за Трою, ибо тогда бы "он сверкал как высочайший повелитель... ведь был же он царем при жизни"407. По этому поводу Фритц пишет: "Ведь судьба человека в потустороннем мире идентична для греков с образом человека в памяти, которая остается о нем, и грустный конец Агамемнона затемняет его образ как великого военачальника и воителя"408.
Гомеровская идея смерти прослеживается на многочисленных надгробных изображениях. В основном умерший сидит в некоем застывшем положении. Он весь в прошлом, всякое движение ушло из него, и он уже не воспринимает стоящих перед ним живых. Ни счастливое ожидание, ни страх боли не отражаются в его чертах. Потусторонний мир не является ни настоящим, ни будущим, для которых имеет смысл надежда или страх. Его, казалось бы, окружает глубокое спокойствие. Легкая тоска, лежащая на образе, исходит от оплакивающих, приносящих ему его ктерию. (Особенно яркие примеры представляют собой памятник женщине из Фасоса в венском Музее истории культуры и памятник Эресо (Hereso) на кладбище Дифлиона в Афинах.) Примечательно, далее, и то, что нарисованных на вазах умерших называют "идолы" (eidola), что П.Нильсон удачно переводит как "образ души"409. В "Одиссее" умерших также называют "идолы" (образы), а именно "идолы уставших смертных"410. В связи "идолов" и "усталости" наглядно прослеживается то, что нацеленность на будущее вытравлена из Изображения умершего; он застыл в образе и тем самым навсегда остался тем, кем он был.
И все же, согласно гомеровским представлениям, как подчеркивает В. Отто, умерший "еще здесь"411. Об этом пишет и Кассирер: "умерший все еще "существует"; и ато бытие не может быть постигнуто и описано иначе, как психологическим образом. Если он выступает, в отличие от живущего, в качестве бессильной тени, то эта тень все же реальна"4'2. Поэтому и мертвый Патрокл предстает перед Ахиллом "в полный рост и с сияющими глазами, похожим на самого себя, и голос его облекает тело в сходные одеяния"413. Или в другом месте "Илиады": "Ах, и в доме Аида есть поистине души и идолы, но все же френ отсутствует в них"414. В то время как френ является местом, ответственным за принятие решения (см. гл. V, разд. 2а), он же – место заботы и внутреннего напряжения. От заботы он может "всюду стать черным"415, а от напряжения – "непроницаемым"416. Идол умершего есть, таким образом, что-то исключительно реальное, и жизнь из него вытекла лишь постольку, поскольку отсутствует всякая связь с грядущим (забота, напряженное ожидание). Одиссей также встречается в Аиде с умершими, и ему позволено увести их на время в настоящее лишь благодаря особенно кровавой жертве, от которой те вкусили4'7; затем, как показывает разговор с провидцем Тиресием, ему разрешили влить в них ожидание будущего4'8. Итак, повторяя слова Гете, умершие суть "образы жизни", и, даже будучи тенями, они все же "деятельны" в своем прошлом бытии.
Однако прошлое как таковое тем не менее всегда "существует", поскольку память и представление о нем, заклинание в слове, песне и Танце одновременно означают и его "настоящее". Если, следовательно, умерший является во сне, как Патрокл спящему Ахиллу419, то это воспринимается не как нечто "субъективное", а как абсолютно "объективное" (о мифическом значении сна см. гл. V, разд. 2е). Гомер говорит об ушедших в Аид, что они
"подобны сну", не имея в виду, что они вообще не существуют420. Поэтому, как верно замечает Гронбех: "Греческие представления о жизни после смерти опираются не на теологию, а на опыт, вытекающий из сна и других откровений"421. Но умершие присутствовали, кроме всего прочего, и в мифическом празднике, в ходе которого их чествовали (см. гл. XI). Далее, продолжает Гронбех, "когда раздается песня героя, богиня Клио вступает в зал, и героические деяния древности являются как по волшебству и присутствуют во всей мощи и радости. Зал наполняется соплеменниками и друзьями как ушедшими, так и живущими; кто слышит прославления своих предков, тот наслаждается их кидосом, он знает, что и его собственные деяния и жизнь будут звучать и дальше в рассказах и песнях, и смерть не постигнет его. Ведь когда звучит песнь о деяниях рода, то воскрешается все величие личности, воплощенное в клане"422. Подобным же образом высказывается и Г. Небель: "...Жертвы приготовлены и согласны впустить в себя героический дух предков. Как только полис принимает в себя племенные структуры, он уже несет в себе культ героев города. и также род и все эллины собираются вокруг предков, прославляемых в песне. Культ душ умерших и клан находились в единстве всегда, сколько существуют греки; полис, чтобы возникнуть и сохраниться, должен был присосаться к этой субстанции, преодолевающей смерть". "Культ душ умерших превращает последних в героев, он принимает и усиливает их реальность, он открывает себя их действующей реальности"423. Поэтому когда Феогнид (6 в. до н. э.) произносит, что умерший возлежит за пиршественным столом на губах поющего, это следует понимать буквально"424.
Героическую песню, следующую за вкушаемой пищей, греки называли "anathema daitos", "праздничный подарок пиршества", чем они хотели выразить ее принадлежность к культовой сфере. В этом подарке прослеживается эпифания героя, точно так же как в жертвоприношении – эпифания бога425. У Пиндара мы находим такие стихи: "Правь, Муза, к этому дому, дай словам попутный ветер, честь и славу принеси! Покинули этот мир мужи, их благородные деяния песни и саги хранят"426. Этот перевод не может, однако, полностью выразить то, что имел в виду Пиндар. "Попутный ветер" звучит у греков как "Uros", под которым подразумевается ветер, несущий благо и счастье, то есть божественное мгновение и кайрос; если он приносит славу, то тем самым передает божественную субстанцию, находящуюся в ней. Также и слово "хранят" передает лишь неточное значение греческого слова "ekomisan". Чтобы прояснить это, следует обратиться к третьей пифийской оде Пиндара, где он говорит: древние героические деяния живут в восславляющих песнях427. "Хранить" прошлое означает для Пиндара в то же время делать его современным, способствовать его эпифании. И именно поэтому оно является частью настоящего и даже частью жизни, обращенной в будущее. Оно мощно побуждает, обязывает и наполняет силой живых и их потомков. "Будьте мужчинами, – обращается Нестор к ахейцам, – и стыд наполнит ваши сердца, стыд перед другими людьми! Вспомните все о своих детях и женах, о добре и родителях, все, у кого они живы или умерли"428. Умерший является мощным наличным бытием даже в его полной отрешенности от жизни, в чистом прошлом бытии и полной пассивности. Эту непосредственность восприятия некой всеподчиняющей связи Небель выражает словами: "Жизнь умерших предков и родственников есть не что иное, как любовь, которую воспринимают от них живущие вопреки их смерти. Эти восприятия являются формами не воображения, а реальности, они, быть может, питают нас даже более сильно и явно, чем дары живых"429. "Наличное существование умерших – благо для живых"430. Поскольку они считались святыми и превосходящими живых, римляне называли своих предков "majores", a греки на могильных памятниках изображали умерших более крупными, чем навещающие их близкие. "Вечно настоящее прошлое" освещало жизнь, снабжало людей праобразами и воодушевляло их устойчивостью и мужеством. Именно в связи с дальнейшим развитием сознания Кассирер подчеркивал, что здесь и в самом деле речь идет об изначальном мифическом опыте: "Если... на этапе метафизики мысль должна была трудиться над тем, чтобы предоставить "доказательства" существования души после смерти, то для естественного развития человеческой истории духа в большей мере справедливо перевернутое отношение: не бессмертие, а смертность должна быть "доказана", то есть теоретически установлена, постепенно выявлена и зафиксирована вопреки разделительным линиям, которые прогрессирующая рефлексия накладывает на содержание непосредственного опыта"431.
Если мы бросим взгляд назад, то увидим, что различие между хтоническими и олимпийско-гомеровскими представлениями о потустороннем мире касается прежде всего того, как умершие действуют на живых. В хтоническом мифе они непосредственно принимают участие в событиях настоящего времени, они страдают или радуются, они являются людям для предупреждения, угрозы мести или для реального участия в неудачах и успехах живых. Напротив, в олимпийско-гомеровском мифе они пребывают в полной пассивности, живущих наполняет и направляет лишь их присутствие само по себе. Однако тем отчетливее выступает в этом различии единство – "вечное настоящее прошлого" – в его культовом повторении; единство материального и идеального, то есть реальное присутствие умерших во сне, в песне, в памяти, возможность вызвать их с помощью заклинаний из-под земли; воздействие их мифической субстанции на живых во время их эпифании; связанное с этим возвращение архе; единство внешнего и внутреннего в культе мертвых; феномен "ктерии" и пр. Теперь мы видим, как внутри мифической онтологии происходит (даже если и непостоянно) становление объективного опыта, который для нас обладает лишь чисто субъективным значением как нечто, данное лишь внутреннему миру человека.






