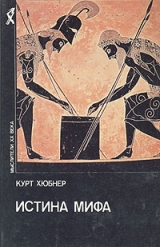
Текст книги "Истина мифа"
Автор книги: Курт Хюбнер
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 39 страниц)
Почему Клее в итоге называет оба эти пути "метафизическими", легко понять: согласно словоупотреблению его времени метафизическим считалось все, что противостоит эмпиристскипозитивистскому способу рассмотрения, который связывали тогда с естественными науками. На самом деле у Клее, в особенности, если рассмотреть только что проанализированный фрагмент текста вместе с другими, как уже упомянутыми, так и приводимыми ниже, мы находим скорее не метафизические, а фундаментальные мифические представления. Приводимый нами рисунок, выполненный Клее, должен служить дальнейшему наглядному прояснению этих представлений.
"Все пути, – пишет он далее'20, – встречаются в глазу и ведут, будучи преобразованы их точкой встречи в форму, к синтезу внешнего видения и внутреннего созерцания. Из этой точки встречи формируют себя материальные образования, которые тотально отличаются от оптического образа предмета, однако при этом, с точки зрения тотальности, не противоречат ему"121, но, напротив, делают его видимым в его более широких и углубленных отношениях.
Клее не создает себе никаких иллюзий по поводу того, что ему готовит так называемый дух времени: "Негодование и изгнание: вон художников полного синтеза! Вон тотализаторов!.. А затем словно градом сыплющаяся брань: романтика! космизм! мистика!"122 За этим следует тяжелый вздох Клее: "Должно быть, нужно призвать в конце концов какого-то философа, некоего мага!.. Нужно читать лекции по праздникам, вне школьных институтов. На природе, под деревьями, рядом с животными, у реки. Или в скалах у моря'"23. Но есть и методы, чтобы, по крайней мере, подготовить лучшее понимание. Нужно только представить себе, полагает Клее, в качестве своеобразного упражнения на релаксацию, что когда-то мир отличался от нашего мира и, возможно, вновь будет отличаться от него в будущем: "Возможно, что на совершенно других звездах появились совершенно другие формы"124. Это упражнение служит "особой свободе, которая требует только права быть столь же подвижной, как и великая природа"125. Поэтому для Клее наш видимый мир, "обладающий этим оформленным обликом... не единственный из возможных миров!"'26
Пока мы говорили только о мифическом у Клее. Обратимся теперь к абстрактным элементам его творчества, к тому, как выяснилось, современному языку субъективности, посредством которого он выражал мифическое. "Мы покидаем посюстороннюю область, – пишет он'27, имея в виду область существующей видимой физической действительности, – и строим над ней некую потустороннюю область, которой позволено быть чем-то абсолютно позитивным (Ja). Абстракция. Холодная романтика этого стиля, лишенного пафоса, неслыханна. Чем ужаснее становится этот мир (что и происходит сегодня), тем абстрактнее становится искусство, в то время как более счастливый мир создает посюстороннее искусство"128. Что это значит? "Потустороннее" означает здесь совсем не "трансцендентное", но некий "возможный мир" в ранее определенном смысле, который, однако, "имеет сходство с великим творением"'29. Оно романтично, но, будучи введено в точные структуры абстрактного, одновременно "холодно" и "лишено пафоса". Нет никакого сомнения и в том, что Клее называет "ужасным миром"; это именно тот мир, который не может создать никакого посюстороннего искусства и должен поэтому замкнуться в абстракции субъективности, в голом мире представлений. "Более счастливый мир" – в прошлом. "Античная Италия, – пишет он в своих дневниках'30,
– и теперь все еще главное, главное для меня. Некая печаль заключена в том, что сохранилось в целости, – в этом много иронии". В 1901 году он пишет: "Теперь я созерцаю великое искусство античности и ее ренессанса"131. И "лишь только в наше время я не могу помыслить себе никакого художественного отношения. А желание создать нечто несвоевременное кажется мне подозрительным. Великая беспомощность. Посему я вновь
– полная сатира"132. Позднее он нашел это своевременное "художественное отношение". Благодаря тому что он заставил мифические предметы вырастать из абстрактных форм субъективности и сливаться с ними, мифическое, которое уже не дано в опыте внешней действительности, "спасается" им, перемещаясь в область голого "представления". И он, по собственному признанию, пишет – я вновь цитирую – "возможные миры".
Как и художники-абстракционисты, он следует абстрактному формализму, которым он при этом пользуется с абсолютно научной строгостью. Значительная часть его книги "Художественное мышление" служит впечатляющим свидетельством этого. А. Гелен показал, что в ней он независимым творческим путем пришел к некоторой разновидности гештальтпсихологии133. Конечно, многое напоминает скорее учение о цвете Гете, то есть затрагивает "умственно-нравственное воздействие цвета"; кое-что опять-таки содержит мифологическую символику, как, например, учение Клее о точке (см. выше). Тем не менее в ней имеется множество наблюдений, которые касаются психологии человеческого восприятия вообще, то есть "независимы от культуры". Отдельные названия глав могут дать об этом некоторое представление, поскольку здесь нет возможности подробно на этом останавливаться: "Линия: активное, пассивное, среднее"134; "Линия, плоскость и ориентация в пространстве"135; "Синтез пространственно-пластического изображения и движения"136; "Взаимные отношения цветов"137 и т. д. Однако он неоднократно с ясностью и отчетливостью говорил о том, что эти исследования и опирающиеся на них абстрактные формообразования сами по себе еще не достигают той художественной цели, к которой он стремится. "Освобождение стихий, – пишет он, – их соединение в сложные подгруппы, расчленение и восстановление в целое во многих аспектах одновременно, художественная полифония, восстановление покоя посредством уравновешивания движения
– все это высшие вопросы формы, имеющие решающее значение для формальной мудрости, но еще не высший круг искусства. В высшем круге за многозначностью стоит последняя тайна, и свет интеллекта гаснет самым жалким образом"138. "Из абстрактных формальных элементов посредством их объединения в конкретные сущности в итоге создается некий формальный космос, который обнаруживает такое сходство с великим творением, что достаточно простого дуновения, чтобы выражение религиозного и сама религия стали действительностью"139. Но здесь же в конце концов лежит и граница, которую Клее ставит
науке, сколь бы он ни восхищался ею и сколь бы он ни использовал ее возможности в своих целях. "И для искусства, – замечает он140, – открыто пространство точного исследования, эти двери с недавнего времени распахнуты... Математика и физика предлагают свою помощь... Идет изучение... логики. Все это очень хорошо, и все же здесь есть своя проблема... Мы подтверждаем, обосновываем, подводим фундамент, конструируем... но мы не приходим к тотальности". Он вынужден подчеркивать, что "самое точное знание природы не приносит нам никакой пользы, если у нас нет полного арсенала средств ее изображения"'41. Здесь имеется в виду художественное изображение этой только что упомянутой "тотальности", мифического единства "Я" и предмета как единства "Я" и "Ты" в живой связи Земли и Неба.
Пожалуй, можно сказать, что Клее самым убедительным образом сохранил мифическое в сфере живописи, и именно потому, что он делал это, используя все накопленные средства субъективности. Так, он столь же далек от эгоцентризма сюрреалистов, как и от нигилизма дадаистов, хотя они ошибочно видели в нем одного из своих союзников; не менее чужд ему и рационализм кубистов. "Пикассо и Клее, – замечает В. Хофман, – стоят на разных берегах"142. С другой стороны, у него больше общего с экспрессионистами, чем обычно считают; конечно, он отличается от них прежде всего тем, что он не видел в их насильственном восстании какого-то решения; кроме того, и абстракционистам он ближе, чем это кажется, даже если он отвергает их отказ от предметного; наконец, у импрессионистов он научился научно исследовать законы субъективного видения и восприятия. Своенравно, тихо, по-платоновски, по-аполлоновски, с легкой иронией – с забавным отстранением, которое иногда, как мы упоминали выше, он называет "сатирой", – он стремится на доступном его времени языке субъективности сберечь и продолжить жизнь чего-то, напоминающего древнейшее, мифологическое начало.
Бросим взгляд назад. Очевидно, что приведенные примеры, хотя они и находятся в некоторой логической связи друг с другом, не могли и не должны были создавать завершенной картины развития современной живописи. Чтобы не преступать границ этой главы, мы должны были оставить в стороне некоторые важные стилевые формы, например натурализм или новую предметность. Тем не менее можно сделать некое резюмирующее утверждение: экспрессионизм с его провоцирующим пристрастием к мифу наиболее бескомпромиссно и, как мы можем сегодня сказать, вполне обоснованно разорвал со схемами мышления нашей научно-технической цивилизации. Здесь мы не высказываем никакого суждения о художественной ценности произведений экспрессионистов. Возможно, на это возразят, что бунт дадаистов против научной рациональности свидетельствует о не менее яростной решимости. Но даже если это и так, дадаистская "философия" все же остается в зависимости от научной
онтологии в одном решающем моменте: эта "философия" создает резкую противоположность между законом и случаем. В мифе же этой противоположности не существует (см. гл. X). Правда, как было показано, часть дадаистов позднее вновь сняла эту противоположность закона и случая, но это только подтверждает то, что экспрессионизм в своей радикальной попытке возвращения к мифу последовательнее и решительнее разорвал с толкованием мира, сформированным наукой.
Здесь напрашивается дальнейший вопрос: что же произойдет в области искусства, если восхищение наукой ослабеет еще в большей степени, чем это имеет место сегодня? Вероятно, искусство в целом постепенно возвратится к своему прежнему убеждению, что в его компетенции может находиться особая объективность, а не только субъективное измерение реальности и что оно не должно защищать это измерение, восставая против научного измерения мира143*.
Перевод выполнен при участии А. Денежкина и О. Назаровой.
ГЛАВА XXIV Мифическое в христианской религии и классическая попытка ее демифологизации. Рудольф Бультман
Начиная с эпохи Просвещения христианская религия является предметом научной критики. В качестве примера мне бы хотелось рассмотреть теологию Рудольфа Бультмана, ставшую одним из последних кульминационных моментов этой критики. Основания для этого следующие. Во-первых, Бультман самым детальным образом разработал вопрос о мифическом в христианстве и о противоположности последнего научной картине мира. Во-вторых, Бультман имел при этом возможность опираться на чрезвычайно обширный и впечатляющий материал современных теолого-исторических исследований, которым другие, например либеральные теологи – его предшественники, не располагали. В-третьих, исследования Бультмана тем весомее, что он был верующим христианином, и, таким образом, его критика исходила не извне, как это наблюдается сплошь и рядом, а изнутри. И наконец, в-четвертых, на тему «Миф, религия и наука» вплоть до сегодняшнего дня в теологии нет ничего сопоставимого по своему уровню и охвату с тем, что сделано в этой области Бультманом.
Хотя и справедливо то, что Бультман представил существо мифа скорее на примерах и отрывочных афоризмах, чем в виде системы, но его выводы, за несколькими исключениями, являются непосредственным введением в те общие онтологические характеристики мифа, которые были сформулированы в предшествующих разделах.
Так, например, по его мнению, мифическим характером обладают утверждения о том, что божественное – это некое состояние мира144 или что потустороннее является одновременно посюсторонним. (См. в этой связи гл. V и особенно приводимые в ней рассуждения о мифической субстанции, благодаря которой смертное и бессмертное пронизывают друг друга.) Мифический культ для него является актом, в котором связываются материальные и нематериальные силы145 (см. гл. XI о мифическом празднике и жертвенной трапезе). Еще более неточно утверждение Бультмана о том, что трансцендентность Бога с точки зрения мифа тождественна пространственной удаленности146, тогда как в главе VIII, посвященной пространству, было показано, что Бог вообще не может быть локализован в профанном пространстве.
Бультмановский набросок "мифической картины мира" также в значительной степени соответствует онтологическим моделям, продемонстрированным во второй части. Сюда же относится его представление о троичном делении мира на мир небесный, земной и подземный. Сферы небесная и подземная – два нуминозных места, воздействующих своими силами на сферу земную. С христианской точки зрения это значит, что земля – арена, на которой разыгрывается битва двух сил – божественной и дьявольской. Это в такой же мере относится к человеческому миру, в какой – к миру природы147. В сущности, не так уж трудно увидеть структурное тождество такой "картины мира" с картиной мира у Гомера^ даже если их содержание сильно отличается одно от другого. (Олимп не небо, и Аид не преисподняя, хотя отдаленная аналогия и существует: Олимп – место божественного блаженства, а Тартар, как показывают истории Тантала и Сизифа, во многих мифах чрезвычайно напоминает преисподнюю.)
Теперь мы можем подразделить содержание Нового завета на группы в соответствии с тем, как, по мнению Бультмана, в нем отразился миф. Во-первых, первородный грех и смерть как кара. Во-вторых, воплощение Бога в Христе. В-третьих, замещающее покаяние через распятие Христа. В-четвертых, воскресение Христа во плоти. В-пятых, действие таинств. Эти пять смысловых единств просто-напросто выводятся Бультманом из господствовавших в эпоху раннего христианства мифов, таких, как мифы гностицизма, иудейской апокалиптики и др. Это, однако, не может нас удовлетворить. Так как Бультман, что видно из его в большей или меньшей степени интуитивных афоризмов, не располагает никаким строгим критерием для того, чтобы решать, что является мифическим, а что нет, то он, естественно, не определяет также и то, что в гнозисе или в иудейской апокалиптике является действительно мифическим. Это упущение приводит, как будет показано ниже, к нескольким ошибочным оценкам Бультмана относительно мифического содержания Нового завета. Поэтому о бультмановской концепции мифического в Новом завете я буду судить прежде всего на основании той онтологии мифа, которая была разработана во второй части этой книги.
1. Мифическое в Новом заветеа) Первородный грех и смерть как наказание
Когда в Послании к Римлянам (5:12—19) грех всех людей возводится к греху Адама, то для Бультмана нет сомнения, что "Павел представляет здесь под влиянием гностического мифа лежащее на послеадамовом человечестве проклятие"148. То же
касается и смерти как платы за прегрешение'49. Для Бультмана это в принципе непостижимо. Как же может грех быть унаследован, как же может он существовать там, где вообще не слыхали ни о каком законе, который можно было бы нарушить?150 Внутренняя последовательность данной мысли становится доступной лишь тогда, когда, не ограничиваясь выяснением лишь ее мифического генезиса, мы стараемся понять ее мифический смысл. О том, каков этот смысл, говорилось выше, в главах V и IX (разд. 2). Нуминозная субстанция предков продолжает самотождественное существование в последующих родах, более того, идентичность между умершими, живущими и грядущими обеспечивается именно тем, что эта субстанция неизменно пребывает в настоящем. Если предок был божественным, то его божественность продолжается в идущих от него поколениях, но если он был проклят, если его субстанция была осквернена грехом, то и это, как наследственная болезнь, передается из поколения в поколение (Танталиды) и может быть преодолено только благодаря особой благодати, о чем пойдет речь ниже. Так как человек является ареной борьбы нуминозных сил и сущность его субстанциональна (единство идеального и материального), то его вина понимается исключительно как объективное событие (см. также в этой связи миф об Эдипе). Любое иное понятие вины, основанное на человеческой свободе и автономности, предполагает ту метафизику субъекта, которой мы обязаны Просвещению, до этого совершенно неизвестную людям. Тем не менее представление о какой бы то ни было фатальности греха остается им чуждым. Как мы уже говорили, они могли постоянно рассчитывать на благодать, даже если она могла появиться не без божественной помощи. Борьба нуминозных сил отражается одновременно в человеческих поступках – они неотделимы друг от друга. Страстное апостольское слово должно в буквальном смысле как божественный огонь проникнуть в людей и очистить их от зла. Так, всякая милость и немилость равнозначны в мифе активному деянию.
В гностическом мифе, по Бультману, коренится представление, что евреи – исчадия дьявола (Ин. 8:44). Это представление мало чем отличается по своей структуре от того, что род Танталидов был проклят.
б) Воплощение Бога в Христе
"Мифическая картина мира находит себе соответствие в священной истории", – говорит Бультман151. По его мнению, это прежде всего относится к представлению о том, что "предсущее божественное существо" появилось "на Земле в человеческом облике"152. "Подобно тому как античность и Восток сообщают нам о богах и божественных существах, что они появились в человеческом обличье, так и главный момент гностического
мифа о Спасении состоит в том, что божественное существо. приняло человеческий облик, облеклось в плоть и кровь, чтобы принести откровение и Спасение. В этой мифологии отразилась вера в откровение; она показывает, что 1) откровение – событие потустороннее, 2) это событие, если оно что-то значит для человека, должно осуществляться в человеческой сфере ... Человек знает, что откровение означает, точно так же как он знает, что такое свет или такие жизненно необходимые вещи, как хлеб и вода"153. На самом деле, как уже было показано, постоянная возможность чувственной явленности божественного в человеке выводится из онтологии мифического, и Бультман характеризует эту явленность в ее субстанциальной "вещественности" очень пластично, когда сравнивает ее со светом, хлебом и водой.
в) Замещающее покаяние через распятие Христа
И это тоже, как подчеркивает Бультман, восходит к "мифической картине мира"154. Для прояснения смысла этого события я опять сошлюсь на главу IX, раздел 2. Так как все ответвления рода человеческого связаны с одним общим предком посредством восходящей к нему идентичной мифической субстанции, изменение субстанции в одном сразу же влечет за собой изменение этой субстанции во всех, кто принадлежит этому роду. Из-за мифического неразличения целого и части благодать или искупление одного влечет за собой спасение любого другого, наполненного той же субстанцией. Мифическим вариантом этого является "козел отпущения". Как можно заключить из книги Левит (16), козел, на которого были возложены грехи еврейского народа, был изгнан в пустыню. Понятно, что при этом речь идет не об обычном животном, а о жертвенном, который наполнен мифической субстанцией народа после выполнения соответствующего ритуала. Так избавлялись от своих грехов, искупая их с помощью существа, с которым были связаны через одинаковую божественную идентичность. Так как грех далее воспринимается как заразная болезнь, от него и избавляются как от болезни, то есть устраняют очаг болезни, или искупают вину покаянием. Поскольку кощунство Эдипа было заразой, распространившейся на все Фивы, то только с его наказанием все жители Фив могли быть исцелены. В Новом завете роль козла отпущения играет Христос. Благодаря некоему нуминозному акту в нем сосредоточивается греховная субстанция человечества, и после его искупительной жертвы она превращается в субстанцию божественную; к этому причастен каждый несущий в себе эту субстанцию. Таким образом, на самом деле Христово искупление полностью противоположно падению Адама, являясь той же мифической структурой, хотя и с обратным знаком. Поэтому в Послании к Римлянам (5:18) сказано: "...как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни". Это преображение мифической первосубстанции
человечества не исключает, конечно, возможности личной порочности отдельного человека, который как человек отныне получил искупление и автоматически не подвержен более смерти, но как отдельный человек он может опять утратить свое Спасение.
г) Воскресение Христа во плоти
И это тоже, как и вообще все истории о чудесах, Бультман относит к числу новозаветных мифов'55. Это, конечно, следствие того, что Бультман недостаточно четко разграничил миф и мифологию, точнее говоря, вообще не заметил различия между ними. Миф представляет собой, как уже показано, определенную систему опыта, то есть содержит в себе истолкование и тех явлений, которые мы считаем законом (правилом), и тех, которые мы считаем случайностью. Не закон и случайность исключают друг друга, а скорее закон и чудо, поскольку чудо превосходит закон. В том мире представлений, в котором все сущее преисполнено нуминозной значимости, существует плавный переход от чудесного и чуда к миру опыта, в котором все (по нашим понятиям) определятся либо закономерностью, либо случайностью, и человек здесь склонен вновь и вновь преодолевать эту границу. Пример тому содержится в истории Алкесты, которая из подземного мира вернулась в мир живых. Но поскольку миф как система опыта не нуждается в чуде, а представляет собой явно отделенное от него, замкнутое в себе целое, то целесообразно было бы и концептуально отделить его от всего, что им не является. Впрочем, в главе V (разд. 2ж) уже было указано на то, что отделение мифа от мифологии аналогично отделению науки от того, что обобщенно можно было бы назвать сциентизмом. Подобно тому как мифология выходит за пределы системы мифического опыта, так и сциентизм выходит за пределы науки, превращая ее в более или менее догматическую метафизику. Примером тому являются диалектический материализм или неопозитивизм Венского кружка. Оба придают исторически обусловленной, гипотетическо-дедуктивной системе науки статус якобы абсолютной достоверности.
Воскрешение из мертвых, таким образом, не является чем-то собственно мифическим, но принадлежит в данном случае, как и чудо вообще, к области религии. Мы сталкиваемся здесь с первой ситуацией, когда миф и религия не переплетаются, а идут разными путями.
д) Действие таинств
"Тот, кто относится к христианской общине, – пишет Бультман156, – связан с Господом крещением и евхаристией, и, если он не ведет себя недостойно, воскрешение ему обеспечено. Верующие обладают наследием предков, а именно действующим в них
духом, который удостоверяет, что все они чада Господни, и гарантирует им воскрешение". Но это все, как замечает Бультман, "мифологическая речь" (причем здесь он опять применяет слово "мифологическая" в смысле "мифическая").
В главе XI (разд. 3) подробно говорилось о том, что евхаристия является в сущности актом, непосредственно относящимся к мифу (здесь нет необходимости вдаваться в подробности этого). То же относится и к крещению. И здесь мы находим нечто материальное, а именно воду, которая благодаря определенному ритуалу каким-то образом заряжается нуминозным и как мифическая субстанция проникает в крещаемого. Субстанция, освобожденная от первородного греха благодеянием Христа, в буквальном смысле очищает человека от греха Адама.
Субстанциальность этого акта становится особенно явной, если вспомнить о том, что "дух", укрепляющий спасенного человека, есть пневма. Если поставить это греческое слово вместо слова "дух", то одно место в Послании к Римлянам (8:11) будет выглядеть следующим образом: "Если Дыхание Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Дыханием Своим, живущим в вас". В главе XIV уже говорилось о мифической субстанциальности пневмы, означающей "дыхание, дуновение, ветер". Именно в этом слове некоторым образом выражается "идеально-материальное единство" как категория мифического мышления, в то время как в слове "дух" мы этого уже не слышим. "Идеально-материальный" смысл этого слова выступает в нем на первый план еще и потому, что пневма делает смертные тела живыми и поэтому ни в коем случае не может пониматься только как нечто "психическое".
Сюда же относится восходящая, по Бультману, к гностическому мифу идея, что церковь есть тело Христово или невеста Христова. Нетрудно увидеть в этом еще один вариант свойственного мифу единства целого и части. В совершившемся таинстве пневма Христова и тем самым он сам присутствуют нераздельно, а так как церковь представляет собой совокупность таинств, то это относится и к ней. Но она есть тело Христово, поскольку в ней эта пневма приобретает непосредственно зримый облик.






