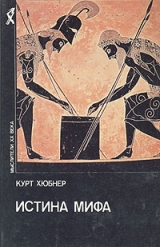
Текст книги "Истина мифа"
Автор книги: Курт Хюбнер
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 39 страниц)
Существует все же не только мифическое, но также и демифологизированное понятие нации. К последнему я теперь хочу обратиться. Конечно, оно может определять нацию также лишь благодаря ее истории и относящемуся к ней пространству; а как отличается при этом Демифологизированное понятие нации от соответствующего ему мифического, можно показать, исходя из приведенных в предшествующем параграфе пунктов.
Первое. Прошлые события выдающегося национального значения хотя и мыслятся как продолжающиеся в нас, но все же лишь в чисто внутреннем, идеальном смысле. Их действенность является не повторением тождественного, а лишь подражанием ему. То, что было, объективно мертво и живет далее лишь субъективно в воспоминании.
Второе. Чувства, вызываемые в нас материальными памятниками истории, "saveur diachronique", являются чем-то чисто субъективным, не связанным с содержанием этих предметов.
Третье. В истории усматривается, с одной стороны, чисто профанная каузальность, а с другой – случай. Воздействие вечного, трансцендентного или судьбы при этом исключается.
Совершенно в ином виде предстает отношение отдельных индивидов к нации. То, что объединяет ее представителей, является не тождественной субстанциональностью, а идеальным союзом, а именно либо равным свободным волеизъявлением, либо выражением стремления к единению, подобным тому, который когда-то объединил кочующие племена. Нация существует, так сказать, лишь в "представлении", она становится понятием, под которое подпадает все, связанное с подобным волеизъявлением или подобным стремлением (причем одно не должно исключать другое). Даже если это стремление объективирует себя в мифе, то такой миф можно было бы объяснить, исходя из него и тем самым представить результатом чисто субъективной фантазии. Там, где демифологизированная идея нации является преобладающей, там предпочитают по возможности, как вошло сегодня в обычай особенно в Федеративной Республике Германии, избегать выражения "нация" и говорить об "обществе".
Как видно, Демифологизированное понятие нации опирается на определенные, согласующиеся с научной онтологией представления: внутреннее и внешнее, идеальное и материальное, понятие и индивидуум, а всеобщее и особенное резко разграничиваются друг от друга; история рассматривается исключительно в свете профанной временности, каузальности и случайности. Следовательно, в форме обоснования нет различия между демифологизированным и мифическим понятием нации, так как в обоих случаях обращаются к онтологическим основаниям, как бы содержательно ни различались они между собой. Впрочем, о том, что такое обоснование вообще не следует оценивать с точки зрения истины или ложности, уже говорилось во 2-й и 3-й частях книги.
3. Современная рядоположенность мифических и немифических представлений о нации.Конституция Федеративной Республики Германии как типичный пример. Преамбула Конституции Федеративной Республики Германии звучит следующим образом: «Осознавая свою ответственность перед Богом и человечеством, воодушевляясь желанием сохранить свое национальное и государственное единство... немецкий народ... для того чтобы придать государственной жизни на переходный период новый порядок... принял... эту конституцию. Она также действует для тех немцев, которые отказались принимать ее. Весь немецкий народ призывается в свободном самоопределении завершить объединение и освобождение Германии».
Что означают эти слова? Вытекает из них мифическое или немифическое понятие нации?
Если свести немифическое понятие нации к его самой узкой формуле, то можно сказать, что благодаря ему нация представляется лишь как субъективная, а не объективная реальность, В свете его нация является чем-то идеальным, представлением, понятием, под которые подпадают все нации с равным свободным волеизъявлением или равным стремлением к единению. В качестве же чисто субъективной реальности она всегда находится в диспозиции. Из этого и следует ее переименование в общество, в которое можно войти и из которого можно выйти по своему желанию.
То, что все это не может подразумеваться преамбулой конституции, становится ясным, если слова "национальное единство" заменить словами "общественное единство", "немецкий народ" – "наше общество" и "каждый немец" – "каждый член нашего общества". Тотчас же бросающаяся в глаза легковесность такой формулировки обязана противоречию между торжественным обращением к божественному, с одной стороны, и в высшей степени профанным понятием общества – с другой. Как можно, кроме того, считать само собой разумеющейся принадлежность проживающих в ГДР к нашему обществу, сожалеть о разделении с ними, и, не имея на то права, говорить от их имени, если не ссылаться на то, что эта принадлежность основывается единственно и только на том, что они являются немцами?* Пафос такого единства нельзя ставить на шаткую почву субъективного волеизъявления или стремления, из которых выводится демифологизированное понятие нации, но он должен относиться к объективной реальности. Лишь тогда такое единство может быть торжественно провозглашено в качестве чего-то неотъемлемого.
Если исходить, следовательно, из такой неотъемлемой, объективной реальности как собственного предмета преамбулы кон-
Напоминаем читателю, что книга К. Хюбнера вышла в свет в 1985 г., т. е. еще до объединения Германии. – Примеч. ред.
ституции, то она немедленно приобретает заключенный в ней смысл: нация представляет собой индивидуум, идентичность которого неподвластна времени и поэтому является чем-то сверхъестественным. Ее история постольку всегда современна, поскольку современна сама нация, так как нация и ее история является одним и тем же. Принадлежность к ней является не субъективной диспозицией, а судьбой и вследствие этого не имеет ничего общего с профанной каузальностью и случайностью. Отсюда торжественность языка, воззвание к божественному, отсюда требование восстановления единства и само собой разумеющееся, хотя и не заверенное право представительства тех, которые отделены от нее. Не выражая это явно и не разъясняя подробно, преамбула конституции все же более или менее неосознанно открывает горизонт представлений, обрисованных в первом разделе этой главы и имеющих мифический характер. Чувства, которые вызываются этим, могут быть неясными, относясь при этом к четко определяемой онтологии.
Если мы теперь перейдем от преамбулы к 1-й статье, абз. 2 конституции, то мы увидим, как эти онтологические основы внезапно заменяются другими. Там говорится: "Достоинство человека неприкосновенно, уважать и защищать его является обязанностью всякой государственной власти".
Что, однако, следует понимать под достоинством человека? Очевидно, под этим подразумевается нравственная ценность. Основателям конституции была знакома такая взаимосвязь нравственности и человеческого достоинства из философии немецкого идеализма, к которой возвращаются, между прочим, после войны как к нетронутому низменными страстями национал-социалистического периода национальному наследию. Согласно Канту, нравственное требование предполагает внутреннюю свободу человека, следовательно, способность сопротивляться внутреннему насилию, например, со стороны своих инстинктов. Лишь тот, кто в этом смысле свободен, способен на ответственные поступки, и лишь тот, кто способен на ответственные поступки, может стать также виновным. Внутренняя свобода делает поэтому человека нравственной личностью, а его достоинство, говорит Кант, заключается единственно в том, чтобы быть такой личностью. (Даже непреодолимое внешнее насилие не может уничтожить внутреннюю свободу и тем самым личность.)
Требуемая для такого достоинства внутренняя свобода в мифе, однако, немыслима. Как, между прочим, показано в главе XXIV, человек, согласно мифу, является ареной действия божественных сил. Вина для него поэтому является объективным событием в том жесмысле, как и болезнь. Кроме того, вместе с понятием внутренней свободы также полагается сильно отличная от внешней внутренняя жизнь, которая в равной степени не знакома мифу. "Я" в мифе в значительной степени субстанционально определяется образом и исчезает чуть ли не полностью за пределами такой своей субстанциональности (см. также гл. V, разд. 2в). Совместима ли преамбула со статьей 1, абз. 1 конституции, коль скоро она апеллирует к совершенно другим онтологическим предпосылкам, чем последняя, здесь нельзя установить. Здесь речь идет исключительно о том, чтобы показать фактическое переплетение мифического и немифического в политических основоположениях нашего государства.
Обратим внимание теперь на еще один раздел в конституции и рассмотрим абзац 2 статьи 1. Там говорится: "Немецкий народ поэтому объявляет себя" (именно из-за достоинства человека) "сторонником неприкосновенных и неотъемлемых прав человека как основы любого человеческого общества, мира и справедливости на Земле".
Права человека, к которым принадлежат, между прочим, свободное, развитие личности, равенство перед законом, свобода вероисповедания, совести и убеждения, являются частью внешней свободы, которая не находится ни в какой непосредственной связи с внутренней свободой и явно должна от нее отличаться. Нет никакого противоречия в рассмотрении человека как в полной мере обладающего своими правами и тем не менее подверженного исключительно своим инстинктам, а следовательно, внутренне детерминированного; и точно так же можно непротиворечиво помыслить себе кого-либо, живущего как раб, но все же внутренне свободного. В только что приведенной цитате из конституции весьма выразительно обосновываются права человека в качестве внешней свободы с помощью достоинства человека как нравственной личности и тем самым посредством его внутренней свободы.
То, что этого на деле не требуется, показал, к примеру, Ф. А. Хайек. По мнению Хайека, права человека должны соблюдаться исключительно потому, что лишь они обеспечивают оптимальный прогресс. Обязательной предпосылкой последнего являются свободное развитие отдельного человека, беспрепятственный идейный обмен и пр., а государственная опека способна лишь затормозить прогресс. Существование же внутренней свободы вообще – это в конечном счете неразрешимая метафизическая проблема, считает Хайек, не вдаваясь при этом в конституцию или даже не упоминая ее192. Из этого можно вывести, что он считал внутреннюю свободу непригодной для обоснования столь важного политического предмета, как права человека.
Правда, рассуждая исторически, возникновение прав человека, несомненно, связано с разрушением мифических и сакральных представлений в политической сфере. Отсюда явствует также то, что права человека являются результатом Просвещения. Все же подобная взаимосвязь имеет характер лишь исторического обоснования, не восходящего к необходимости вещей. Субстанциональная, мифическая связанность человека с нацией ни в коем случае не исключает равноправия ее представителей. Как раз в культурном регионе Греции внешняя или политическая свобода всегда рассматривалась как более высокая ценность. Оба знаме-
нитых тираноубийцы Гармодий и Аристогитон пользовались в Афинах почти культовым почитанием в художественном искусстве и песнях современников, и их деяние чествовали как национальный архетип. В гёльдерлиновском "Гиперионе" это единство политической свободы и мифической идеи нации восходит еще выше и даже в значительной мере определяет все произведение.
Итак, мифическое, немифическое и мифически нейтральное продолжают свое фактическое сосуществование в конституции, из которой вытекает вся политическая жизнь. В ней мы можем наблюдать как в зеркале нашу ситуацию, которая образовалась из различных, отчасти противоположных друг другу течений и в которой встречается древнее предание с новым. Глубина и многообразие жизни позволяют связать друг с другом многое, кажущееся противоречивым, и она сопротивляется чересчур усердному и чуждому реальности желанию объединить все логическим путем под одной крышей.
Итак, конституция явно демонстрирует нам, что мифическое понимание нации ни в коем случае не нужно смешивать с тем национализмом и шовинизмом или той недальновидной надменностью, о пагубных последствиях которых нам еще и сегодня приходится сожалеть. Такая путаница тем проще, что как раз в Германии национал-социалистического периода националистические эксцессы происходили под знаком нового "мифа". В действительности же при этом речь шла о псевдомифе, как будет показано в следующих параграфах.
4. Политические псевдомифы. Теория Р. БартаИз круга обсуждаемых в главе III исследователей мифа особенно К. Керени и М. Элиаде занимались определенными явлениями в сегодняшней политической жизни, которые Керени обозначил как «неподлинные формы» мифа193. Они являются для него ненастоящими формами, потому что они не могут быть рассмотрены как «прафеномены», которые спонтанно возникли или исторически передавались из поколения в поколение, а «сознательно были созданы» для достижения политических целей194. Подобным образом излагает это и Элиаде и приводит, между прочим, в качестве примеров: Римскую Республику как архетип республиканских идей в XVIII и XIX веках, арийских героев как мифический прообраз фашистского расизма, «Золотой век» как символ свободного от классов общества марксистской чеканки и т. д.195
В этом месте, однако, следует прежде всего остановиться на широко известной и привлекающей большое внимание книге Р. Барта "Мифы сегодня"196. Хотя он пытался лишить фундамента миф в целом, но в действительности он описал, не подозревая об этом, лишь структуру политических псевдомифов. Поэтому пусть читатель прежде всего следует за изложением
теории Барта, не путаясь в том, что отчасти уже изложенное вновь, кажется, ставится им под вопрос. Заключающий критический анализ установит, что из этой теории пригодно для различения неподлинных и подлинных мифов, а что нет.
Барт поясняет свои тезисы следующим примером: "Я сижу в парикмахерской, и мне протягивают номер журнала "ПариМатч". На обложке изображен молодой африканец во французской военной форме; беря под козырек, он глядит на развевающийся французский флаг. Таков смысл изображения. Но каким бы наивным я ни был, я прекрасно понимаю, что хочет сказать мне это изображение: оно означает, что Франция – это великая империя, что все ее сыновья, независимо от цвета кожи, верно служат под ее знаменами и что нет лучшего ответа критикам так называемой колониальной системы, чем рвение, с которым этот молодой африканец служит своим так называемым угнетателям"197.
Этот пример Барт анализирует теперь в рамках семиотики. Она отличает означающее от означенного. Означающее может быть к примеру акустическим образом, именно словом, означенное – понятием. Акустический образ, как простое следование тонов, само по себе лишенное значения, становится значащим лишь тогда, когда он воспринимается как знак: слово обозначает понятие. Тем самым, однако, означающий знак наполняет в то же время образ, сам по себе лишенный значения, будь то акустический, оптический (например, сигнал) или еще какой-то. Последний тем самым полностью сливается с ним. Лишь посредством сознательного анализа оба они еще могут быть отделены друг от друга. Точно так же в знаке уже присутствует означаемое, и мы можем лишь с трудом различить одно от другого.
Согласно Барту, существуют первичные и вторичные семиотические системы. Воспользовавшись предыдущим примером, он показывает, как они взаимосвязаны друг с другом. Первичной системой там является образ африканца, который служит знаком для означенного, именно африканец, как определенный индивидуум, с собственной биографией и с непосредственным отношением ко всему миру, в котором он действительно живет. Барт это называет смыслом образа. Вторичная система надстраивается теперь над первичной. Она использует, правда, образ первичной, однако изменяет его первоначальный смысл тем, что использует этот образ для нового знака. Итак, новым означенным теперь становится великая, "делающая людей счастливыми" французская империя. Согласно Барту, из первоначального смысла тем самым получается "форма". Этим он хочет сказать, что смысл сохраняется в ней, но при этом исчезает как в сосуде. Индивидуальный африканец, правда, еще присутствует здесь, но он одновременно представляет всеобщую идею.
Барт иллюстрирует этим примером, что он понимает под мифом. Миф для него является вторичной системой, которая предполагает первичную. Обе относятся друг к другу как метаязык к объективному языку198. Лишь первичная система, по его мнению, указывает на реальность, которую он называет "чистой материей"199, в то время как вторичная вместе с мифической идеей или мифическим понятием в известной степени надстраивается над первичной и поэтому не может вытекать из "природы вещей"200. Более того, мифическое понятие "деформирует" и "отчуждает" первоначальный смысл201, из-за чего Барт назвал миф "похищенным языком"202. Все же первоначальный смысл исчезает не полностью, напротив, он вновь возвращается: ставший фоном, простой формой африканец, который теперь должен служить знаком для французского империализма, остается все же одновременно этим конкретным и индивидуальным африканцем. Именно такую "деформацию", которая все же не является разрушением, миф, согласно Барту, и использует в собственных целях. Именно в силу этого возникает "беспрерывное вращение", при котором "первоначальный" смысл означающего и его форма, его объективный язык и его метаязык меняются друг с другом местами203. Тем самым возникает впечатление, будто представляющий империализм африканец является одновременно действительным африканцем. Тем самым он предоставляет мифу частичное "алиби"204. "Смысл существует всегда для того, чтобы форму наполнить настоящим, форма всегда существует для того, чтобы уклониться от смысла"205. Подобно тому как лишь интеллектуальное усилие позволяет различить в семиотике знак и означенное, так и здесь различается смысл и форма, старый и новый знак. Мифическое значение тем самым "укрепляется" в качестве "факта", который одновременно придает ему "позу покинутости"206. Миф позволяет проявляться своей форме как системе фактов, он "читается как система фактов", в то же время он Представляет все же лишь "вторичную" семиотическую систему207. Тем самым он придает себе видимость "природы", даже "вечного обоснования", в котором индивидуальная жизнь "застывает"208 в известной степени до репрезентации используемых в корыстных целях индивидов, и все же в действительности он порождает лишь "псевдоприроду"209. Так, миф разоблачается в конце концов Бартом как идеология, то есть он выражает лишь "интересы определенного общества"210.
Но в чем же заключается более точный смысл той "чистой материи", то есть "реальности", "природы" и "факта", к которым, согласно Барту, относится лишь объективный язык первичной системы? Она состоит, по его мнению, из "совокупности человеческих отношений", а также их "социальной структуры", в общем и целом в них находится "власть над производством мира"2". Немифический, "реальный язык" является для него языком, "продуцирующим человека"212. Мы находим его повсюду, "где человек говорит для того, чтобы изменить реальность"2'3. На нем разговаривает лесоруб, когда говорит "дерево", на нем разговаривает крестьянин, когда говорит "хорошая погода". В обоих случаях полагаются объекты, которые связываются с работой214.
На этих основаниях язык мифа для Барта является языком буржуазии, в то время как "левые" нуждаются в мифе не "по существу", а в лучшем случае "по тактическим соображениям"215. Они, сделавшись защитниками людей труда, угнетенных и всего революционного, борются именно против псевдоприроды буржуазии и разоблачают тем самым заблуждение семиотически вторичной системы216.
Таков анализ Барта. Как легко можно увидеть, его основная слабость заключается в утверждении, что первичная семиотическая система каким-то образом относится к свободной от мифа реальности. Такое утверждение не является ни исторически точным, ни теоретически оправданным.
Его историческая неточность заключается в том, что в мифической культуре вся реальность, следовательно, и процессы труда, объясняются мифически. Даже современному крестьянину мы не можем приписывать, будто он рассматривает хорошую погоду исключительно с точки зрения своей экономической деятельности, а не включает в нее нечто мифическое. Как раз у него старый обычай и предание все же никоим образом полностью не исчезли. Между прочим, в наше время имеются угнетенные, которые именно потому угнетаются, что они отклоняют представления Барта о реальности. Так, например, колониализму, который Барт рассматривает как особенно характерный пример для своих тезисов, может быть поставлено прямо в упрек то, что он сам сделал себя чужим для туземцев, заставлял их отказаться от своей мифически-магической связи с природой в качестве лесоруба, крестьянина, горняка и тому подобного для того, чтобы перенять нашу абсолютно профанную установку не видеть в природе ничего другого, кроме источника сырья для индустриального производства.
Что касается, однако, теоретической проверки утверждения Барта о свободном от мифа отношении семиотической первичной системы к реальности, то уже в третьей части этой книги мы достаточно показали, что нет вообще никакой "чистой материи" или природы в себе, а лишь различные истолкования реальности, причем немифическая интерпретация не может претендовать на какое-либо преимущество перед мифической.
Вместе с крушением попытки Барта разоблачить миф в целом как систему видимости рушится также его план приписать эту систему видимости исключительно правым политическим силам. Но это было бы возможно лишь в том случае, если бы только левые защищали истинную реальность и "чистую материю", которой вообще не существует. Так, можно собственный пример Барта использовать с "противоположной стороны" и сказать: "Я сижу в парикмахерской, мне протягивают номер "Юманите". На обложке рабочий, подняв сжатый кулак, посылает приветствие, взгляд его при этом направлен на развевающийся советский флаг" и т. д. Рабочий здесь находится на месте африканца, советский флаг – на месте французского триколора, и тем самым идея мировой революции – на месте идеи французского империализма. Не требуется никакого дальнейшего разъяснения, чтобы установить, что между обеими картинками, в "ПариМатч" и "Юманите", формально не существует никакого семиотического различия.
Но хотя Барту не удалось показать, что миф является простой видимостью, он все же, не зная этого, подготовил почву для теории политических псевдомифов.
Правда, то, что Барт обозначает как миф, фактически обнаруживает мифические структуры: в африканце должны сливаться друг с другом всеобщее и особенное, целое и часть; с одной стороны, он является индивидуальным африканцем, с другой стороны, он тождествен французской нации; целое живет в нем как часть; "смысл" и "форма" здесь неразрывно друг с другом связаны; тем, что нация в нем получает свой образ, он, как индивидуум, "застывает" в ее вечности, которая одновременно является настоящим ее истории и ее прошлым и т. д. И все же такие структуры не смогут ввести в заблуждение относительно того, что речь идет о псевдомифе, если реальность, к которой относится первичная система, фактически не является мифической или по крайней мере противоречит идеям, выраженным во вторичной системе. (Причем здесь еще вовсе не доказано, имеет ли это место в примере, приведенном Бартом.) Лишь тогда видимость и бытие, естественный и искусственный мир резко не соответствуют друг другу, имеет место деформация, отчуждение и позы пустых провозглашений, как их описал Барт. Поэтому Керени и Элиаде интуитивно верно поняли, что политические псевдомифы могут быть узнаны по тому, что они хоть и указывают на мифические структуры, но не возникают спонтанно и не вырастают исторически, а сознательно формируются для достижения определенной цели. При этом они вообще-то не заметили, что изначально подлинный миф может также стать псевдомифом, в частности тогда, когда он больше не "переживается", но должен быть сохранен насильно или введен искусственным образом.
Классический пример этого дает так называемое восстановление Августа, а именно попытка римского императора Августа вновь придать государству мифическую основу. "Энеида" Вергилия сыграла в этой связи выдающуюся роль. И все же миф в ней, несмотря на все мастерство, поблекнув и опустившись до произведения искусства, более не живет с такой равно наивной и изначальной силой, как у Гомера.
Тем самым я вновь перехожу к мифу о нации. Этот миф не только исторически сформировался, но обладает, как уже было показано, силой, которая все еще продолжает действовать во всех без исключения современных странах, образуя основу государства. В Конституции Федеративной Республики Германии ему даже отводится ключевая роль. Отчасти противоположные ему представления и стремления, также испытавшие поражение, могут
лишь ослабить его, но разрушить его они не в состоянии. Сегодня все страны все еще считаются национальными государствами, даже те, которые состоят из многих народов, как Соединенные Штаты, Советский Союз, Швейцария. В этом вновь выражается то, что идея нации, продолжая действовать как на Востоке, так и на Западе, не зависит от политической системы, в которой она проявилась, и, следовательно, не должна быть брошена в один сосуд вместе с национализмом, шовинизмом или т.п. тенденциями. Прежде все планы, ведущие к преодолевающим национальные границы государственным образованиям, например идея объединенной Европы, оставались чистой утопией. Поэтому когда де Голль сказал, что может быть лишь Европа национальных государств, то он тем самым указал, вне сомнения, на существующую реальность. Исходя из этого, миф нации по-прежнему должен считаться подлинным мифом217.
Здесь нужно все же указать на то, что подлинный миф не должен приветствоваться только потому, что он подлинный. Некоторые мифы такого рода, существовавшие в прошлом или существующие в настоящее время, например мифы известных, еще живущих сегодня индейских племен, могут нас привлекать, другие же, напротив, отталкивать. Даже гомеровские греки имели свое "средневековье", от которого они с ужасом отворачивались, о чем упоминалось в V главе (разд. 36). Конечно, подлинный миф могут отбросить лишь те, для кого он не образует основы их собственной жизни. Они в таком случае станут измерять его ценность по критериям, вытекающим из своего собственного, иначе сформированного круга культуры.






