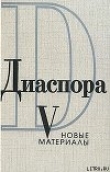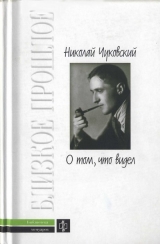
Текст книги "О том, что видел: Воспоминания. Письма"
Автор книги: Корней Чуковский
Соавторы: Николай Чуковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц)
Все эти стихи я узнавал сразу же после их написания, потому что он вкладывал их в свои письма ко мне. У меня накопилась большая кипа его писем, и я очень жалею, что впоследствии утратил их. Переписка наша продолжалась до тех пор, пока он не поссорился с Горьким. Поссорившись с Горьким, он перестал переписываться с людьми, жившими в Советском Союзе, в том числе со мной.
Я не знаю обстоятельств его ссоры с Горьким, но думаю, что она была неизбежна. Однако, если бы они не жили за границей так тесно, эта ссора разыгралась бы, вероятно, позднее. При длительном близком общении Ходасевич с его вздорным характером, с его самомнением, презрительностью, мнительностью, суетностью был невыносим. Поссорившись с Горьким, он сразу же скатился в болото белогвардейской эмигрантщины. Он стал сотрудничать в газете «Русь» и писать хвалебные рецензии о стишках каких-то великих княжон.
Умер он в конце тридцатых годов, перед Второй мировой войной. О заграничной жизни своей написал он в одном из своих поздних стихотворений, которому дал название «Зеркало».
Я… я… я… Что за странное слово?
Неужели вон тот – это я?
Разве мама любила такого
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
Разве мальчик, в Останкине, летом,
Танцевавший на дачных балах,
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, ненависть, страх?
Так бывает всегда в середине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины к причине,
А глядишь – заблудился в пустыне
И своих же следов не найти.
Нет, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала,
И Вергилия нет за плечами,
Только есть одиночество в раме
Говорящего правду стекла.
Коктебель
С Максимилианом Александровичем Волошиным я познакомился весной 1922 года во время его первого после революции и Гражданской войны приезда в Петроград. Как поэта тогдашняя литературная молодежь знала его мало и мало им интересовалась, считая его одним из второстепенных подражателей Брюсова. С ним связывались представления скорее даже несколько комического, анекдотического свойства. Например, все знали, что Саша Черный в одном из своих предреволюционных стихотворений назвал его Вакс Калошин. Многим было известно, что прозвище это намекало на следующую историю.
Однажды, в годы перед Первой мировой войной, осматривая декорации Александра Бенуа за кулисами Мариинского театра, Гумилев и Волошин, оба сотрудники «Аполлона», поссорились и оскорбили друг друга. При оскорблении присутствовали посторонние, в том числе и Бенуа, и потому решено было драться на дуэли. Местом дуэли выбрана была, конечно, Черная речка, потому что там дрался Пушкин с Дантесом. Гумилев прибыл к Черной речке с секундантами и врачом в точно назначенное время, прямой и торжественный, как всегда. Но ждать ему пришлось долго. С Максом Волошиным случилась беда – оставив своего извозчика в Новой Деревне и пробираясь к Черной речке пешком, он потерял в глубоком снегу калошу. Без калоши он ни за что не соглашался двигаться дальше, и упорно, но безуспешно, искал ее вместе со своими секундантами. Гумилев, озябший, уставший ждать, пошел ему навстречу и тоже принял участие в поисках калоши. Калошу не нашли, но совместные поиски сделали дуэль психологически невозможной, и противники помирились.
Вот и все, что сохранилось у меня в памяти из этого рассказа, хотя я слышал его с множеством подробностей от обоих участников. Гумилев рассказывал о дуэли насмешливо, снисходительно, с сознанием своего превосходства. Макс – добродушнейше смеясь над собой.
Доброта, добродушие было самой заметной чертой этого коренастого толстяка, широколицего бородача с маленькими голубенькими крестьянскими глазками. Глядя на его потертый пиджачок, надетый поверх косоворотки, трудно было себе представить, что до Первой мировой войны он жил в Париже больше, чем в России, носил цилиндр, монокль. Борода у него тоже была мужицкая, рыжевато-каштановая, с проседью, и он постоянно ухмылялся в нее большим добрым ртом. Годы Гражданской войны провел он безвыездно в Крыму, у себя в Коктебеле, жил и под белыми, и под красными (не одобрял ни тех, ни других, отлично ладил и с теми, и с другими). Он с гордостью рассказывал, как при белых он хлопотал за арестованных красных, а при красных – за арестованных белых. Возможно, было в этой «нейтральности» немножко и позы. Прислушиваясь к его рассказам, – а он был говорлив, – легко можно было заметить, что красные ему все-таки куда милее белых. Он с негодованием рассказывал о зверствах белогвардейского офицерства, об его тупости. Осенью двадцатого года, после Перекопа, он не убежал с белыми в Константинополь, хотя имел к тому полную возможность; белые пугали его, что красными он будет расстрелян, сами угрожали ему расстрелом, но он спрятался и остался. О писателях-эмигрантах говорил он с открытой враждебностью. Проездом в Петроград он остановился в Москве и не без гордости рассказывал, как хорошо был встречен Брюсовым, – который был в то время коммунистом и, в сущности, руководителем всей московской литературной жизни.
В двадцать четвертом году приехал он в Ленинград с женой, Марьей Степановной. Первая его жена была Сабашникова, судя по фотографии, красивая женщина – из известной семьи московских купцов и издателей. Марья Степановна была маленькая женщина, очень ему преданная и трогательно считавшая его великим поэтом и великим человеком. «Когда я была девушка, – рассказывала она, – все мои подруги мечтали выйти замуж за красавцев, или генералов, или богачей. А я говорила: не нужно мне ни красавца, ни генерала, ни богача, был бы мой милый умен. Так и получилось». Говорилось это с наивным простодушием, чуть-чуть наигранным. Марья Степановна была по образованию фельдшерица, и именно как фельдшерица попала в коктебельский дом Волошина, – ухаживала за матерью Макса во время ее предсмертной болезни и осталась в доме хозяйкой.
В тот их приезд в Ленинград я встретился с Волошиным дважды – у Марии Михайловны Шкапской и дома у моих родителей.
Мария Михайловна Шкапская была автором книжки стихов «Mater dolorosa», в которой описывались страдания женщины, сделавшей аборт и оплакивающей нерожденного ребенка:
Да, говорят, что это нужно было…
И был для хищных гарпий страшным корм,
И тело медленно теряло силы,
И укачал, смиряя, хлороформ.
И кровь моя текла, не усыхая —
Не радостно, не так, как в прошлый раз,
И после наш смущенный глаз
Не радовала колыбель пустая.
Это была очень милая женщина, средних лет, писавшая стихи, жена инженера, мать двух прелестных мальчиков. Жила она на Петроградской стороне, и у нее тоже был литературный салон вроде наппельбаумовского, но поменьше, и посещали ее преимущественно литераторы, обитавшие на Петроградской стороне. Среди частых ее посетителей были Н. С. Тихонов, живший на Зверинской, и Ю. Н. Тынянов, живший на углу Большого и Введенской. Бывал у нее и В. А. Каверин – живший там же. Я захаживал к ней редко, потому что жил от Петроградской стороны далеко. По-видимому, я в тот раз пошел к ней только для того, чтобы послушать Волошина.
Стихи Волошина произвели на меня большое впечатление. Это было совсем не то, что я ожидал. Ни брюсовщины, ни гумилевщины не оказалось в них ни капли – никакого «Аполлона». Это были серьезные живые раздумья о России, о революции, об истории, о только что утихнувшей Гражданской войне, выраженные в несколько тяжеловатых, длинноватых, но страстных и искренних стихах. Особенно запомнилось мне «Видение Иезекииля» – лучшее, по-моему, из всего, что написал Волошин. Много в его раздумьях было наивного: он представлял себе революцию стихийным бунтом, чем-то вроде пугачевщины, он писал об истории как о чем-то извечно повторяющемся и потому безысходном, он, подобно многим интеллигентам того времени, считал самого себя стоящим над схваткой, тогда как в действительности он стоял под схваткой – и при всем том стихи эти были значительны, необычны, полны любви к родной земле, к людям, пронизаны тревогой и добротой, озарены солнцем южной России и овеяны сухим ветром степей.
Читал он долго, а когда кончил, Марья Степановна стала петь. Песни у нее были самодельные – она брала стихотворения Сологуба или Блока, подбирала к ним мотив и пела тоненьким-тоненьким, слабеньким голоском. Особенно удавалась ей «Заря-заряница» Сологуба:
Заря-заряница,
Красная девица,
Мать Пресвятая Богородица.
По всей земле ходила,
Все страны посещала,
В одно село пришла,
Все рученьки оббила,
Стучать не достучала,
Приюта не нашла.
Заря-заряница,
Красная девица,
Мать Пресвятая Богородица.
Ее от окон гнали,
Толкали и корили,
Бранили и кляли,
И бабы ей кричали:
Когда б мы всех кормили,
То что б мы сберегли.
Пока она пела, Макс с любовью, с затаенным восхищением, с гордостью искоса поглядывал на нее маленькими, лукаво-добродушными глазками.
Через несколько дней Волошины обедали у нас на Кирочной. Отец мой встретил Макса приветливо, как старого знакомого. Макс вначале держался слегка застенчиво, – чувствовалось, что за несколько лет, проведенных вдали от больших городов, у него появилась робость провинциала. Но уже за супом он разговорился и не без удовольствия стал рассказывать, как уважительно приняли его в Москве.
Во все время этого рассказа Марья Степановна, заботясь о том, чтобы он не уронил своего достоинства, громким звонким голосом вставляла свои пояснения и дополнения, имевшие своей целью доказать, что любые почести, оказываемые Максимилиану Александровичу, не могут поколебать независимости его взглядов.
После обеда Макс читал свои стихи – те же самые, которые я слышал у Шкапской. Отец мой вежливо хвалил их, восхищался отдельными удачными выражениями, но по тону его я понял, что стихи понравились ему не очень и что он, как и раньше, считает Макса поэтом второстепенным. Показалось мне, что понял это и сам Макс. В его ответах на вопросы отца появился холодок.
Однако отношения скоро опять утеплились – после обеда все мы собрались в кабинете. Марья Степановна запела, и пение ее привело отца в восторг. Он растрогался, на глазах у него заблестели слезы. «Зарю-заряницу» он издавна любил и все заставлял Марью Степановну петь снова и снова:
Огонь небесный ярок.
Высок, далек да зорок
Илья святой пророк.
Он встал, могуч и жарок,
И грозных молний сорок
Связал в один клубок.
Заря-заряница,
Красная девица,
Мать Пресвятая Богородица.
По облачной дороге
На огненной телеге
С зарницей на дуге
Помчался он в тревоге.
У коней в бурном беге
По грому на ноге.
Конечно, восхищение отца пением Марьи Степановны не могло возместить его холодности к стихам Макса. Макс принадлежал к числу тех литераторов, которые не сомневаются в величии всего, что они пишут, и позволяют слушателям только восхищаться. Марья Степановна постоянно говорила о нем в его присутствии как о гениальном человеке, и он выслушивал ее восхваления с довольной, ласковой и снисходительной улыбкой. И мой отец, несмотря на искреннюю свою симпатию к Максу, навсегда остался с Волошиным в далековатых и прохладных отношениях.
Однако он получил приглашение пожить у них на даче в Коктебеле на берегу моря и летом 1923 года воспользовался им. У Волошиных прожил он месяц и вернулся из Крыма довольный, помолодевший, с лукавыми глазами.
Весной 1924 года я женился. Нам с женой хотелось уехать куда-нибудь на юг, но денег у нас почти не было. И отец сказал мне:
– Давай я напишу Волошиным. Не сомневаюсь, они пригласят вас.
В ответ на папину открытку пришло любезное письмо, и в июне мы с женой поехали. В то время поезд из Ленинграда в Феодосию шел четверо суток. И я, и жена, мы до тех пор редко покидали родной город, и потому путешествие это запомнилось мне на всю жизнь. Ехали мы в жестком бесплацкартном вагоне, и спал я на багажной полке. Погода стояла прекрасная, поезд шел на юг, в лето, подолгу стоял на маленьких станциях, я бегал за кипятком по прогретым доскам платформы, покупал яйца, калачи, пряники, жадно вдыхая запахи паровозной гари, земли, травы, листвы. Большинство наших спутников менялось чуть ли не на каждой станции. На Украине все разговоры полны были еще воспоминаниями о Гражданской войне. В вагон заходили бешеные деревенские коммунисты, едущие в город на съезд – в рубахах, в высоких сапогах, с папками в руках, – и вдруг узнавали какого-нибудь притихшего бородача, сидящего в проходе на туго набитом мешке:
– Мы тебя, куркуль, знаем, ты махновцев прятал!..
А за окном медленно темнело, пахло горячей степной сушью, птицы прыгали в пыльных посадках, и небо казалось все огромней.
В Феодосию поезд пришел во вторую половину дня, у вокзала мы наняли линейку, и тот путь до Коктебеля, который теперь на машине преодолеваешь за полчаса, занял у нас часа два с половиной. С удивлением глядел я на залитые вечерним солнцем бурые и рыжие феодосийские бугры. С одного из бугров уже в сумерках увидел я впервые очертания трех знаменитых коктебельских гор – Карадага, Святой и Суурюк-Айя, – очертания, которые впоследствии стали для меня такими родными и от которых всю жизнь у меня замирало сердце, сколько бы я раз на них ни глядел. К волошинскому дому мы подъехали уже в темноте. Смутные облики неведомых мне деревьев теснились вокруг. На перилах открытой терраски сидело семь женских фигур – все в белом. Когда мы с женой слезли с линейки, они воскликнули в один голос:
– И этот женатый!
Волошины приняли нас ласково, дали нам комнату. В этом вовсе не было проявления особого к нам внимания. В их странном доме всех принимали так, даже совсем незнакомых. Московский студент-первокурсник Кот Поливанов, пробираясь летней ночью 1924 года на Карадагскую зоологическую станцию, где он собирался поработать, заблудился, вышел к волошинскому дому и попросился переночевать; и не только застрял там на все лето, но потом в течение четырех десятилетий приезжал туда ежегодно проводить свой отпуск. Без всяких просьб и оснований во множестве жили у Волошиных самые разные литераторы, окололитературные люди и многочисленные дамы и девицы. Кормились все за свой счет и кто как умел. Мы с женой вступили в «коммуну», которую организовали человек пятнадцать, кормившихся в складчину. Готовила нам специально приглашенная феодосийская дама Олимпиада Никитишна, которая потом много лет работала сестрой-хозяйкой в коктебельском Доме творчества Литфонда. Брала она гроши, но у Макса и Марьи Степановны не было и этих грошей, и они всегда охотно соглашались поесть нашего супа и нашей рыбы.
Жили Волошины крайне бедно, на наш нынешний взгляд даже нище. Макс не зарабатывал ничего, а Марья Степановна, лечившая как фельдшерица больных в деревне, получала за свои труды копейки. В их распоряжении было два больших дома – свой и стоящий позади «юнговский», принадлежавший детям известного окулиста и путешественника Юнга, который когда-то владел всей коктебельской долиной; эти Юнги жили в одной из комнат своего дома еще и при нас, но я их помню совсем смутно. Бедностью своей Макс не тяготился нисколько и, казалось, не замечал ее. От своих гостей он хотел лишь одного – чтобы они восхищались его стихами и мудростью.
И гости охотно и щедро платили ему восхищением. Одни потому, что это им ничего не стоило, другие – большинство – совершенно искренне.
Стихи читались по вечерам, каждый вечер, а в течение дня все были свободны. Свобода, постоянное чувство свободы – в этом была главная прелесть коктебельского житья. Прямо перед волошинским домом находились два пляжа, мужской и женский, ничем не огороженные и, в сущности, почти рядом. Женский пляж назывался «геникей», а мужской, соответственно, «мужикей». В то лето на мужском пляже царили Саша Габричевский и Антон Шварц. Оба они были рослые, красивые, тридцатилетние и казались мне тогда образцом зрелой мужественности. Александр Георгиевич Габричевский был знатоком Гёте, много говорил о немецкой литературе, презрительно отзывался о Шиллере. «Гёте это подлинный человек, т. е. в нем женское и мужское начало слиты воедино, – рассуждал он, – а Шиллер это мужчинка с жидкими ляжками». Был он поклонник Ницше, что уже тогда, в двадцатые годы, накладывало на него отпечаток милой старомодности. Он прелестно грассировал, был очень начитанный человек, глубоко порядочный и с неизменным чувством собственного достоинства, говорун, остряк, женолюб, умница, пьяница, не имевший ни малейшего пристрастия к труду и нисколько не сожалевший об этом. Наши жены оказались родственницами, и мы хорошо сошлись на всю жизнь. Габричевский был создан для Коктебеля, – солнце, море, горы, вино, стихи, дамы, разговоры, книги, – лучшего в жизни он не искал. И он застрял в Коктебеле навсегда. Зимы проводил в Москве, а ранней весной отправлялся в Коктебель и оставался там до поздней осени. Там, в собственном уже домике, живет он и сейчас, в 1959 году, – крупный одноглазый старик, почти глухой, но с отличной осанкой, грассирующий, добрый и благородный, по-прежнему чтущий Ницше и прибавивший к своим прежним увлечениям увлечение Кафкой и абстракционистами.
Сидеть на пляже в трусах или в купальниках считалось в те времена в Коктебеле дурным мещанским тоном. Валялись на пляже и купались нагишом. В геникее было куда более людно, чем в мужикее, и женщины непрестанно перекликались с мужчинами. Каждый день с женского пляжа к мужскому приплывала Леля Кашина – красивейшая женщина того далекого коктебельского лета, двадцатишестилетнее белокурое чудо из прежде богатой купеческой семьи. Незадолго перед тем она вышла замуж за Николая Николаевича Евреинова, но мужа в Коктебель не привезла. Она подплывала к мужикею и, лежа на животе у берега в мелкой воде, затевала глубокомысленные разговоры с Антоном Шварцем, который очень ей нравился, а мы тем временем любовались ее крупным, розовым, молодо полнеющим телом. Леля Кашина была по взглядам фрейдистка и даже напечатала книжку, называвшуюся «Эротическое у Достоевского» или что-то вроде этого. Во время прогулок она в форме всех камней и скал видела эротические символы и важным наукообразным языком объясняла остальным свои открытия. Год спустя она уехала с Евреиновым в Америку. А еще через год я в одном американском журнале встретил ее фотографию с надписью «Helene Kashina, famous russian psychologist» («Елена Кашина, знаменитый русский психолог» – англ.).
На прогулки ходили сообща, – обычно под предводительством Макса. Несмотря на свою тучность, он ходил легко, быстро и неутомимо. В подпоясанной по животу рубахе, похожей на хитон, в штанах до колен, с толстыми голыми икрами коротких ног, бородатый, со шнурком в крупнокудрявых волосах, он был похож на Посейдона. Он любил Коктебель нежной любовью и старался заразить ею каждого. Каждому он хотел показать все. Мы изнемогали, поднимаясь вслед за ним на кручи, мы не осмеливались следовать за ним по каменным карнизам над бездной, где он шагал так же уверенно, как по ровному полю. Жар солнца не смущал его, – он всегда ходил с непокрытой головой. Природа Коктебеля поразительно разнообразна – за час ходьбы можно попасть и в степи, похожие на пустыни, и в скалистые горы, и в горные дубовые леса. И всюду – море. У Макса каждая отдельная местность вызывала особые ассоциации – преимущественно историко-культурные. Он часто говорил, что Коктебель напоминает ему греческие острова в Эгейском море, где он бывал в молодости. В мастерской его – так он называл свой рабочий кабинет, ибо был не только поэт, но и художник, – хранился – и сейчас хранится – кусок днища деревянного корабля, настолько древнего, что доски его сбиты гвоздями, сделанными из бронзы, и Макс уверял, что это обломок того самого корабля, на котором аргонавт Ясон плыл за золотым руном. Он знал названия каждой горки и каждой долинки вокруг, а если не знал, то сам выдумывал. Например, существовала долина, которая называлась Ассирия, – он уверял, что в древней Ассирии были точь-в-точь такие пейзажи. Мыс, постоянно менявший цвет, когда над ним проходили облака, он назвал Хамелеоном, – название это сохранилось до сих пор.
Во время одной долгой прогулки по берегу мы дошли до того места, откуда был виден синеющий вдали мыс Меганом. Я сразу же вспомнил стихи Мандельштама:
Туда душа моя стремится,
За мыс печальный Меганон,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон.
Мандельштам плохо расслышал название мыса, и Меганом у него превратился в Меганон.
Вообще в Коктебеле мне постоянно припоминались стихи Мандельштама, привезенные им из Крыма в 1920 году. Мне казалось, что никогда еще в мировой поэзии природа Крыма не была изображена лучше и богаче, чем в мандельштамовском стихотворении:
Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
– Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем, – и через плечо поглядела.
Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа да собаки. Идешь, никого не заметишь.
Как тяжелые бочки спокойные катятся дни.
Далеко в шалаше голоса – не поймешь, не ответишь.
После чая мы вышли в огромный коричневый сад,
Словно веки на окнах опущены черные шторы,
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где прозрачным стеклом обливаются сонные горы.
Я сказал: «Виноград как старинная битва живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке».
В камедистой Тавриде наука Эллады, и вот
Золотых десятин благородные ржавые грядки…
Проходя километры по берегу у самого прибоя, я постоянно повторял про себя последнее четверостишие этого стихотворения:
Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Целый день грохотали морские тяжелые волны
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.
Так как Макс тоже постоянно сравнивал Крым с Элладой, я напомнил ему эти стихи. Но он отнесся к ним сдержанно. Он не очень любил стихи Мандельштама. Как о человеке он отзывался о нем с симпатией, но насмешливо. Он вообще не любил, когда слишком хвалили чьи бы то ни было стихи, кроме его собственных. И все же он ценил Мандельштама несравненно больше, чем Пастернака. О стихах Пастернака он говорил с откровенной враждебностью. Когда однажды на берегу я прочел ему отрывок из Пастернака, где морская пена сравнивается с пеной на пиве, он возмутился и сказал:
– Пиво можно сравнивать с морем, а не море с пивом!
Зато о Гумилеве он всегда говорил любовно. Гумилев, как и он сам, шедший от Брюсова, был ему ближе, роднее. Он с удовольствием вспоминал, как Гумилев гостил у него в Коктебеле, – кажется, летом 1916 года. Я помню его рассказ о том, как они с Гумилевым ловили скорпионов и заставляли их пожирать друг друга.
Скорпионы водились в той самой долине, которая называлась Ассирией. Макс и Гумилев охотились там за ними и приносили их в стеклянных банках на дачу. На даче они устраивали скорпионам гладиаторские состязания. Два скорпиона – один гумилевский, другой волошинский – сажались в стакан. В стакане они вступали в драку, и сильный пожирал слабого. Так отбирались самые сильные скорпионы; потом этих силачей стравливали друг с другом, пока не остались только сильнейшие. Победителем этого состязания оказался Гумилев – у него был скорпион, который мог пожрать любого другого скорпиона, сколько бы их ни подсаживали ему в стакан.
По временам в Коктебеле устраивались веселые пиры. Инициаторами всегда были гости Макса, сам Макс и Марья Степановна участвовали в них только как гости своих гостей. За вином шагали в деревню днем всей компанией, захватив с собой множество жестяных чайников. В те времена всякий человек, отправлявшийся в далекое железнодорожное путешествие, брал с собой большой чайник, чтобы наливать его кипятком на станциях, и, следовательно, чайников у гостей Макса было достаточно. Чайники надевали за ручки на два длинных шеста, двое мужчин брали каждый шест за концы и, сопровождаемые всеми, двигались в деревню. В деревне все чайники доверху наливались молодым белым вином. Летом 1924 года крестьяне-болгары, жившие в Коктебеле, брали за кружку вина, вмещавшую полбутылки, пятьдесят копеек. На обратном пути тащить чайники было тяжело, носители шестов часто сменялись. Устраивались привалы для отдыха, садились на горячие от солнца каменные ступеньки болгарских домиков. Терпения, разумеется, не хватало, и пить начинали на этих привалах – сосали вино из носиков чайников, и на волошинскую дачу приходили уже слегка навеселе. Приглашали Волошиных, и начинался пир. Макс и Марья Степановна, охмелев, были очень трогательны. Они садились рядком, обнимались и дружно пели:
Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут налету…
На этих пирах все очень сдружались, переходили на «ты». Я сам был на «ты» с Максом, несмотря на почти тридцатилетнюю разницу в возрасте.
По вечерам после ужина все население обеих дач собиралось у Макса на «вышке». «Вышкой» называлась открытая площадка на крыше дачи, куда можно было подняться по деревянной лестнице. Днем оттуда был прелестный вид на Коктебельскую бухту, на Карадаг, на окрестные холмы. Глядя с «вышки» на Карадаг, можно было заметить, что карадагская скала, обращенная к морю, напоминает своими очертаниями исполинский профиль Макса. Сходство и впрямь было поразительное, – Максин лоб, Максины глазные впадины, Максин нос, Максина борода. Макс гордился этим сходством и даже воспел его в стихах:
И на скале, замкнувший зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.
Но по ночам с башни ничего не было видно, кроме неба и моря. В лунные ночи по морю бежала серебряная дорожка, в безлунные – пропадало и море, и «башня» казалась кораблем, плывущим среди созвездий. Несмолкаемый звон цикад доносился снизу. Мы все усаживались кругом на низеньких скамейках, устроенных вдоль перил «вышки». И начиналось чтение стихов.
Больше всего читал сам Макс. Слушать его полагалось с благоговением, и слушали с благоговением. В сущности, в этом благоговении состояла единственная плата, которую он принимал за свое гостеприимство. Если память мне не изменяет, в первое время после моего приезда на «вышке» читали свои стихи кроме Макса только двое – я и Евгений Ланн. Стихи у Евгения Ланна были беспомощные, малопонятные, но очень претенциозные, с каким-то харьковским шиком. Однако Макс охотно удостаивал их благосклонной похвалы – так же, как и мои. Мы в своем ничтожестве не были для него соперниками, и он был к нам куда щедрее, чем к Мандельштаму и Пастернаку.
Так в то лето шла коктебельская жизнь, пока не приехал туда, в гости к Максу, Андрей Белый. С приездом Андрея Белого многое изменилось.
Его ждали давно и с волнением. Гостей Макса волновала возможность близкого знакомства со знаменитым писателем. Макса волновала встреча со старым знакомым, которого он не видел уже восемь лет. Андрей Белый находился тогда на вершине своей славы. Он был близок тогдашней интеллигенции, потому что пережил – начиная с 1905 года – все те наиболее типичные колебания, которые пережила она сама. Как и Блок, начал он с соловьевства. После 1905 года он выпустил «Пепел» – самую лучшую и самую реалистическую из своих стихотворных книг, полную любви к революции и ненависти к старой России. На стороне революции стоял он и в «Петербурге» – талантливом романе о борьбе с самодержавием. Да и революцию изображал он в «Петербурге» как борьбу эсеровских заговорщиков с царскими администраторами. В годы реакции он поддавался всем реакционным влияниям – главным образом мистико-религиозным. В 1914 году он мечтал о «разгроме тевтонов», в 1916-м – о революции и о мире без аннексий и контрибуций. Февральскую революцию встретил восторженно. В 1917 году развивался все влево и влево и восторженно встретил Октябрь. В начале 1918 года, в одно время с блоковскими «Двенадцатью», он написал стихотворение, в котором воспел Октябрьскую революцию:
Рыдай, буревая стихия,
В столпах заревого огня!
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня.
Октябрьская революция представлялась ему тогда событием стихийным и анархическим, – и именно это ему в ней нравилось. В годы Гражданской войны, в годы голода и разрухи, когда в революции стали все отчетливее проявляться организационно-государственные формы, он стал охладевать к ней. Он написал поэму «Последнее свидание» – всю обращенную к прошлому, к далекой ранней юности – прелестную, полную милого юмора, в которой он изобразил свою юность куда ярче и отчетливее, чем в томах своих воспоминаний, написанных в последние годы жизни. После Гражданской войны он оставил Советскую Россию и уехал за границу. Эмигрантские круги приняли его поначалу восторженно, но очень скоро выяснилось, что они ошиблись. Белогвардейская эмиграция оказалась для Белого совершенно чуждой, и он занял по отношению к ней резко враждебную позицию. Уже через год явился он в советское полпредство в Берлине и попросился назад, в Москву. Его пустили. И через несколько месяцев после возвращения он приехал в Коктебель к Максу.
Он приехал в Коктебель не один, а с пятью дамами средних лет, пятью антропософками, пылкими его поклонницами. Имен и фамилий их я не помню, но – странное совпадение – по отчеству они все были Николаевны. Всех пятерых Николавен поселили в первом этаже дачи Юнгов, в одной комнате, самой задней – той, которая выходит окнами в противоположную от моря сторону. Белый же занял комнату в доме Макса, выходящую на ту деревянную терраску, которая еще и до сих пор называется «палубой». До приезда Белого в Коктебеле был один центр, вокруг которого вращалось все общество, – Макс. Теперь центров стало два. И новое солнце стало быстро затмевать прежнее.
Белый, несмотря на седину и лысину, был в то время еще сухощав и крепок. Лицом он казался значительно старше своих сорока четырех лет, но тело имел совсем юношеское, очень скоро покрывшееся коричневым загаром. Ходил он быстро, легко, был подвижен, деятелен и говорлив. Говорил торопливо, с присвистом, сильно жестикулируя, и маленькие голубенькие глазки его, как буравчики, вонзались в собеседника. Вставал он рано, шел на пляж, купался в стороне от всех, – потом много часов бродил по берегу, собирая камешки. Собирать камешки в Коктебеле – обычай, сохранившийся и по сей день. В те времена – а вернее, и еще раньше – были придуманы для них названия, известные только коктебельцам и до сих пор употребляемые только там – «фернампикс», «полинезиец», «лягушка». У многих из гостей Макса были в то лето замечательные коллекции камешков, но Белый в несколько дней обогнал всех коллекционеров. Недели через две после приезда он устроил выставку своих камешков на деревянных перилах своей терраски, и, помню, коллекция эта поразила всех любителей красотой, подбором, количеством.