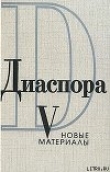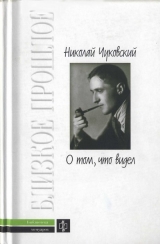
Текст книги "О том, что видел: Воспоминания. Письма"
Автор книги: Корней Чуковский
Соавторы: Николай Чуковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 34 страниц)
– Йоня!
– Моня!
И Йоня или Моня, перед этим жевавший бутерброд и рассказывавший анекдоты, вскакивал с испуганно-подобострастным лицом, вытирал губы и вбегал в кабинет к своему могучему родичу, осторожно прикрыв за собой дверь.
Эти две комнаты, полностью занятые родом Вольфсонов, от остальных редакционных комнат были отделены коридором. По другую сторону коридора были расположены корректорская и редакторская. Это была плебейская часть издательства, его низок. В корректорской распоряжался дедушка Флейтман – длинный тощий старик с наивными детскими глазами. Он начальствовал над тремя корректоршами – худосочными выцветшими девами из слоя, как тогда говорили, «бывших», то есть из петербургских чиновничьих семей, разоренных революцией и теперь продававших Вольфсону свою гимназическую грамотность, сидевших по шестнадцать часов за корректурами, заглушая папиросным дымом голод. Рядом с корректорской была редакторская. Редакторов было только двое – старая переводчица Алла Митрофановна Карнаухова и Валя Стенич. Вольфсон держал их за «интеллигентность». Из работников издательства только они двое знали иностранные языки, а «Мысль» издавала почти исключительно переводную литературу, и поэтому они были необходимы. Но Ленинград двадцатых годов был полон безработной интеллигенции, и заменить их Вольфсон мог в любую минуту. К тому же они не были его родственниками. И в иерархии издательства они занимали самую нижнюю полку – ниже даже несчастных корректорш.
Квартира Вольфсона находилась в том же Ковенском переулке, в доме напротив. Каждый день в двенадцать часов мадам Вольфсон готовила у себя на кухне гигантскую яичницу из двадцати пяти яиц. Домработница несла гигантскую сковороду с шипящей яичницей через переулок в издательство. Она сворачивала из коридора в комнату Йони и Мони, проходила сквозь нее, вносила яичницу в кабинет хозяина и ставила сковороду перед ним на письменный стол. Вольфсон съедал семь-восемь яиц. Насытившись, он отправлял сковороду в соседнюю комнату. Там ее окружали Йоня, Моня и кассирша. Они доставали из столов свои ложки и ели, непринужденно веселясь. Потом Моня спохватывался:
– Надо же оставить старику Флейтману.
И сковорода с последними яйцами переправлялась в корректорскую. Дедушка Флейтман склонял над ней свою седую бороденку. Корректорши жеманились, но тоже получали по яичку, – конечно, если оставалось. И наконец, когда на сковороде не было уже ничего, кроме растопленного масла и жижи пролитого яичного желтка, ее передавали в редакторскую. Там Стенич и старуха Карнаухова тщательно вытирали ее дно принесенным из дома хлебом.
С издательством «Мысль» жизнь столкнула меня в 1925 году.
К этому времени я был уже женат, и летом, в июле, жена моя родила дочку. Мы жили рядом с «Мыслью», в том же Ковенском переулке, снимали комнату у хозяйки и предельно нуждались. Я уже кое-что перевел с английского, кое-что из моих переводов было напечатано, и все мои финансовые планы строились только на переводах. Не помню, как мне удалось получить перевод в издательстве «Мысль». Мне поручили перевести роман английского писателя Стивена Грэхэма «Underlondon» – очень хороший роман. Это была большая удача для начинающего литератора. Со мной заключили договор, и я с увлечением принялся за работу. Правда, с самого начала меня ждала неприятность – в романе было восемнадцать листов, а мне предложили сделать так, чтобы в русском переводе получилось двенадцать. Все переводные романы, выпускаемые «Мыслью», имели одинаковый размер – двенадцать печатных листов – ни на букву больше, ни на букву меньше. Этого требовали какие-то коммерческие расчеты Вольфсона. А роман Грэхэма, как всякий хороший роман, туго поддавался сокращениям и явно проигрывал от них. Да и мой заработок уменьшался на целую треть. Но работу получить было трудно, и я беспрекословно согласился на все.
Настоящая беда пришла, когда я кончил работу. Я ужасно спешил, так как, согласно договору, деньги мне полагались по сдаче и приему рукописи, и нужда подгоняла меня. Три месяца я просидел за столом и довел роман до конца. Прием рукописи прошел без сучка без задоринки, – ее никто даже не прочитал, а просто подсчитали листы и, убедись, что их ровно двенадцать, отправили в набор. Теперь, по договору, мне должны были заплатить деньги. По десять рублей за печатный лист – 120 рублей! И я отправился к кассирше. Кассирша – в лиловом платье, покрывавшем такие груди, что ими можно было бы выкормить слона, с голыми жирными руками, с могучей вольфсоновской шеей, – потешаясь над моей наивностью, объяснила мне, что они платят только по субботам. Я пришел в субботу. Но в субботу случайно в кассе не оказалось денег. Я пришел в следующую субботу, потом в следующую. Результат был все тот же. Мне становилось все труднее возвращаться домой, к жене, кормившей младенца, и объяснять ей, что я пришел с пустыми руками. Положение у меня было безвыходное, я сердился, возмущался, но ничего не мог поделать. Я понимал, что мне нужно поговорить с Вольфсоном, но к нему меня не пускали. «Сейчас он занят», – отвечали мне, и выше Йони и Мони я проникнуть не мог.
Шли уже корректуры переведенного мною романа, а денег я еще не получил ни копейки. И вот как-то раз я натолкнулся на самого Вольфсона в комнате у Йони и Мони. Он шел в свой кабинет, но я остановил его.
Он был выше меня на полторы головы. Не толст, но дороден, плечист и удивительно здоров. Ему, вероятно, было года тридцать два, и только по своей крайней молодости я считал его человеком солидного возраста. Он был разительным воплощением той новой буржуазии, которая на короткий срок возникла в России после Гражданской войны, – наглой, жадной, отважной, бесцеремонной, циничной, не сомневающейся в своей конечной победе. Я спросил его, когда он мне заплатит.
– Приходите в следующую субботу, – сказал он и двинулся к двери своего кабинета.
Я сказал, что приходил уже много суббот.
– Мы всем так платим, кроме тех, кто нам очень нужен, – ответил он.
Это меня взорвало. И я решил пустить в ход свой главный козырь. Я к тому времени был уже членом профсоюза и сказал:
– Я буду жаловаться на вас в профсоюз.
Он несколько мгновений молча смотрел на меня, потом захохотал. Хохот у него был громовой, его всего колыхало от смеха. Захохотал Йоня, захохотал Моня, взвизгнула и захохотала кассирша. У них у всех были золотые зубы, и открытые рты их сверкали, как четыре солнца. Их трясло от хохота. Дедушка Флейтман громко смеялся, стоя в дверях.
Униженный, я вышел в коридор. Я сам понимал, что обращаться в профсоюз – бесцельно. Во всяком случае, это будет очень долгая канитель. В отчаянье я решил посоветоваться со Стеничем.
Я был с ним едва знаком.
Взволнованный, вошел я в редакторскую. Несмотря на жаркую погоду, Стенич был, как всегда, элегантен – пиджак в талию, белейшая рубашка, запонки на манжетах, яркий, но почтенный галстук. Он слушал меня внимательно и серьезно, блестя очками, Анна Митрофановна вздыхала. Тут же был и дедушка Флейтман.
– Есть один способ получить с него деньги, – сказал Стенич, выслушав мою негодующую речь. – Единственный, но зато верный…
– Какой?
– Возьмите лист бумаги и напишите заявление.
Я схватил лист и ручку:
– Кому писать?
– Вольфсону, конечно. Возьмите заявление в зубы, ложитесь на брюхо и ползите к нему в кабинет. Тогда он вам сразу заплатит.
И, глядя в мое растерянное лицо, прибавил:
– Другого способа нет.
Я почувствовал себя оскорбленным. Потом посмотрел в его красивые глаза, увеличенные стеклами очков, и рассмеялся. Рассмеялся с благодарностью, потому что он дал мне урок: не унижаться.
Мы вышли из издательства вместе. Еще на лестнице он стал читать наизусть Блока. Мы наперебой читали друг другу стихи, восхищаясь, чувствуя, что понимаем их одинаково и что наш общий мучитель Вольфсон не имеет над нашими душами власти.
И внезапно увидели мою двадцатилетнюю жену, возившую в колясочке полуторамесячную дочку.
Я представил Стенича. Он с восхищением разглядывал нашу дочку, – оказалось, ему никогда не случалось видеть таких маленьких детей.
– О, эти девственные пяточки, которые еще никогда не ступали по земле! – воскликнул он.
С этих пор мы подружились, безудержно, как дружат только в ранней молодости, и стали встречаться каждый день.
В течение тринадцати лет я встречался с Валей Стеничем почти ежедневно, почти каждый день послеобеденные часы он пролеживал у меня в кабинете на диване, он был человек с открытой душой и делился со мной почти каждым своим помыслом, и все же я чувствую, что бессилен его описать. Он был ярок, как павлиний хвост, и так многоцветен, что у меня не хватает красок. Первоначально мы сошлись с ним на любви к стихам. Мы без конца читали друг другу стихи и удивлялись совпадению наших вкусов. Так же как и я, из поэтов двадцатого века он превыше всего ставил Блока. Он знал Блока всего наизусть и, когда читал мне его стихи, поминутно снимал очки, чтобы вытереть слезы. Очень любил некоторые стихи Маяковского. Подобно мне, любил Мандельштама и Ходасевича. Из старых поэтов он, как и я, любил Некрасова, Фета, Полонского, которых в те годы в среде интеллигентной молодежи не любили, не знали и, не зная, презирали.
Как я уже говорил, в эпоху нашей дружбы он больше не писал стихов и не считал себя поэтом. Он слишком любил и понимал поэзию, чтобы не видеть, как слабы были его собственные попытки. Он даже скрывал, что прежде писал стихи, и никогда не читал мне тех своих стихов, которые когда-то читал Блоку.
В нашей дружбе не было равенства. Он был старше меня на семь лет, и это чувствовалось всегда, а особенно вначале. Нередко он обращался со мной насмешливо, но я не обижался, так как любил его и твердо знал, что он меня любит. Чаще всего издевался он над моей неряшливостью. Говорил, например, про мой галстук, что чуть я его снимаю, он сам ползет в помойное ведро. Мои брюки, утверждал он, до того просалились, что стали тверды, как жестяные трубы, и я, раздеваясь по вечерам, ставлю их возле кровати стоймя, а утром впрыгиваю в них сверху.
Я хохотал вместе с ним, чувствуя, что под насмешкой скрывается ласка.
Он был блистательно и тонко остроумен, но передать его остроумие невозможно, потому что заключалось оно не столько в слове, сколько в жесте, в интонации и всегда было приурочено к мгновению, к неповторимому сплетению характеров и обстоятельств. Некоторые его остроты разрастались до размера целых новелл или мифов – с вымышленными персонажами, которые действовали в течение многих месяцев и всякий раз – к случаю. Был им изобретен, например, такой персонаж – Дурак с Байдарскими воротами. В жизни этого Дурака было одно-единственное яркое событие – он как-то побывал в Крыму и повидал Байдарские ворота. Они произвели на него неизгладимое впечатление и чрезвычайно повысили уважение к себе. И когда кто-нибудь в его присутствии говорил о политике, о музыке, о литературе, то есть о чем-нибудь для него непонятном, он, чтобы доказать, что и он не лыком шит, хлопал говорившего по колену и начинал:
– Позвольте, я вас перебью. Когда прошлым летом я был на Байдарских воротах…
И когда Стенича кто-нибудь перебивал, он говорил:
– Вы как Дурак с Байдарскими воротами.
Дурак с Байдарскими воротами имел свои суждения обо всем на свете, и, если что-нибудь случалось, Стенич сообщал, что думает об этом его Дурак. Особенностью этого Дурака было безмерное преклонение перед логикой. Когда он мыслил, из его головы вылетали искры и раздавался сухой электрический треск.
Вообще Стенич удивительно чутко чувствовал дураков и сразу распознавал их, под какой бы маской они ни скрывались. Про одного нашего знакомого он говорил:
– Это такой дурак, что за ним уже начинаются вещи: самый умный шкаф, самый умный стол.
Кроме Байдарского Дурака одно время был у него другой мифический персонаж, который говорил про себя, картавя:
– Я не граф, я не князь, я Овчина-Телепень-Серебряно́й-Погорельский.
Все рассказы о похождениях Овчины-Телепня были приурочены к 1916 году – последнему году перед революцией, когда Петроград кишел великим множеством авантюристов. Овчина-Телепень-Серебряно́й-Погорельский выдавал себя за прямого потомка древних московских бояр, носил боярскую бороду, стригся в кружок и ходил в Дворянское собрание в расшитом кафтане и русских сапогах. Был у него роскошный выезд – рысак, покрытый черной сеткой с серебряными кистями, и огромный кучер Никита с бородой лопатой, с перьями на шапке, в поддевке с красным кушаком.
– Никита, к Казанскому собору! – говорил ему Телепень.
Рысак мчал его к Казанскому собору. Там, на самом людном месте Невского, Овчина-Телепень выходил, поднимался на паперть, но в собор не входил, а падал на ступени и начинал молиться. Молился он долго, вокруг собиралась огромная толпа, свистели городовые, но он ни на кого не обращал внимания, крестясь и отбивая поклоны. Потом вдруг вставал, садился в свой экипаж и кричал во весь голос:
– Никита, к Донону.
Донон был самый дорогой ресторан Петрограда.
– Никита, за мной!
Овчина входил в зал, сопровождаемый Никитой, и шел прямо к стойке.
– Рюмку водки!
Рюмка водки даже у Донона стоила всего сорок копеек, ради таких ничтожных трат к Донону ходить не полагалось, и рюмку протягивали Овчине-Серебряному с пренебрежением. Тогда он, выдержав паузу, говорил:
– И дюжину шампанского Никите!
Стенич был неистощим в изобретении похождений Серебряно́го-Погорельского, импровизировал все новые сцены с длинными диалогами. Я почти все перезабыл, помню только, что одна из плутней Телепня заключалась в том, что он собирал деньги для никогда не существовавшего кавалергарда Коко Голицына, которому якобы грозит исключение из полка за неплатеж карточных долгов.
– Кто не был молод, графиня! – говорил, грассируя, Овчина-Телепень девяностолетней графине Клейнмихель, фрейлине императорского двора, заехав на своем Никите к ней в Аничков дворец. – Коко кумир полка, его обожают. Отец у него выжил из ума, скуп, не дает ни копейки… Если Коко выгонят, это будет такой удар для его дяди, князя Григория… Помните сетэмабль прэнс Григуар, графиня?.. Вот подписной лист… Граф Адлерберг подписывался на четыреста…
Получив сторублевку, Овчина-Телепень-Серебряно́й-Погорельский отказывался от кофе и удалялся. Из всех его четырех фамилий настоящей была только Погорельский. Отец его держал ларек на Никольском рынке…
Иногда героями стеничевских мифов становились не вымышленные, а живые лица.
Остроумие Стенича бывало нередко язвительным. Некоторые люди какую-нибудь язвительную его насмешку запоминали на всю жизнь и не прощали до конца дней своих. Таких людей, оскорбленно кривящихся при имени Стенича, я встречаю и сейчас, через четверть века после его смерти.
Один член Союза писателей как-то сказал при нем:
– Наш брат писатель…
Стенич мгновенно к нему обернулся и воскликнул:
– Как! У вас есть брат – писатель?
В редакции «Литературного современника» Стенич застал как-то одну поэтессу, сидевшую над корректурой. Заглянув ей через плечо, он увидел, что она правит корректуру своего стихотворения.
– Как! Даже вас печатают в этом журнале! – с ужасом воскликнул он на всю редакцию.
Его многие не любили, но для нас с женой каждый его приход был праздником. Хотя издевался он над нами не меньше, чем над прочими. Однажды он у меня нашел тетрадку моих стихов, которые я писал, когда мне было двенадцать лет – в Куоккале, в 1916 году. Невозможно передать, до какой степени он издевался над этими младенческими стихами. Он их декламировал без конца, он их пел. Наиболее глупые строки он выучил наизусть и читал их вслух в присутствии разных почтенных лиц, заставляя их смеяться надо мной. Но я не испытывал при этом ни обиды, ни малейшей даже досады и от души хохотал громче всех. Я знал, что этот неистовый весельчак, этот пронзительно злой насмешник – на редкость добрый, привязчивый, ласковый, скромный и грустный человек.
Наедине с собой он часто упорно грустил и даже подумывал о самоубийстве. Но шутя не раз меня уверял, что от самоубийства его уберегает привязанность не к жизни, а к житейским мелочам.
– Я бы покончил с собой, – говорил он, – но вот отдал в чистку белые брюки, а они будут готовы только в пятницу.
Этот неистощимый весельчак был очень грустный человек по натуре. Эта грусть вызывалась постоянным недовольством собой, – именно недовольством самим собой, а не внешними формами своей жизни. К внешним формам жизни – к бедности своей, к отсутствию славы – был он, в сущности, почти безразличен. С полным правом он говорил про себя словами Маяковского: «И кроме свежевымытой сорочки, сказать по совести, мне ничего не надо». А сорочки у него всегда были чистейшие. Безошибочно, как никто, умел он выбрать себе галстук, и любой пиджак сидел на нем так, словно сшит у лучшего портного. Он был одним из элегантнейших мужчин своего времени, не затрачивая на то ни особых усилий, ни средств. Он никогда не имел прочной семьи, не увлекался картами, не пьянствовал и удовлетворялся очень малым, не чувствуя себя ущемленным. Главный источник недовольства собой лежал в другом. Он не мог представить для себя никакой деятельности, кроме литературы. А из литературных его попыток очень долго ничего не получалось, – ничего такого, чем бы он мог быть доволен сам.
Писать стихи, как я уже говорил, он бросил бесповоротно. Он решил писать прозу, и я не сомневался, что его ждет успех. У него были все данные, чтобы стать прозаиком, – наблюдательность, меткость, чувство слова, умение построить образ, характер. Правда, все это проявлялось в его устных рассказах, но почему бы тем же свойствам не проявиться и на бумаге? И вот завел он тетрадку в клеенчатой обложке и стал время от времени в ту тетрадку что-то записывать. Я любопытствовал, но он держал в секрете.
– Так… Отдельные наблюдения… Удачные фразы… – объяснил он. – Материал собираю…
Прошло полгода, а то и больше, прежде чем я увидел эту тетрадку во второй раз. С удивлением я заметил, что в ней исписаны только первые три страницы.
– Но ведь это заметочки, – сказал он. – Кирпичики, из которых все будет построено.
Он снял очки, чтобы протереть их, и посмотрел на меня робко и неуверенно. Когда он снимал очки, глаза его всегда оказывались робкими и неуверенными.
Я попросил его почитать, и он прочел – с надеждой и страхом в голосе. Я слушал его внимательно, с напряжением, стараясь разобраться. Но разобраться не мог. Все это были отдельные фразы, никак между собою не связанные, или коротенькие зарисовки – и тоже каждая особняком. Во всем этом нельзя было уловить никакого общего замысла, даже сюжетного или стилистического, это не было объединено никакой целью, никакой мыслью. Не было даже наблюдательности, приметливости. Объединяло эти фразы только стремление к вычурности, только желание сказать так, как никогда не было сказано раньше. Да и вычурность была вымученная, без блеска, без юмора. Вот какой примерно вид имела одна из заметок:
«В ресторан вошел грузин с лицом величественным, как явление природы – как гроза, как горный хребет, как облако».
Эта заметка привлекла мое внимание, потому что, пожалуй, была лучше других.
– Что вы собираетесь делать с вашим грузином дальше? – спросил я.
– Не знаю, – ответил он печально и захлопнул тетрадь.
– Но ведь у вас есть Серго Куртикидзе! Вот если бы вы о нем написали!..
Серго Куртикидзе был сосед Стенича по коммунальной квартире, и Стенич создал о нем один из своих блистательнейших мифов. Я никогда не видел Серго Куртикидзе, но точно знал, что он скажет и что он сделает при тех или иных обстоятельствах. Стенич вылепил из него образ по-гоголевски отчетливый и яркий. Теперь я, разумеется, все перезабыл и помню только, что Куртикидзе хоронил свою скончавшуюся тещу по православному обряду, и отпевал ее сам архиерей; на поминках тоже присутствовал архиерей, и потом Серго Куртикидзе говорил Стеничу:
– Этот архиерей такой интеллигентный человек: прекрасно ко мне относится.
С тех пор весь круг знакомых Стенича стал употреблять слово «интеллигентный» в том смысле, который ему придал Серго Куртикидзе. Стенич говорил мне:
– Главный бухгалтер Госиздата такой интеллигентный человек – выдал мне сегодня аванс.
– А мне отложил уплату до вторника, – жаловался я.
– Ну, для вас он полуинтеллигентный, а для меня интеллигентный: прекрасно ко мне относится!
И я посоветовал Стеничу вместо всех этих заметок сесть и написать про Серго Куртикидзе.
– Не получится, – ответил он.
– Ну, напишите про Овчину-Телепня Серебряно́го-Погорельского.
– Тоже не получится. Это все можно рассказывать, а писать нельзя. Потухнет на бумаге. У меня потухнет…
И Стенич, страдавший слишком ясным пониманием себя и своих возможностей, больше не пытался писать прозу. Писать он не мог. Он был идеальный читатель.
…Он читал и восхищался. Как он умел восхищаться! Он восхищался деятельно, заставляя восхищаться всех кругом. Он ненавидел и презирал тех, кто не восхищался с ним вместе. Мало сказать, что он восхищался, – он влюблялся. У него были постоянные неизменные любви – Толстой, Достоевский, Пушкин, Блок, – и внезапные влюбленности, пламенные и сокрушительные. Влюблялся он в современных поэтов и писателей, влюблялся разом – и в книгу, и в автора. Он был великий пропагандист складывавшейся в те годы советской литературы. Мы, ленинградские литераторы, именно от Стенича узнали о «Разгроме» Фадеева, о Василии Гроссмане, о Валентине Катаеве, об Ильфе и Петрове, об Юрии Олеше. Разумеется, мы узнали бы о них и без Стенича, но именно Стенич первый растолковал нам их, заставил нас ими восхищаться, понять каждого как неповторимое явление искусства. Ему всегда мало было восхищаться книгой и заставлять всех кругом восхищаться ею; ему нужно было знать любимого автора лично, дружить с ним, обольщать его, спорить с ним, дразнить его, чтобы размотать его, как клубок ниток, до самого конца, до деревянной катушки. Он часто ездил в Москву и проводил там много времени, а потом, вернувшись, часами рассказывал нам о Евгении Петрове, о брате его Валентине Петровиче Катаеве, о Льве Никулине, о Юрии Карловиче Олеше, пересказывал их шутки, блистательно имитируя неповторимую манеру каждого острить, наблюдать, думать. Впоследствии я сам познакомился с ними и мог убедиться, до какой степени Стенич был точен и проницателен. Признаться, при личном знакомстве я испытал даже некоторое разочарование – по рассказам Стенича каждый из них представлялся мне ярче и определеннее.
С Юрием Карловичем Олешей у Стенича был настоящий многолетний роман – иначе не назовешь те отношения, полные восторга, ревности, любовных распрей, тяжелых объяснений и снова восторга, которые их связывали. Конечно, как во всяком романе, один любил, а другой позволял себя любить, и любил, конечно, Стенич, а позволял любить Олеша, но так уж бывало у Стенича во всех его романах с писателями. Он обречен был любить больше, чем любили его самого, и привык к этому, и нисколько этим не тяготился, потому что любовь его была бескорыстна.
Казалось, сама природа создала его для того, чтобы он был другом писателей. Писателю всегда нужен такой друг, умный, пылкий, проницательный, заинтересованный в его работе почти как он сам. Стенич был чужд лести, он никогда не говорил человеку в лицо того, чего не чувствовал и не думал; напротив, он был насмешлив до жестокости, и проницательных его насмешек не избегал никто – ни враг, ни лучший друг. Едкой кислотой своих насмешек он выжигал все глупое, пошлое, фальшивое, напыщенное, механическое. Для высмеиваемого единственной защитой было – смеяться вместе с ним. И человек, который был строг к себе и требовал от себя многого, смеялся над собой вместе со Стеничем. И дорожил дружбой Стенича, потому что Стенич помогал ему понять самого себя.
Стенич, как мы знаем, спорил с Блоком, но этот спор был сплошной мистификацией, потому что Стенич был не только почитателем, но и единомышленником Блока. Этот спор был подобен спору черта с Иваном Карамазовым, – ведь черт тоже говорил Ивану Карамазову только то, что думал сам Иван Карамазов и что он ненавидел в себе. Стенич спорил с Блоком с позиций эстетизма, с позиций представлений об искусстве как о замкнутой сфере, то есть позиций, которые всегда были искушением для Блока, искушением, которое Блок преодолевал трудно, с гневом и ненавистью. Вот причина, почему спор со Стеничем так задел Блока и так взволновал его. А на самом деле Стенич был единомышленником Блока, любил в искусстве только живое, только страстно заинтересованное в общественной человеческой правде.
Как-то раз в середине тридцатых годов Стенич явился к нам и сказал:
– Я сейчас целых два часа импонировал Тынянову.
Я отлично знал, что на его языке называлось «импонировать». Это значило так поговорить с человеком, чтобы задеть его за живое, взволновать и заставить раскрыться. «Импонировал» Стенич обычно не соглашаясь, а споря. Искусство «импонирования» требовало прежде всего глубокого знания собеседника, отгадки его внутреннего мира, умения невзначай коснуться той его раны, которая наиболее его мучает, и при этом не потерять, а завоевать его доверие и заставить его вывернуть себя наизнанку. Чем умнее собеседник, тем труднее ему «импонировать», а Тынянов был человек умнейший, тончайший, образованнейший, не менее остроумный и язвительный, чем сам Стенич. Вот почему Стенич был так горд своей удачей. Впрочем, я не вполне уверен, что он остался победителем в споре. Неизвестно, кто кого «переимпонировал». В конце тридцатых годов, когда Стенича уже не было на свете, я часто встречался с Тыняновым, и тот постоянно заговаривал со мной о Стениче, и всегда с уважением и каким-то тревожным интересом.
Стенич, открыватель талантов, один из первых заметил в Ленинграде двух поэтов – Бориса Корнилова и Александра Прокофьева. Оба они состояли в ЛАППе, а ЛАПП был полон поэтов, подражавших Крайскому и Евгению Панфилову, очень слабеньких и почти неотличимых друг от друга. И Стенич первый прокричал на весь город, что Корнилов и Прокофьев не просто несколько даровитее других, а титаны, по-новому изображающие мир. Слушали его с недоверием, но недоверие только подстегивало его энтузиазм. Переходя из дома в дом, из редакции в редакцию, влюбленно читал он «Улицу Красных Зорь» Прокофьева – всю книгу наизусть. Для меня «Улица Красных Зорь» – лучшая, любимейшая книга Прокофьева, – может быть потому, что полюбить ее заставил меня Стенич. Не меньше восхищался он и Корниловым и признавал первенство то одного, то другого. Они оба действительно резко выделялись среди толпы гладеньких эпигонов акмеизма, сладеньких «пролетариев», набожно воспевавших вагранки взятыми напрокат у Бальмонта ритмами, образами у имажинистов, – всей этой толпы, которая заглушала советскую литературу шумом своих мелких драк. Корнилов и Прокофьев писали о революции, о новой складывавшейся кругом жизни, писали новыми незалитературенными словами, писали смело и прямо, с юмором, с патетикой, с любовью к людям, с пристальным вниманием к действительности. И Стенич в пропаганду их стихов вложил весь свой бешеный темперамент. Разумеется, по своему обыкновению, он постарался подружиться с ними, поимпонировать им. Сошелся Стенич и еще с одним рапповцем – с Михаилом Чумандриным, – имя которого звучало грозно и страшно для питерских интеллигентов конца двадцатых годов. Это был молодой толстяк в косоворотке, самоуверенный, темпераментный, с самыми крайними левацкими взглядами. Его приверженцы дали ему прозвище «бешеный огурец». Он не признавал русских классиков, потому что они были дворяне, не признавал переводной литературы, потому что она сплошь буржуазная.
– Лучше своя телега, чем чужой автомобиль, – любил говорить он.
При его нетерпимости в понятие «свой» попадали чрезвычайно немногие. Все те писатели, которые с первых лет революции создавали советскую литературу, оказались для него не «своими», а «чужими», – просто потому, что были интеллигенты. «Своими» он признавал только некоторых рапповцев. Всех остальных он ненавидел и считал нужным истребить. Алексей Толстой – новобуржуазная литература, Маяковский – мелкобуржуазный поэт, Федин и большинство серапионов – правые попутчики…
Он казался несокрушимым в своей заскорузлой узости. Сверкая маленькими голубенькими глазками на толстом одутловатом лице, держал он свои сокрушительные речи – всегда от имени советской власти и мирового пролетариата, – и всякого, кто осмеливался ему возражать, немедленно причислял к контрреволюционерам. Он не был ни карьеристом, ни приспособленцем. Это не было средством для проталкивания в печать своих неумелых романов. Это был человек скромный, бескорыстный, даже аскетический. Нетерпимость его была искренняя.
– Он на чистом сливочном масле, – говорил про него Стенич. – Ни капли маргарина.
Тем более сокрушительной казалась его нетерпимость. И было нам чему удивляться, когда вдруг Чумандрин подружился со Стеничем.
Казалось бы, все в Стениче должно было бы быть ему чужим и противным, начиная с галстука. Чумандрин считал галстук признаком буржуазности, галстуков не носил и всех людей в галстуках брал под подозрение. Исключение из партии, непролетарское происхождение, знание трех языков, обоготворение Льва Толстого и Блока, любовь к стихам Мандельштама и Ахматовой – «этих внутренних эмигрантов», дружба с «правым попутчиком» Олешей – все должно было отвращать Чумандрина от Стенича. И вдруг оказалось, что то тут, то там их видят вместе. Причем Чумандрин хохочет от каждого слова Стенича и поглядывает на него не только ласково, но даже восхищенно. И пожалуй, еще удивительнее было то, что Стенич говорил про Чумандрина:
– Пишет пока плохо. Но дьявольски умен.
И вот на глазах у нас Чумандрин стал изменяться. Уже одно то, что мы увидели его лицо, прежде всегда насупленное, смеющимся, изменило наше представление о нем. Оказалось, что природа весьма щедро наградила его благодатным чувством юмора. Медленно, но упорно, как весенний лед, таяли его сектантские пролеткультовские представления о литературе. Прежде всего выяснилось, что он просто не читал всего того, что так ненавидел. Стенич прочел ему наизусть «Медного всадника» – и потряс. Чумандрин стал запойно читать Льва Толстого и чем больше читал его, тем лучше относился к современным писателям, жившим тогда в Ленинграде, – к Чапыгину, к Шишкову, к Форш, к Федину, к Слонимскому, к Козакову, к Никитину, к Зощенко. В Зощенко он просто влюбился, – здесь тоже сыграла роль его чувствительность к юмору. На наших писательских собраниях он стал говорить о Зощенко не только уважительно, но даже как-то робко. В «попутчиках», которых он так упорно громил и разоблачал, он вдруг увидел своих товарищей, единомышленников и стал деятельно сотрудничать с ними.