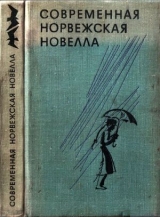
Текст книги "Современная норвежская новелла"
Автор книги: Коре Холт
Соавторы: Сигбьерн Хельмебак,Финн Бьёрнсет,Юхан Борген,Ингвалл Свинсос,Турборг Недреос,Финн Хавреволл,Эйвин Болстад,Тарьей Весос,Аксель Сандемусе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
АКСЕЛЬ САНДЕМУСЕ
Рождество мстителя
Перевод К. Федоровой
Когда они поженились, ей было двадцать лет, а ему сорок. Такое сочетание в наши дни стало редкостью. Но сто лет назад это был рядовой случай, и не исключено, что сто пятьдесят лет назад жены были на тридцать лет моложе мужей. Подобные перемены доказывают, что человечество становится мудрее и разумнее.
Юсеф Конрадсен больше уже не сорокалетний юнец. Они с Аннелизой прожили в браке три года. Когда они расстались, ему было сорок три, а ей двадцать три. Запомните эти цифры, они играют важную роль в этой, к сожалению, вполне достоверной истории. В течение тридцати семи лет после развода (будем называть это разводом) они ни разу не виделись. Аннелиза сбежала в Миннесоту с каким-то мошенником из банка, и Юсеф Конрадсен не находил себе места от стыда и злости. Так обстояло дело с Конрадсеном. Как было с Аннелизой, никто не знает, потому и нет возможности осветить этот вопрос.
Юсеф Конрадсен ненавидел Аннелизу, как только может ненавидеть пожилой мужчина, обманутый молодой женой. И его ненависть не угасала, потому что он никак не мог забыть Аннелизу. Сбежав с ловким банковским дельцом, она оставила своего супруга, который был на двадцать лет старше ее, раздираемого ненавистью, стыдом, уязвленным самолюбием, ревностью, опустошительной любовью и бессильной яростью.
День и ночь терзала его мысль о том, что он старше ее, что он старик, что он смешон и люди потихоньку смеются над ним. Но прошло два-три года, и он вдруг успокоился. Его осенила спасительная идея. Так обычно и бывает: наша фантазия всегда приходит нам на помощь, когда мы в беде, и тогда мы можем больше не чувствовать себя несчастными.
Почти три года прожил он, будто в кровавом тумане. Он создавал гениальные планы убийства. Он придумал десяток совершенных вариантов убийства Аннелизы и счастливого мошенника. Это были такие замечательные планы, что он мог бы продавать их за большие деньги тем, кто сделал убийство своей профессией. Или мог бы стать консультантом по убийствам и обеспечить себе тем самым безбедное существование. Но, к сожалению, денег у него было вполне достаточно. И это тоже его мучило, как мучило его абсолютно все. Если бы он был беден, он мог бы сказать себе: «Ну да, Аннелиза сбежала от меня с богатым мошенником, потому что я бедный человек».
А как быть человеку, если он не беден? Если у него значительное состояние и вполне приличный доход? Да уж, бедным Конрадсена никак нельзя было назвать, и приходилось признать несомненный факт: Аннелиза покинула его, потому что банковский делец был молод и привлекателен, а он, Конрадсен, был просто бородатый Дед Мороз, вот и все. И ведь случилось это в те добрые старые времена, когда каждый уважающий себя мужчина к сорока годам имел волосы в ноздрях и ушах, пышную бороду на широкой груди и два лисьих хвоста, бодро торчавших по обе стороны носа и шевелившихся на ветру. Банковский делец был, конечно, гладко выбрит, потому что бритву изобрели раньше, чем у него пробился пушок на щеках. Как известно, бритва была изобретена американцами – тем более следовало запретить Колумбу открывать Америку. Это избавило бы нас от бритвы и многих других неприятностей. Я лично убежден, что Колумбу следовало бы оставить Америку в покое и большой исторической ошибкой королевы Изабеллы явился тот факт, что она финансировала его путешествие. Теперь, конечно, поздно сожалеть. И все же Юсеф Конрадсен в душе частенько проклинал Колумба, но больше всего проклинал он свой возраст. Строго говоря, Колумб и не думал изобретать бритву или открывать Миннесоту (где я, кстати, в 1927 году познакомился с одной балериной-босоножкой).
Но оставим Колумба, бритвы, балерин и исторические ошибки и вернемся к страданиям Юсефа Конрадсена. Он не мог забыть Аннелизу и утешиться тем, что все-таки три года она безраздельно принадлежала ему и что для представительного мужчины благообразной наружности, решительного характера и приличного состояния всегда остается надежда. Он не мог забыть Аннелизу, она постоянно маячила перед его внутренним взором, а это было не так уж приятно, потому что маячила-то она вместе с этим мошенником банковским дельцом. Аннелиза всегда была лакомым кусочком для своего сорокалетнего супруга, а теперь ею лакомился другой. Она принадлежала к тому опасному типу женщин, о которых мужчина никогда не может сказать, хороша ли она собой. Красива? Черт ее знает. Безобразна? Кто это докажет? Глупые женщины обычно спрашивают: «Как по-твоему, я красивая?» Если мужчина может ответить на этот вопрос, значит, он ее не любит. Аннелиза была вспышкой пламени, коротким замыканием в домашней жизни и сладкой болью в сердце Юсефа Конрадсена, и он надеялся – довольно, впрочем, непоследовательно, – что она, несомненно, устроит веселую жизнь подлому дельцу.
Итак, Юсеф Конрадсен пребывал в чистилище, но лишь в том смысле, что горел в огне. Ведь он не хотел смириться и платить добром за зло. Он сидел в чистилище и с горечью думал о своей старости и о молодости Аннелизы, брошенной под ноги недостойному дельцу.
И вот именно из этих горьких раздумий и родилась спасительная идея. В один прекрасный день Юсефа Конрадсена словно озарило: Аннелиза не будет вечно молодой. С каждым годом она становится на год старше.
Эта мысль, сияющая, как новенькая игрушка, немало его утешила. Ведь прежде чем он напал на нее, прошло уже почти три года. Три года назад Аннелиза позорно сбежала с коварным дельцом.
«Ха, – с восторгом думал он. – Аннелиза становится старше с каждым прошедшим годом. Ха! Настанет день, когда ей стукнет шестьдесят, если не посчастливится умереть раньше». Все планы убийства были забыты. Пусть узнает, каково это быть высохшей, сморщенной шестидесятилетней старухой. Ха! У нее уже не будет таких соблазнительных бедер, такой легкой, танцующей походки. Ха! С каждым днем она будет становиться на день старше. Уж он, Конрадсен, об этом позаботится – именно такое у него было чувство. «Тебе будет шестьдесят лет, голубушка, и ты будешь ковылять, как утка. Так тебе и надо. Ха!»
После своего замечательного открытия Конрадсен стал даже праздновать рождество. Раньше он, будучи по натуре материалистом, рождество не праздновал. Он, конечно, не переменил своих убеждений, но дело в том, что как раз на сочельник приходился день рождения Аннелизы. В самом этом факте не было ничего примечательного. В северном полушарии на декабрь падает самое большое количество дней рождения; это совершенно естественно, достаточно вспомнить, как бурлят в человеке жизненные силы весенней порой. Аннелиза родилась как раз в сочельник, и отныне этот день стал для Конрадсена самым важным днем в году. Уже в ноябре предвкушал он радостную дату, когда Аннелиза постареет еще на один год. А что ей оставалось?
В канун первого рождества, которое Юсеф Конрадсен праздновал дома, его экономка, ее звали фру Халворсен, решила, что он либо влюбился, либо повредился в уме. Ее не устраивало ни то ни другое, ибо она была дама с твердыми принципами и лошадиными зубами. Кроме того, она была почтенной замужней женщиной и жила в доме напротив. Это было удобно, поэтому ей не хотелось бы потерять работу, но, с другой стороны, работать у человека, который то ли влюблен, то ли вообще рехнулся, она не могла. Она убирала только в порядочных домах.
Задолго до рождества Конрадсен начал таскать в дом самые неожиданные вещи. Он набивал шкафы фруктами и вином, а однажды потрясенная фру Халворсен услышала, как он что-то мурлычет себе под нос. А еще через два дня у нее выпал из рук хлебный нож и отвисла нижняя челюсть: она отчетливо услышала, что господин Конрадсен поет. Не сказать, чтобы это звучало очень музыкально, но сам он, несомненно, считал, что поет. И добро бы еще это был рождественский псалом – как-никак рождество на носу, – но она расслышала совершенно ни с чем не сообразные слова:
Однажды африканский слон
Ура!
Кутить поехал в Вавилон
Ура!
Для фру Халворсен это была совершенная бессмыслица, да и вряд ли кто смог бы уловить здесь какой-нибудь смысл. Но о смысле фру Халворсен и не думала. Главное, что господин Конрадсен запел. Она слушала:
А она-то всегда думала, что господин Конрадсен суровый и достойный уважения человек, которому не придет в голову прятать в укромном местечке бутылку вина или петь непристойные песенки. Но таковы мужчины. Вечером дома, когда дети легли спать, она рассказала обо всем своему мужу.
– Подумать только! А я была уверена, что он порядочный человек!
– А что? – спросил Халворсен, сидя в кальсонах на кровати и держа в руках подтяжки. – Разве он не порядочный?
Его мысли, естественно, потекли в определенном направлении, ибо жена его сумела довести их супружескую жизнь до той критической точки, когда мужчина начинает поглядывать на жену соседа. К тому же мужчины воспринимают вещи только в одном плане, так как у них испорченное воображение. Халворсен в этом отношении не отличался от других мужчин. Он ничего больше не сказал, но с интересом ждал продолжения. Вот как! Значит, Конрадсен непорядочный? Сам-то Халворсен порядочностью был сыт по горло. Но Конрадсен! Помахивая подтяжками, он задумчиво глядел на жену. Он был не лишен этого… как его называют… да, оптимизма. Это когда мужчине требуется немножко развлечения. Но он остерегался выглядеть слишком большим оптимистом.
Вот жена обозвала Конрадсена непорядочным. А что он такого сделал? Подумаешь, спел несколько легкомысленных куплетов! Халворсен лично предпочел бы, чтобы все стихи на свете были легкомысленными. К сожалению, многие любят умные стихи…
Он ничего не сказал, но про себя пессимистически подумал: «Нет, нет. Что-то тут не то». Он повесил подтяжки и залез под перину.
Шли годы. Конрадсен жил, как прежде. Видимо, фру Халворсен была не таким уж плохим знатоком человеческих душ. Первое впечатление не обмануло ее. Господин Конрадсен был действительно суровым и достойным уважения человеком.
От одного рождества до другого Конрадсена частенько можно было видеть за столом с карандашом в руках решающим арифметическую задачу – впрочем, может быть, это случалось не так часто, кто знает? Задачка была не особенно трудная, к тому же он не раз решал ее прежде. Выглядела она примерно так: если человек родился в 1880 году, сколько лет будет ему в 1915-м? Последняя цифра, естественно, с годами менялась.
Он сидел с карандашом и считал, считал, делая вид, что задачка очень трудная. Ему хотелось продлить удовольствие. Он даже немного мошенничал: нарочно ошибался и пересчитывал снова и снова, но, будучи человеком достойным уважения, не отступался, пока не находил правильного ответа. Тогда он подчеркивал цифру жирной чертой. «Ага, 35!» – говорил он и аккуратно, красивым почерком выводил: 20 + 3 + 12 = 35 и еще раз говорил: «Ага!» 20 – это ее возраст, когда они поженились, 3 – годы их супружества, 12 лет прошло после ее бегства с развратным дельцом и 35 – ее нынешний возраст. Ты уже не так молода, Аннелиза. Годы берут свое!
Год за годом каждое рождество праздновал он свой праздник мести. А фру Халворсен считала, что вот теперь все идет, как положено в порядочном доме. Потому что господин Конрадсен и не влюбился, и не повредился в уме, и в глубине души он, оказывается, был человек истинно верующий. Иначе она ни в коем случае не стала бы работать у него до самой его смерти. Отныне она говорила о господине Конрадсене только хорошее.
Как читатель мог уже сам вычислить, в 1940 году Юсеф Конрадсен, подводя итог мести Аннелизе, вывел наконец искомую цифру: 20 + 3 + 37 = 60. К этому времени он уже давно покончил со всеми другими расчетами. Сам-то он в свои 80 лет сохранил здоровье и ясную голову и был в глубине души истинно верующим, как утверждала фру Халворсен.
Рождеству в этом году он радовался, как дитя. «Старая карга, – говорил он. – Тебе уже шестьдесят. Ты ковыляешь, словно утка. И никаких больше бедер, и ничего такого. А что говорит твой банкир, а? Так вам обоим и надо. Ха!»
Под окном по улице маршировали немецкие солдаты. Конрадсен не знал, что это немцы. Как-то, правда, он слышал, что кого-то расстреляли. Хорошо бы, это был тот мошенник, что в 1903 году украл у него жену.
В сочельник утром он медленно и важно шествовал по улице Карла-Юхана и поглядывал на витрины – не забыл ли он чего-нибудь купить к праздничному ужину. Товаров в магазинах было мало, и у него было какое-то неясное ощущение, будто и народ стал не тот. Наверное, потому что у них не было никакой цели в жизни. Кругом было много солдат, это ему тоже не нравилось, хотя он не понимал почему.
Он остановился перед галантерейным магазином и стал изучать цены, выставленные в витрине. Он бездумно наслаждался, пробегая глазами ряды цифр, ибо вся его жизнь – если оставить в стороне Аннелизу и ее любовника – состояла из цифр. Он прочел: 40; 3; 37; 80…
– Неправильно, – сказал он громко. – Это ошибка. Должно быть…
Вдруг палка выпала у него из рук и нижняя челюсть отвисла, как много лет назад у фру Халворсен, когда она услышала, что господин Конрадсен поет легкомысленные куплеты. Он покачнулся. Непослушным языком он пытался еще протестовать, выговорить что-то похожее на «нет», но цифры в витрине спокойно чернели на ярлыках, их нисколько не трогало, что Конрадсен сказал «нет». И он грохнулся на тротуар.
После праздника в «Моргенбладет» появилось двенадцать строк петитом, посвященных бывшему управляющему Юсефу Конрадсену. Так много места отвели ему, потому что он был уважаемым человеком, и его верная экономка вдова Халворсен в качестве трогательной подробности сообщила, что подписку на «Моргенбладет» покойный получил по наследству от своего отца. Верность была характерной чертой Юсефа Конрадсена. Этот казавшийся суровым человек тайно делал много добра людям и в глубине души был истинно верующим. Словом, он был человеком старой закалки.
Волчий капкан
Перевод К. Федоровой
Если есть в доме дурак, значит, там правит глупость. Дурак не позволит себя оттеснить. Наоборот, это он подминает под себя окружающих, потому что те, кто хочет бороться с дураком, должны пользоваться его же собственным оружием, всякое другое против него бессильно. Не всегда удается идти своим путем, предоставив глупость самой себе. Сколько глубочайших трагедий как в истории, так и в частной жизни вызвано тем, что человечество было отдано на милость глупости. Но исторические события пусть сами за себя говорят. А в частной жизни не раз именно тот, кто, казалось бы, лучше вооружен, оказывался во власти существа слабого. Иногда человека связывает ребенок, а иногда слабый обладает какими-то качествами, которые привлекают более сильного. И тогда порвать оковы больнее, чем носить их на себе.
Когда-то в Канаде я работал на ферме у пожилой бездетной четы. Они обосновались в богом забытом местечке, и им не на кого было пялиться, кроме как на своего батрака. Они изучали меня с раннего утра до позднего вечера, от их пристального взгляда не ускользнула ни одна мелочь.
Больше всего меня раздражала их речь. Говорят, что глаза – зеркало души. Бог его знает, откуда пошло это выражение. На самом же деле зеркало души или, если хотите, ее голос – это, конечно, речь. В числе «особых примет» полиция, кроме всяких прочих, кои здесь не будем перечислять, должна бы учитывать и словарь человека: имеет ли человек в своем распоряжении тридцать тысяч, или тысячу, или, к примеру, три сотни слов. Чета, в лапы которой я попал, обходилась тридцатью четырьмя словами.
Оба они были непостижимо любопытны. Они без конца выспрашивали, вынюхивали и судачили. Удел многих – бессмысленная погоня за сведениями, которые только делают их несчастными. Обоих страшно интересовали мои родители, много ли у меня братьев и сестер в той далекой стране, о которой они не имели ни малейшего представления, семейные ли они, имеют ли детей и кто сколько; а как я сам, женат или помолвлен, и почему до сих пор нет ответа от человека, которому я написал – они это знали – месяца два назад. В пристройке, где я жил и должен был сам убирать, хозяйка бывала ежедневно и, пока я работал в поле, перерывала мои вещи. Я подставлял ей маленькие ловушки, и знаю, что не проходило дня, чтобы она не побывала у меня с обыском. Каждое утро я клал обломок спички на крышку своего запертого сундучка, и никогда вечером ее не оказывалось на месте. Я понимал, что с моей стороны это мелочно и недостойно. Пусть бы старая карга рылась в моем барахле. Но вот что значит попасться в когти глупости. Сам становишься дураком. Во всяком случае, благородства это не прибавляет. Впрочем, в сундучке лежало письмо, горестное письмо, и я не хотел бы, чтобы оно попало в руки глупости. Бывает, что причиняешь человеку зло, сам того не желая и даже ничего для того не делая, просто самим своим существованием… Так и я причинил человеку зло и ничем не мог тут помочь. Кому приятно, если глупость сунет нос в твои дела и начнет судачить. Все эти письма сожжены много лет назад, надо было бы сжечь их еще тогда… Странно как-то получается: наш рассудок говорит нам, что вещи – это лишь скорлупа, внешняя оболочка чего-то более глубокого, интимного. Но чувствами мы привязаны к каким-то вещам, и мы прячем и храним их, пока жизнь или мечта не угаснут в них. А бывает, что мечта остается навсегда в детском башмачке, запертом у тебя в шкафу. И только глупость может издеваться над теми, кто хранит щепочку от креста, на котором был распят Иисус Христос.
На ферму не приходило никаких писем, кроме тех немногих, что были адресованы мне. Когда пришло первое письмо, моя парочка уселась рядком послушать, о чем мне пишут. Только значительно позже я понял, как смертельно я их оскорбил, сунув нераспечатанное письмо в карман, чтобы позже почитать на свободе. С тех пор каждое новое письмо вызывало магнитную бурю, воздух наэлектризовывался, в голосе фермера и его супруги слышалась дрожь. Что же такое глупость? Может, это стремление к общности людей с общим кровообращением? Людей, сросшихся бедрами, как сиамские близнецы? Во всяком случае, первая примета глупости – это стремление сделать общим самое сокровенное: ты не можешь думать в одиночестве, ты не можешь иметь никакой тайны с женой, с ребенком; глупость хочет знать, что творится в каждом уголке твоего дома. У тебя нет ничего личного. Все разжижено общим кровообращением.
Однажды вечером я вернулся домой. Хозяин побывал на почте. На столе лежало письмо для меня. Оно лежало, белея посередине стола, как обвинительный акт. Парочка сидела, каждый на своем табурете, молча, почти не дыша. Они не смотрели, как обычно, жадными глазами то на меня, то на письмо. Они смотрели по сторонам бегающим, ускользающим взглядом и молчали. Им повезло. Письмо было написано по-английски, это они поняли, настолько-то они соображали.
Я подошел к столу и взял письмо. Да, от нее! Я повернул письмо. Конечно, оно было вскрыто, вскрыто грубо, видно невооруженным глазом.
Что мне было делать? Уехать я не мог. Я вынужден был жить с этими недочеловеками. Душа моя жаждала отпора, мести. Вероятно, поэтому я ничего и не сделал. Я пошел к себе в пристройку и долго сидел, не зажигая света. Письмо, которого я ждал целую вечность! Вот оно лежит, оскверненное алчными пальцами глупости. Да, нелегко быть молодым. В этом часто убеждаешься.
В конце концов я прочел письмо. Еще и по сей день ощущаю я ту боль в сердце: эти горькие слова, эти робкие знаки любви, эти едва уловимые намеки – все они побывали в руках глупости. То, что было послано за сотни миль, что предназначалось только для моих глаз, было обнюхано и облапано гнусными жабами раньше, чем попало мне в руки.
Что делает в таких случаях молодой человек? Мстит, сжигает к черту дом тех, кто совершил святотатство? Редко. Ему еще трудно поверить, что кто-то мог так поступить. Свое заблуждение он поймет слишком поздно, когда от жажды мести не останется и следа. Моментальная реакция и насильственные действия более свойственны пожилому человеку, отдавшему годы за то, что он в один прекрасный день видит втоптанным в грязь. У молодого человека впереди будущее, этого у него никто не может отнять. Молодой человек подождет, пока все успокоится, а тогда упакует свой сундучок и потихоньку уйдет прочь. Это не бегство в полном смысле слова. Скорее, это бегство от самого себя. В молодости так бывает не однажды, люди склонны долго верить, что у них что-нибудь получится. Некоторые верят в это и после сорока лет: несчастные, начинающие новую жизнь каждые три года или несколько раз в год, с новой женщиной или новым мужчиной, в вечном бегстве от чего-то, что заложено в них самих.
Я шел напрямик по стерне. Идти было трудно. Я спотыкался и падал. Наконец я спустился в пересохшую канаву, которая вела к шоссе. Я знал ее, потому что не раз ходил там. Поднималась луна, над рощей стояло темно-красное зарево. Вдали скулили степные волки. В том месте, где канава сужалась, я поднял сундучок на плечо. И тут я угодил ногой в капкан.
Я пишу эти строки летним солнечным днем на Эланде. В комнате жужжат мухи. Я живу в красивейшем уголке земли, на одном из красивейших островов мира. Я наклоняюсь и смотрю на белые шрамы на левой ноге. Потом бросаю взгляд на Кальмарсунн, спокойный и голубой. Вдалеке тянется дым от парохода. Где-то поблизости мой друг геолог бродит с молотком среди меловых гор, надеясь найти окаменелости для музея. Я снова смотрю на свои шрамы. Окаменелости! Останки того, что было когда-то кровью и болью.
Я постараюсь быть как можно более точным. Я простоял в волчьем капкане не меньше семи часов, а может, даже десять или одиннадцать. Я наступил на него левой ногой, и он захлопнулся как раз над щиколоткой. Взяться двумя руками и разжать его хватку в тесной канаве не было возможности. К тому же сундучок, с грохотом свалившийся с плеча, упал как раз на зажатую в капкане ногу. Капкан был укреплен на цепи.
Представляете, каково стоять всю ночь с ногой, зажатой в капкан? Короткий щелчок, боль и минуты, которые кажутся вечностью. Кровь течет ровной струйкой. От долгого стояния начинает дергать колено.
Несколько раз я терял сознание и помню, временами засыпал. Луна поднялась уже довольно высоко. Я стоял, привалившись к стенке канавы, и спал. Человек может привыкнуть даже к капкану. Но, просыпаясь, я чувствовал, что во рту у меня пересохло, я хотел пить, мне было то жарко, то холодно, меня знобило, от бесплодных криков о помощи ныли скулы.
У глупости ржавые и безжалостные зубы. Они не знают страданий живой плоти, нервов или кости. Если ты стал жертвой глупости, не пытайся умолять ее, она лишена воображения, она только крепче сожмет челюсти. Она не способна поставить себя на твое место, она ухмыляется, слыша твои жалобные вопли, для нее это просто шум. Что бы сказала глупость, если бы такое случилось с ней самой? Дурацкий вопрос! Она не в состоянии выучить одну-единственную человеческую заповедь: не делай ближнему того, чего ты не хочешь, чтобы он сделал тебе. Глупость надо убивать!
Но капкан нельзя убить. И ты стоишь, а ночь все тянется, тянется. Луна поднимается, становится белой и ясной. Ты кричишь, пока хватает сил. Пытаешься пересохшим языком облизать пересохшие губы. Пытаешься чуть-чуть переменить положение, чтобы немножко отдохнуть и облегчить боль, но вздрагиваешь и стонешь. Ты плачешь от унизительного бессилия, но капкан и не думает открываться. Он держит тебя из принципа. Ты взываешь к богу, а ему хоть бы что. Ты теряешь сознание и приходишь в себя с жалобным детским криком. Луна садится, она снова становится большой и красной, но твоей ночной вахте нет конца. «Ах, зачем я пошел этим путем? Почему никто не сказал мне, что надо идти другим?» А кто мог тебе это сказать? Конечно, говорили, все говорили: этим путем идти нельзя! Но ты пошел. И вот ты стоишь здесь, и с тобой твоя боль и страх, и нога твоя зажата в ржавых зубах глупости.
Пришел рассвет, но положение не прояснилось, только теперь уже дергало в бедре, и я с некоторым удовлетворением думал о том, что, прежде чем начнет дергать плечо, пройдет еще какое-то время. Но такая уж у глупости подлая натура – с бедра она прыгнула прямо в голову. Оставив на время в покое ногу, она начала ритмично стучать в мозгу. Она забила мне череп камнями и стучала молотком по затылку. С трудом открывая глаза, я видел, что в воздухе пляшут снежинки. Первый снег в этом году. Я осторожно откидывал голову назад и пытался поймать его ртом. Но снежинки только кололи мне лицо. И я думал: грешно ловить волков в капкан. Когда же придет долгожданный охотник и размозжит мне череп дубиной.
Светало, но ни одна машина не прошумела по шоссе, и с фермы, расположенной за лесистым холмом, никто не шел. Да, те, кто не идет в ногу с глупостью, кончают плохо. Волчий капкан еще не самое страшное. После него ты всего лишь очнешься в больнице, где врач прижжет твою многострадальную ногу остро пахнущим лекарством, и ты не сможешь удержать вопль протеста против судьбы и ее волчьих капканов, но потом стиснешь зубы и позволишь доктору колдовать над твоей ногой, а пожилая сестра будет ублажать тебя, точно новорожденного, и лить воду в рот бедняги, который плаксиво требует пить, и вода побежит у тебя по вороту и зальет постель.
Что ж из всего этого следует? Прошли годы. Все осталось далеко позади. Однажды англичанина спросили, как, по его мнению, будут жить его соотечественники через тысячу лет. Он сказал, что, вероятно, они будут сидеть и пить чай. Я тоже пью сейчас чай, хотя и не люблю его, но кофе здесь взять негде. Прошлое? Волчий капкан, несомненно, давно продан в утиль, глупая фермерская чета покоится под каменной плитой, письмо сожжено, а женщина… что с ней теперь?








