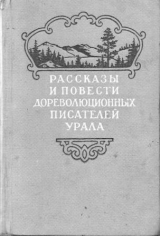
Текст книги "Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала. Том 1"
Автор книги: Константин Носилов
Соавторы: Анна Кирпищикова,Павел Заякин-Уральский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц)
Рано утром мужики пошли опять на перекличку, и вчерашний день повторился с самыми незначительными изменениями. Для Гриши была разница только в том, что ему не довелось работать у распометчика, говорить с его женой и поужинать вкусными щами с говядиной, о которых он вспоминал, принимаясь за неизменную капусту с квасом, которой постоянно кормили у Игната постояльцев.
Так прошло время до половины декабря, а с половины декабря Гришу совсем уволили с Алакшинского завода, предоставив ему возвратиться в Кумор, как знает. В тот же день, в который Грише объявили увольнение, распростился он со своими хозяевами и отправился из Алакши пешком вместе с двумя другими крестьянами, которые отработали свое урочное время. Дорогой Грише приходилось питаться одним хлебом, так как из денег, данных ему Набатовым, оставалось у него уж весьма немного, а работая в Алакше, он не получал, кроме двух пудов хлеба в месяц, никакой платы. Но, несмотря на все трудности обратного пути из Алакшинского завода, Гриша совершил его с большой бодростью, поддерживаемый чувством радости, что наконец кончилась его ссылка и он возвращается домой здоровый и невредимый.
XXI
Подойдя к своему дому, Гриша удивился, увидя сугроб снега у ворот. «Неужели мать-то умерла, – подумал о», тревожно оглядываясь. – Никакого даже следу нет, словно и не живали тут всю зиму.
И он старался заглянуть в ограду, не решаясь забрести в снег, которого набило к воротам аршина на два в вышину. Из соседнего дома вышла женщина с ведрами, узнала Гришу, поздоровалась с ним и сказала ему, что мать его живет у Набатова уже другой месяц, что перешла она туда после смерти Натальи совсем, перевела с собой корову и кур и заправляет у Набатова хозяйством.
– Так неужели Наталья умерла?.. – спросил Гриша, и удивившись, и опечалившись.
– Умерла, милый, до заговенья еще умерла задолго, – ответила ему женщина. – Да ты неужели ничего не слыхал про своих-то?
– Где слыхать-то? Ничего не слыхал. – И Гриша торопливо зашагал к Набатову.
Начинало уже смеркаться, когда Гриша пришел в Кумор, и Егоровна, плохо видевшая и днем, кое-как разглядела своего любимца, вошедшего в избу. С радостным криком обняла она своего сына и целый вечер повторяла с видом полнейшего удовольствия:
– Ну, слава богу, вышел, слава господу богу!
Обрадовался Грише и Набатов. Он совсем поседел в последнее время и как будто постарел вдруг на несколько годов. Сам он затопил для племянника баню и дал ему надеть после бани свое белье, так как у Гриши белья не оказалось – он износил в Алакше все, что у него было, и пришел домой в лоскутьях. Очень не хотелось Набатову идти в эту ночь на работу, но делать было нечего, надо было идти, и он, отложив все разговоры с племянником до следующего дня, поужинал и ушел, подвязав свой кожаный запон и накинувшись сверху шубой. Гриша проводил его за ворота и поглядел ему вслед. Набатов ничего не говорил о смерти Натальи, но видно было по его унылому, потухшему взгляду и всей постаревшей и опустившейся фигуре, как глубоко поразила его эта смерть. И Гриша в душе крепко жалел старика. По уходе Набатова Гриша с удовольствием растянулся на чистых просторных полатях и стал расспрашивать у матери о куморских новостях: о том, кто из молодежи поженился в эту осень, какие девки вышли замуж, и Егоровна принялась рассказывать сыну все, что знала, и рассказывала чуть ли не всю ночь, не замечая, что он давно заснул под ее рассказы.
На другой день Набатов разговаривал с Гришей.
– Застрелился ведь ворог-от наш, – сказал он. – Осенью еще это было, в сентябре.
– Как он застрелился, пошто, расскажи-ка, дядя, я ведь ничего не знаю, ни от кого не слыхал, как что было, – сказал Гриша и не мог удержаться от пытливого взгляда на дядю.
– А так и было, что застрелился, и только. Утром это случилось, часов в десять, услышали в кабинете-то. его выстрел, хозяйка-то его и пошла к нему в кабинет посмотреть, чего, мол, он там палит; пришла, а у него уж и дух вон. Лежит, сказывают, на диване, череп-от с головы сорвало и мозг-от вышибло, да на стену и ляпнуло. Ну, известно, испугалась она, заревела, послала по Ермакова – тот пришел, поглядел, видит, мертвый; кабинет заперли, караул поставили и послали нарочного с донесением в правление и к исправнику.
– А отчего он застрелился, так неизвестно и осталось?
– Нет, неизвестно. Это уж богу судить – не нам. Толковали в народе-то, что нашли у него на груди пакет, тремя печатями запечатан, и на самого владельца подпись та написана, чтобы то есть к нему отправили, да Ермаков, бают, взял да к управляющему и отправил. Может, тут что и было написано про то, отчего он застрелился; а кроме этого ничего неизвестно. Отпевать его не велели: самоубийцев-де не отпевают. Вот, не помнишь ли, может, годов пять тому причетчикова дочь утопилась? Так ее тоже схоронили без отпеву.
– Как не помнить, помню, – ее натомили еще.
– Ну и Чижова-то тоже ведь натомили, не без того. Лекарь был это, и исправник, и все дня три жили. Хоронили его в воскресенье. Я пошел поглядеть – не то, чтоб я рад был, хотя он и ворог мой лютой был, и сам я на него зуб грыз, а как учул, что он застрелился, так меня словно обухом треснуло – испужался я, вот сам не знаю, чего: лом у меня был в руках, даже лом этот выпал. Ну и пошел я поглядеть, в гробу уж увидел. До этого я все на него злобу имел, говорил даже Рясову: ну, мол, туда ему и дорога, собаке – собачья и смерть. А тут как увидал его в гробу-то – черный, вот словно уголь, лежит, и лоб черным обвязан, так словно меня страх какой взял, глядеть даже не мог долго, отвернулся скорее. Хозяйка его опять ревела шибко, вот словно кожу с тела сдирают, как она закричит: «А Васенька, пошто ты меня оставил?» Я не мог тут и быть, ушел домой и не проводил. Закопали, бают, где-то по-за кладбищу – там в лесу, и не знаю, где.
– Правду я говорил, дядя, что бог его покарает за нас, – сказал Гриша, выслушав этот рассказ.
Набатов отвечал глубоким вздохом и долго молчал, задумавшись.
– Не приведи бог никому такой смертью умирать, – сказал он, наконец. – Хотя он и много мне зла наделал, одначе что тожно об этом говорить. Самоубийце, бают, на том свете прощения уж не будет, молиться даже за них не велят.
– Одначе хозяйка его молится, – сказала Егоровна, пришедшая в избу с холстом в руках и слышавшая только конец разговора. – Наняла, бают, какого-то нездешнего попа поминать сорок дней, даже, бают, и отпевали потихоньку на могиле-то.
Набатов не сказал на это ни слова и, помолчав, спросил у Егоровны, желая переменить разговор:
– Что это ты с холстом делать хочешь?
– Да вот хочу парню-то рубаху скроить: ведь совсем он обносился, – сказала Егоровна, подходя к Грише и примеривая по нем длину рубахи.
– А шить кто станет: ведь ты шить не видишь? – спросил Набатов.
– А уж и не знаю кто, найму кого.
– Ты бы уж и скроить заставила кого другого, сама-то, пожалуй, только добро изведешь попусту, – посоветовал ей Набатов и потом прибавил, обернувшись к Грише:
– Жениться тебе надо, парень, старуха у тебя совсем плохая стала, еле ноги волочит, по хозяйству управлять уже не может; ее дело тожно с ребятами водиться.
Гриша вздохнул.
– И рад бы жениться, – сказал он, – да ведь, сам знаешь, дядя, на свадьбу деньги нужны, а у меня что – ничего нету, одежды даже никакой нету, стыдно на улицу выйти.
– Ну, одежду завести недолго, – сказал Набатов ласково, – вот к празднику торговые наедут, так и купим; на свадьбу денег тоже не бог знает что надо, я дам, не тужи; мне теперича копить не про кого – родни у меня только ты и есть.
И он тяжело вздохнул, грустно поглядев на племянника. А тот только беззвучно шевелил губами, стараясь выразить дяде свою благодарность, и не мог сказать ни слова – радость захватила ему дух.
– Будь ты вместо отца родного, пособи ты нам, сиротам убогим, – слезливо заговорила Егоровна, подходя к Набатову.
– Ну да полно, чего ты канючишь. Смерть этого не люблю, – сказал Набатов, но в голосе его не было обычной строгости, и потому Егоровна не унялась.
– Будь отец родной, не покинь нас, сам уж и сосватай по своему разуму, где найдешь лучше, – заговорила она.
– Ну, ладно, ладно, об этом еще речь впереди будет. А ты вот давай-ка собирать на стол – обедать пора, – нетерпеливо перебил Набатов.
Пока Егоровна накрывала на стол, Гриша спросил у Набатова:
– А ты, дядя, помнишь, об чем я с тобой летом говорил?
– Как не помнить – помню, – отвечал Набатов, – а что?
– Да так, ты уж того, у Галкина-то и посватался бы, – сказал Гриша, поглядывая на дядю.
– У кого? – сказал на это Набатов. – Тебе жить-то – ты и выбирай, у Галкина, так у Галкина: Аграфена – девка славная, бойкая, работящая.
– Кто это? Про кого баите? – спросила Егоровна, внимательно прислушиваясь к разговору.
– Да про Аграфену Галкину, ее хочет сватать.
– Чу кого! Что же, с богом – девка хорошая.
Пообедали. Набатов лег спать, а Гриша оделся и вышел из дому. Ему хотелось повидаться с Груней, но он не знал, где и как.
«Пройду мимо их, авось, не выйдет ли за ворота», – подумал он, направляясь в улицу, где жил Галкин.
И точно, Груня вышла за ворота тотчас, как увидала его. Она еще накануне слышала, что Гриша пришел домой, и с самого утра поглядывала в окно, ожидая, что он пойдет мимо. Увидав ее у ворот, Гриша подошел к ней и молча поклонился.
– Здравствуй, Гришенька! – сказала она, зарумянившись и кланяясь ему.
– Сколько времечка не видались – без малого полгодика, – сказал Гриша, глядя на ее раскрасневшееся лицо.
– Долго не видались, даже и слуху-то про тебя никакого не было, – заговорила Груня, несколько оправляясь от смущения. – Что ты там делал?
– Известно что – робил: сперва в рудниках, после в поторжной, а тут и совсем уволили; недели три еще до срока не дошло, да так уж по милости уволили.
– Ну, и слава богу; мать-то, поди, рада?
– Как не рада, один ведь я у нее только и есть. А вы как жили-поживали, все ли благополучно, все ли здоровы?
– Ничего, живем помаленьку, все здоровы. А вот у вас в родне-то беда стряслась – Наталья умерла.
– Умерла бедняга, что делать!
Гриша вздохнул и прибавил:
– Мне вот дядю жалко, он хотя и ничего не бает, а видно, что тоскует по ней шибко.
– Как не тосковать-то! Одна ведь только и была; ну, опять, может, и об том тоскует, что сам неправ: от побоев ведь ей болезнь приключилась.
Гриша молчал.
– А вы все у него живете, а?
– Все, до праздников тут будем жить, а после праздников, как жениться стану, перейдем в свой дом, – сказал Гриша, улыбнувшись.
– Что делает Егоровна? – спросила Груня.
– Рубахи мне кроит, шить-то не видит – не знаю вот, кому бы шить отдать.
– Мне одну принеси, я сошью, – вызвалась Груня.
– Грунька, а Грунька! – раздалось из дому.
– Иду, – отозвалась Груня, взявшись за кольцо. – Прощай, Гришенька, принеси рубаху-то.
– Ладно, принесу, прощай, Грушенька, – и Гриша поспешно отошел от ворот, заслышав на крыльце тяжелые шаги Груниной матери.
– С кем ты тут тараторила? – взъелась на Груню мать, когда та взошла на крыльцо. – Смотри, вот я скажу отцу-то!
Груня, не сказав ничего, шмыгнула мимо нее в избу.
«С кем это она? Ишь, лукавка, молчит ведь», – думала Галчиха, сходя с лестницы, и, отворив ворота, выглянула на улицу. Гриша уже поворачивал в переулок, и Галчиха не могла его узнать издали.
А Груня между тем принялась за прялку с какой-то лихорадочной поспешностью, у нее сильно билось сердце и дрожали руки.
«Какой он баской стал, – думалось Груне, – словно вырос еще, борода зачалась у него… Жениться хочет… Неужели он меня не возьмет?» – И сердце у нее как будто упало при этой мысли.
XXIII
Наступили святки; заперли фабрики в Куморе, и загуляли мастеровые. Грише купил Набатов перед праздником кафтан, сапоги и ситцу на рубаху. Слух о том, что Набатов накупил племяннику обнов и после праздника хочет его женить и свадьбу сделать от себя, то есть на свой счет, скоро распространился между куморскими невестами. У кого будет сватать Набатов за племянника – никто не знал наверно, и те из невест, которым Гриша представлялся приличной партией, наперерыв старались ему понравиться, зазывая его на вечорки; чаще других припевали его в песнях, где следовало целоваться, и крепко хлопали по спине в святочной игре в жмурки. Никто не думал ставить ему в вину ссылку в Алакшинские рудники, напротив, все жалели его и говорили, что он пострадал безвинно. Молодежь наперерыв зазывала Гришу в гости, а Андрюша Ипатов, первый щеголь из куморских мастеровых, даже предлагал поставить его, Андрюшу, в дружки, когда Гриша будет венчаться, и всячески старался выведать, у кого он хочет сватать невесту. Но Гриша или отмалчивался или отшучивался до времени, простодушно удивляясь, отчего это все так ласковы и так льнут к нему и заискивают его дружбы даже те парни, которые прежде ему и не кланялись. А дело объяснялось очень просто: Гриша жил у Набатова – у богатого, вдового и бездетного Набатова, и говорили все, что Набатов души не чает в племяннике.
– На моду попал Косатченок, – толковали бабы между собой. – У девок только и разговору, что про Гришку…
– Все до единой замуж за него собираются, – смеялись бабы. – Вот бы нашутил да взял нездешнюю! Уж по-цыганили бы мы над нашими девками…
– А он парень баской, – тараторила одна молоденькая баба. – Ему надо и невесту брать баскую, за богачеством гнаться нечего – богатства и у Набатова много: умрет – все ему оставит.
– Когда еще умрет, – говорили другие.
– Ну, когда! Когда-нибудь да умрет же, а тогда Гришка, пожалуй, первый богач в Куморе будет.
Молва, разумеется, баснословно преувеличивала богатство Набатова.
Прошли праздники, и в первое же воскресенье после крещенья Набатов нарядился в свой суконный бешмет и, помолившись на иконы, поклонился Егоровне и сказал:
– Благослови, старуха, иду сватать.
– С богом! С богом! – заговорила Егоровна. – Дай бог счастливо, – и перекрестила его вслед.
Гриша хотел было проводить дядю, но Егоровна удержала его, потому что видела в этом нехорошую примету.
– Не ходи, что провожать-то! Не на век ведь пошел, – сказала она.
Гриша опустил голову на руку и, задумавшись, сидел у окна.
– Не тужи, отдадут ведь, – успокаивала его Егоровна.
– Отдадут ли, нет ли, еще неизвестно, – задумчиво сказал Гриша. – Знают ведь, что я нужной да бедный, может, и не захочут за бедного-то отдать.
– Ну, какой же такой бедный – есть и беднее тебя, – заговорила Егоровна с неудовольствием. – У тебя еще, слава богу, изба есть своя, покос, корова, робить станешь – хлеб станут давать, чего тебе еще надо?
Гриша не отвечал и, только вздохнув глубоко, с тревогой ждал возвращения Набатова.
«Господи, как он долго, что он так долго?» – думал Гриша, поглядывая в окно.
– Долго засиделся наш сватовщик, – проговорила Егоровна, как будто в ответ на Гришину мысль. – Надо быть, дело на лад идет.
Но вот часа через три, показавшиеся Грише целым веком, он завидел, наконец, дядю на улице. Набатов шел не торопясь; в последнее время он привык ходить с опущенной головой, и Грише из-под нахлобученной на дяде мохнатой шапки не было видно его лица. Вошел Набатов в избу, снял шапку, повесил ее на гвоздь и весело поглядел на племянника. У того отлегло от сердца.
– Что? – спросил он.
– Да то, что через два дня велел Василий за ответом быть, – сказал Набатов, садясь на лавку. – С родней хотят посоветоваться – с дедушкой, с бабушкой, со всеми.
– Неужели они не посоветуют? – встревожился Гриша.
– Почему не посоветуют; да и сказано это было так – для порядку только: по всему видно, что хотят отдать, – сказал Набатов.
– Невесту-то видел? – спросила Егоровна.
– Видел, как зашел, она в избе сидела, стал говорить-то – она соскочила да и вон из избы.
– Застыдилась, девка молоденькая! – с ласковой старушечьей улыбкой молвила Егоровна.
Прошло два дня, опять пошел Набатов к Галкину, – и на этот раз уж вернулся с решительным ответом. Велели на другой день на рукобитье приходить, а через неделю и свадьбу назначили. И всю неделю Гриша хлопотал около своего дома, убирал снег из ограды, белил в избе печь и потолок, перевез от дяди дров – возов до пяти – и старался из всех сил все привести в порядок ко дню своей свадьбы. Набатов помогал ему во всем словом и делом.
Наконец, наступил этот день, так долго ожидаемый, повенчался Гриша и привез в свою старую, но чистую и прибранную избу, похожую на веселую, принарядившуюся старушку, свою молодую жену.
Набатов – с блестящей фольговой иконой в руках, а Егоровна – с большой ковригой пшеничного хлеба чинно встретили молодых в сенях, благословили иконой и хлебом, дали укусить от него новобрачным и повели их в избу. Там Груне свахи тотчас же заплели распущенные по плечам волосы на две косы, обвили их вокруг головы, и Егоровна надела ей на голову шашмуру – убор замужних женщин.
Пировали на свадьбе весело, подпили все, но разгульных песен и плясок не было. Набатов и смолоду не любил буйного веселья, и гости из уважения к нему сдерживали свои чересчур веселые порывы. Даже в большой стол, бывающий на другой день после свадьбы и справляемый с особым шумом и весельем, не было ни пляски, ни музыки, ни битья посуды, обыкновенно сопровождающих свадебные празднества. После ужина разрумянившиеся от выпитого вина гости чинно уселись по лавкам и затянули песню про молодых, которые то и дело обносили их пивом и брагой, низко кланялись и просили кушать по всей.
«Горько! Горько!» – слышалось беспрестанно, и молодых заставляли целоваться по нескольку раз за каждым стаканом.
– Ну вот и живите с богом, – говорил дедушка Савелий на прощанье. – Дай вам бог совет да любовь да долгий век. Ты, Груня, слушай мужа во всем, потому он глава, и свекровь почитай – старушку почитать следует, а про свата Сергея Ларивоныча я уж и не говорю, за него оба вы вовеки должны бога молить.
– Это точно, что должны они за него бога молить, – вмешался Василий Галкин. – И почитать его должны во всем паче отца родного, потому много он им добра сделал.
– Какое добро! – сказал Набатов. – Полноте об этом толковать! Вот выпейте-ка лучше на дорожку. – И он налил в рюмки вина и велел Груне подать собравшимся уходить гостям. Но, взявшись за рюмку, Савелий еще долго разглагольствовал о доброте Набатова и о том, что его следует почитать, и о том, что начальство надо уважать и слушать во всем. Галкин вторил своему тестю, соглашаясь с ним вполне.
Наконец, выпив вино, все перецеловались с Набатовым, Егоровной и с молодыми, которым еще раз пожелали совет да любовь и долгий век, и разошлись по домам.
– Слава богу, пристроили девку, – говорила Галчиха дорогой, поддерживая своего пошатывающегося мужа. – Что нужды, что дело их небогатое: поживут – наживут. Парень он работящий, старательный.
Галкин произнес какие-то неясные звуки в ответ на слова своей жены. Он сильно раскис и кое-как шел, опираясь на ее руку.
– Ладно, пусть с богом живут, – заговорила опять Галчиха, не обращая внимания на мычание мужа, – все лучше, чем в девках сидеть, по крайности заботы теперь у меня не будет. – И всю дорогу громко рассуждала она на эту тему, помахивая свободной рукой и выписывая разные фигуры по дороге вместе со своим мужем.
Простился с молодыми и Набатов и ушел в свою опустелую избу; и долго не спалось ему в эту ночь. Сел он под окно и, облокотившись на руку, уныло глядел на тихую белую улицу.
«Не воротишь, не воротишь, – шептал он по временам, глубоко вздыхая. – Все прожито, и худое и доброе – все прожито, и ничего впереди нету. Сызнова жить начинать – охоты нету, да и стар уж я стал, поседел совсем, и не пристало мне с седой головой да под венец ставать. Не женился смолоду, так теперь уж думать нечего… Стану век доживать бобылем бессемейным, а под старость к Григорию уйду либо его в свой дом переведу.
И долго еще думалось Набатову о предстоящей одинокой, невеселой жизни; вспоминалась Наталья, вспоминалось ее красивое бледное лицо, ее грустные, тихие глаза, и медленно скатывались слезы по морщинистым щекам Набатова и падали на рукава его суконного бешмета.
Не вспоминались ли ему в эту тихую, темную ночь тяжелые, жалобные стоны? Не выступали ли на чистом полу его избы кровавые пятна? Кто знает!
XXIV
Прошла неделя после свадьбы, и жизнь Гриши, ставшая на время рядом праздников, приняла опять свой будничный, серенький колорит. Попрежнему стал он работать в кричной, подвязав свой кожаный запон и обувшись в лапти с баклушами. Толстым слоем сажи покрылось его молодое, красивое лицо, и только весело блестели глаза да белели зубы, когда он, возвратившись домой, улыбался на веселые шутки и заигрывания своей молодой жены. Все было как по-старому, но чувствовалась во всем перемена – и перемена к лучшему. Парнишкой Гришей он остался только для своей старухи-матери, а для всех прочих стал Григорием Касаткиным – рабочим, семейным человеком. Мастера снимали ему шапки в ответ на его поклоны, знакомые бабы называли Григорьюшком, а мало знакомые называли по имени и отчеству. Чувствовать себя стал Григорий – будем уж и мы его называть так – лучше, будто сильнее физически и гораздо смелее и спокойнее. Усердно работал он, и скоро старики-мастера стали поговаривать про Григория:
– Славный работник вышел из него, толковый, сметливый, весь в дядю пошел. Пожалуй, годиков через пяток сам мастером работать зачнет.
И с удовольствием прислушивался к этим толкам Василий Галкин, любо ему было, что зятя хвалят. «Ладно, значит, сделали, что девку-то за него отдали; не ошиблись, значит», – думалось старику Галкину после таких толков.
– Советно ли, хорошо ли живут молодые? – спрашивали бабы у Галчихи. – Почитает ли тебя зятек-то?
– Слава богу, что бога гневить! Всем довольна, – крестясь и отплевываясь, чтоб не сглазить молодых, отвечала Галчиха.
А Груня между тем весело хозяйничала в своей старенькой избе, и, не умолкая, жужжало веретено в ее проворных, привычных к труду руках. Торопилась она выпрясть лен поскорее, чтоб успеть соткать до весны холст наравне с другими бойкими бабами, чтоб не сказали про нее, что она тихоня, не умеет ни прясть, ни ткать. Но еще больше заставлял ее спешить недостаток белья у Григория, которое, несмотря на то, что делалось из крепкого домашнего холста, изгорало и изнашивалось на работе очень скоро. Много было забот у молодой хозяйки, и всегда полны руки работы, но ни уныние, ни недовольства своей участью не смущали ее. Весело, с надеждой на свои молодые силы начинала она свою трудную семейную жизнь и чувствовала, что только упорным трудом можно отбиться от суровой бедности, и все ее помыслы устремились к нему.
– Только было бы над чем робить, а уж мы бы стали, – говорила Груня мужу, когда он отдыхал дома после работы. – Вот вытку я холст. Наступит весна – стану садить огород; одна беда – огород у нас мал. Кабы дозволил приказчик загородить там, по-за огороду-то, место пустое, вот бы хорошо-то было.
– Что же, попросить сходить можно, – ответил Григорий, – может, и дозволят.
– Сходи-ка, право, попроси. Как только снег растает, так и сходи.
– Ладно, схожу.
– Да на что тебе, большая ты сыть, огород-от? – заговорила Егоровна, – слушавшая с не совсем довольным видом этот разговор. – Ты думаешь, мало с ним работы? Ведь надо вскопать, посадить, поливать, полоть! И в этом, дитёнок, досыта наробишься, а коли бог уродит, так ведь нам с этого овощи-то девать некуда. Я вон веснусь сколько ведер картови свиньям скормила.
– Ну зачем же свиньям кормить? Осталось бы, так продавать бы стали, – сказала на это Груня.
– Продавать, да кто купит? Ведь у каждого здесь свой огород.
– Ну, здесь не купит никто, так в город бы повезла; ведь город недалеко, всего сорок верст.
Егоровна всплеснула руками при такой смелой, по ее мнению, мысли. Ей, никогда не бывавшей дальше своего покоса и ближайших лесов, куда она хаживала за грибами и ягодами, расстояние в сорок верст казалось громадным. Да и мысль о том, что в городе все чужой, незнакомый народ, что между этим народом много сердитых и важных господ и чиновников, которые, пожалуй, и даром отнимут товар у заезжей бабы, страшила трусливую, хилую старуху.
– Полно врать-то, молодушка! – сердито сказала она. – Эку штуку выдумала – за сорок верст овощи возить! Да и на ком ты повезешь! На себе, что ли?
– Зачем на себе? – рассмеялась Груня. – Да ты не сердись, мати, ведь я еще не поехала, еще собираюсь только.
– И собираться-то нечего по пустякам, – говорила Егоровна. – Ведь хлеб у тебя есть, коровушка есть, денег, хоть и немного, да все же заробит хозяин, ну и слава богу, чего тебе еще надо? Сиди-ка да сиди в избе-то; будет с тебя и домашней работы.
– В избе-то сидя, мати, ведь ничего не высидишь, – не утерпев, опять сказала Груня. – Да изба-то у нас погляди-ка какая худая: ведь развалится скоро, надо новую строить.
Григорий глубоко вздохнул при этих словах. Мысль, что надо строить новую избу, заботила его крепко. Набежали тучки и на веселое, румяное лицо Груни, задумалась и она.
– Не тужите, дети, – кротко заговорила Егоровна, – надейтесь на бога да на добрых людей. Эта изба-то ведь простоит еще год-другой; ну, а там приказчик лесу даст, да добрые люди пособят – вот и построитесь.
– Не шибко добрые-то люди нашему брату пособляют, – заговорил Григорий. – Все-то норовят, чтобы из тебя чего вытянуть, а не тебе дать; только и надежды, что на отца – пособит, не пособит он, а окромя его кому нужно.
Отцом Григорий и Груня стали звать Набатова после того, как он благословил их иконой, и на его помощь они рассчитывали больше всего.
– Как не пособит – беспременно пособит, – заговорила Егоровна, с радостью ухватившись за эту мысль. – Свадьбу ведь пособил же сделать, ну, пособит и построиться. Ему ведь денег-то девать некуды. Намедни отпер при мне ящик, так я даже сдивилась, сколько у него денег накоплено: поди, рублев со сто есть.
Егоровна не знала счету больше ста рублей и не могла себе представить суммы больше этого. Григорий и Груня переглянулись и засмеялись.
– А ты думаешь, сто рублей – бог знает, какая сумма несметная, – сказал ей на это Григорий. – Молчала бы ты уж, коли толку у тебя нету, – прибавил он, вздохнув, и потом сказал, обращаясь к жене:
– Весной нам надо помочь сделать да покос расчистить: все же, может, возик-другой лишка сенца поставили бы; вот бы, глядишь, на овечку-то и было.
– Беспременно надо, вот корова отелится, телушку бы растить стали, кабы сено-то было на улишке, – сказала
Груня и прибавила, взглянув на мужа: – Что бы отцу нам хотя один покосик отдать, у него покосов много, и страдовать некому.
– А вы попросите, может, и отдаст, ведь он и в самом деле один теперь, на что ему! – сказала Егоровна.
– А смерть я люблю, у кого земли много; хорошо тому жить, у кого покосы большие, да как еще пашня есть: скота держи, сколько хочешь – коров, овец, лошадь бы завели – то-то бы жизнь-то была, – мечтала Груня и, воспламенившись нарисовавшейся в ее воображении картиной такого довольства, прибавила с решительным видом:
– Нет, уж ты хотя чего говори, мати, а выпрошу я земли под огород; сама к приказчице схожу – снесу ей хоть ниток моток да выпрошу земли. Стану наперво овощами торговать; у Ипатовых вон овощами-то торгуют, так уж сколько чего завели, рублей на тридцать, бают, в осень продают, а ведь тридцать рублей – не шутка, сидя в избе-то не высидишь.
– Известное дело! – задумчиво сказал Гриша. – Кабы на осень да рублей хоть двадцать заработать, так и то бы куды хорошо было.
– Что же, и заробим – неужели не заробим? – сказала Груня весело. – Вот лето будет, страдовать станем: свои покосы расчистим, у отца попросим – ему за то страдовать пособим. Он мне еще телушку посулил дать – вот выкормим ее, продадим, овощи вырастут – продадим, вот и деньги будут и станем избу строить.
– Ой, молодушка, ребячий еще умок-от у тебя! – сказала на это Егоровна. – Еще медведь-то в лесу ходит, а ты уж шкуру дерешь; не загадывай далеко, дитёнок, грешно!
– Вот опять грешно! Да что за грех? Ведь я не воровать собираюсь, – горячилась Груня, – я все, как у добрых же людей, лажу. Говори-ка лучше, мати, что твои-то бы, мол, речи да богу в уши.
– Что ее слушать, – сказал на это Григорий, – ее дело старое, хилое – ей бы только на лечке сидеть, а тебе уж надо самой всем делом править. Вот у отца спросить можно, потому он на все наставить может.
И часто повторялись в избе такие речи, и крепко надеялись молодые работники на свои силы и на лучшие будущие дни. Насколько сбылись их надежды и ожидания – покажет время.
1867
ПРИМЕЧАНИЯ
A. A. КИРПИЩИКОВА
Анна Александровна Кирпищикова родилась 2 февраля 1838 года в Полазнинском заводе на Каме. Ее отец, Александр Григорьевич Быдарин был крепостным служителем заводовладельцев Абамелек-Лазаревых.
Ей не удалось получить систематического образования. Грамоте она научилась у матери да в возрасте двенадцати лет брала уроки у пятнадцатилетнего ученика заводского училища.
Подлинными учителями будущей писательницы были книги и живая жизнь народа. С детства она прониклась глубоким чувством уважения к людям труда. Она видела тяжелую «огненную» работу, трудовой ритм большого завода, любовалась силой и ловкостью мастеровых, ворочающих в огне тяжелые крицы. Для нее это были близкие люди. Их беды и радости волновали девушку.
В феврале 1854 года А. А. Кирпищикова вышла замуж за крепостного же учителя заводской школы в Чермозе, человека демократических взглядов. Помощь, которую оказывал ее муж рабочим в борьбе против заводовладельца после реформы 1861 года, привела к увольнению его с работы.
А. А. Кирпищикова тоже хотела помочь народу. Именно этим желанием было определено начало ее творчества.
В 1864 году она направила в передовой революционно-демократический журнал «Современник» первый рассказ «Антип Григорьич Мережин». В письме Некрасову она писала: «Все мои симпатии находятся на стороне народа». Рассказ был напечатан в январском номере журнала за 1865 год.








