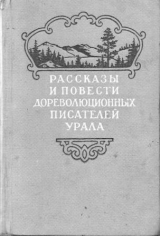
Текст книги "Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала. Том 1"
Автор книги: Константин Носилов
Соавторы: Анна Кирпищикова,Павел Заякин-Уральский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц)
– Эк что выдумал! Ног не смогу вытащить! Да ты с чего меня за такую худосильную считаешь? Хошь, я те на землю брошу?
И Груня, неожиданно обхватив своего собеседника обеими руками, старалась побороть его, но Гриша устоял и сам, обняв ее за талию, крепко прижал к сердцу.
– Пусти, пусти, – ветревоженно заговорила Груня, отбиваясь от него и отворачивая лицо, на которое сыпались горячие поцелуи. – Что ты делаешь? Ну беда ведь, коли кто увидит, ночи светлые.
– Полно, не бойся, кому видеть, все уж давно спят, и чего ты боишься? Ведь я-то поцелую только, не убудет ведь тебя. Во как я люблю тебя, Грунюшка, во как!
И он все крепче жал ее к своей груди, все горячее целовал.
За огородом послышалось хихиканье; Гриша поспешно выпустил свою подругу и присел на межу, а она подбежала к плетню и выглянула в калитку. За огородом скакал на одной ноге кудрявый мальчишка лет девяти и смеялся.
– Ты чего по-за огородами-то шныряешь, постреленок? – закричала на него Груня. – Разве не слыхал, что мать ужинать звала?
– Слыхал.
– А слыхал, так что ж нейдешь?
– А ты что нейдешь? – переспросил мальчик.
– Да видишь, капусту поливаю, полью, так и пойду.
Мальчик опять громко засмеялся и, показав Груне кукиш, убежал на берег и стал бросать гальки в воду.
– Вишь, постреленок, напужал до смерти! – говорила Груня, возвратясь к Грише, все еще сидевшему на меже. – Я думала, и нивесть кто идет, а то Митька-углан шныряет, как заяц.
– Смотри, он скажет твоим-то!
– Не, не скажет, не велю. А ты чего тут сидишь? Убирайся-ка домой, пора уж.
– Рано еще, Грунюшка, сядь, посидим маленько, побаем, еще ничего не баяли. Может, долго не видаться, потому мне безотлучно велено на конюшне быть.
– Ну ладно, ино сяду. Только, чур, не озорничать, рукам воли не давать, – уговаривалась Груня, садясь возле него на межу.
– Да ведь сама же ты зачин сделала, – сказал ей на это Гриша, улыбаясь. – Я бы сам собой не смел.
– Вишь, какой несмелый! А тебе кто сказал, что меня на работу выписали? – круто поворотила Груня разговор.
– Сказал я, что от Тимки слышал.
– А Тимка от кого?
– Ему Дунька сказала. Он ее под сараем видел.
– А она тоже робит?
– Робит, третий день уж робит.
– Ну вот, видишь, она со мной одногодка, а ее тоже робить выгнали, значит, и меня уж не ослободят.
– Тебя бы ослободить можно, потому ты одна дочь, а у Дуньки две сестры уж с нее же. Не ослободит он тебя разе по насердке только, – сказал на это Гриша задумчиво.
Несколько времени они оба молчали.
– Станет он ездить там – смотреть, как ты в глине-то топтаться будешь, – заговорил опять Гриша, – будет на тебя кричать, командовать над тобой.
– А что ему надо мной командовать, коли я во всем буду исправна? Небось, я в обиду не дамся.
– Охо-хо, Грунюшка, больно мне тебя жалко. Когда уж это осень-то придет: по осени я тебя беспременно сватать буду. Вот разве не отдадут тебя за меня.
– Отдадут, беспременно отдадут, – отвечала на это Груня уверенным тоном.
Заскрипела верхняя дверь, которая вела в огород из двора, и испуганная Груня поспешно вскочила и схватила ведра, а Гриша шмыгнул в калитку и бегом пустился по тропинке под огородом. В огород вошла сырая, приземистая баба с простоватым широким лицом. Это была мать Груни.
– Грунька! – крикнула она, остановившись у дверей. – Что ты долго домой-то не идешь? Вот уж ночь на дворе-то, отец ругается.
– Я капусту поливала, – отвечала Груня, – сейчас буду, вот только Митьку позову, он под огородом бегает.
– Ах он, постреленок! А я его на улице смекаю. Тащи его, углана, домой, давно уж спать пора.
И баба вышла из огорода.
– Митька! Ступай домой! – крикнула Груня, перегнувшись через плетень и встревоженно оглядывая берег.
Никого не было видно, Гриша уж успел повернуть в переулок; в соседних огородах тоже все было тихо. Только Митька рылся в песке, собирая раковины, занесенные в большую воду с Камы. Груня успокоилась и опять закричала:
– Бежи скорее, постреленок! Мать зовет.
– Иду, – отозвался, наконец, мальчишка и, высыпав раковины, вприпрыжку пустился к огороду.
– Что ты долго бегаешь, полуночник? Давно уж спать пора, – ворчала Груня, запирая за братишкой калитку.
– А ты не ворчи, не то я мамке нажалуюсь, – огрызнулся Митька.
– Чего нажалуешься? Чего? Ну-ка, скажи!
– А то и нажалуюсь, что у тебя Гришка Косатченок был.
И Митька, отскочив от сестры, подразнил ее языком и пустился бежать к дому.
– Ах ты, утлая, вострошарый! – вскрикнула Груня, бросаясь за ним. У ворот во двор ей удалось схватить его в руки, и она проговорила, запыхавшись:
– Только смей матери сказать! Я тебе такую волосянку дам, что вовеки не забудешь.
– Пусти! – вырывался Митька. – Пусти, не то мамке нажалуюсь, задень только, беспременно нажалуюсь.
И в голосе Митьки послышались слезы, он начал хныкать.
– Полно, дурак! Я тебя не трону, только ты мамке не смей пикнуть, я тебе за это пряник дам.
Лицо мальчика просияло.
– Когда дашь?
– Завтра дам.
– А не обманешь?
– Зачем обманывать? Беспременно дам.
– Ну, ладно, я ино не скажу.
– Не сказывай, Митька, пойдем домой, я тебе молочка похлебать принесу.
И сестра и брат, примирившись, ушли из огорода.
V
В тот же вечер у себя в доме мастер куморской кричной фабрики[3] Сергей Ларионов Набатов, коренастый сорокапятилетний мужчина с суровым, загорелым лицом, обложенным густой, уже наполовину поседелой бородой, производил расправу над своей дочерью, молодой семнадцатилетней девкой Натальей: колотил ее своими тяжелыми мозолистыми кулаками по спине и голове, таскал за косу и приговаривал, задыхаясь от ярости:
– Я тебя выучу, подлая рожа, развратничать! Я тебя в гроб вколочу! С живой шкуру сдеру, а стыда терпеть через твои поганые шары не буду!
В азарт вошел Сергей Ларионов. Глаза у него налились кровью, стиснутые зубы скрипели, на посиневших губах выступила пена.
Девка только стонала тяжелыми грудными стонами и даже не пробовала отбиваться. Лицо у нее было в крови, кровавые пятна виднелись на полу. Не слыхал Набатов торопливых шагов в сенях и не видал, как отворилась дверь в избу и сосед его, Тимофей Рясов, высокий русобородый мужик, торопливо вошел в избу и остановился у дверей, пораженный ужасом. Сергей Ларионов только тогда почувствовал присутствие третьего лица в своей избе, когда пришедший захватил ему руки и сказал, стараясь оттащить его от полумертвой девки:
– Полно, Сергей Ларивоныч, перестань, ведь ты ее изуродуешь.
– Не тронь! – заревел Набатов, вырываясь из сильных рук Тимофея Рясова. – Я ее убью, я ее живую из избы не выпущу!
– Ну, убить ты ее не убьешь, а изуродовать можешь. Только не дам я тебе этого греха на душу взять, – говорил Рясов, обхватив Сергея Ларионова и стараясь посадить его на лавку, что и удалось ему после недолгой борьбы.
Девка между тем, пользуясь свободой и руководимая чувством самосохранения, поползла к двери.
– Куда ты, бесстыжая? – закричал Сергей Ларионов и опять рванулся к двери.
Но Тимофей Рясов удержал его, и девка выползла в сени. Когда предмет гнева Сергея Ларионова скрылся от него с глаз, самый гнев его стал утихать. Он сидел на лавке, опустив голову, и тяжело дышал. На нем был накинут пониток сверх пестрой холщовой рубахи и кожаного запона[4]; порыжелая поярковая шапка валялась на полу. Видно было, что Набатов или только что пришел с работы, или собирался идти на работу.
– Не дело ты делаешь, Сергей Ларивоныч, – заговорил мужик, притворив дверь за уползшей девкой и не спуская глаз с Набатова. – Этак родителю поступать не след.
– А ты что за судья такой? – с сердцем спросил Набатов, отирая рукавом свой широкий морщинистый лоб. – Кто тебя спрашивал не в свое дело соваться?
– А что бы ты думал, кабы убил ее? – сказал Рясов тоже сердитым и строгим тоном.
– Не вдруг их, поганых, убьешь, живучи они, как кошки, – ответил на это Набатов, подвигаясь к окну и отворяя его.
Ему было душно; лицо его было сине-багрово; он расстегнул ворот своей рубахи и, высунув голову за окно, несколько раз глубоко вздохнул.
– Неладно ты делаешь, Сергей Ларивоныч, – опять укоризненно заговорил Рясов. – Ведь ты за нее под суд попасть можешь!
– Кто сказал? Под какой такой суд? Дела никому до меня нету, потому я свою дочь учу, свою плоть наказую, значит, и знать никого не хочу, – все еще гневно отвечал Набатов.
– Учить-то ты ее должен, это точно, что должен, да не этак, по-зверски, а тихонько, да не после время, а спервоначалу, когда она в разум входила.
– А разве я ее не учил? Разве не наставлял я ее добром? Ведь она одна у меня только и есть. У, убью я ее негодную! Осрамила она меня, стыд мне теперича, стыд!
И Сергей Ларионов зачыл воем, похожим на рычание дикого зверя. Тимофею стало жаль его; он сел на лавку неподалеку от дверей и, оглядывая пол, испещренный кровавыми пятнами, придумывал, что бы сказать ему в утешение.
– Охо-хо! – стонал Набатов, закрывая лицо руками. – Стыд моей голове, стыд! Никуда мне теперь глаз показать нельзя, стыд да и только!
Рясов только крякнул и молчал, повесив голову.
– И ведь какая девка была разумная, смирёная, воды не замутит! Думано ли, гадано ли, что ей такая беда приключится? Покарал меня бог за мою гордость: охоч я был над людьми смеяться да мудрять – вот за то меня бог и нашел! – сокрушался Набатов, продолжая стонать.
– Что делать! – промолвил Рясов, вздыхая. – Теперь уж ничего не поделаешь, пролито – полно не живет.
– Веришь ли, Тимофеюшко, что кабы я бога не боялся, так взял бы вот да голову в петлю и сунул, таково мне тяжело.
– Как не тяжело! Известное дело, хотя до кого коснись, всякому тяжело! – задумчиво молвил Рясов и потом прибавил, желая переменить разговор:– Ты разве не знал до сегодня, что она брюхата?
– Где знать-то? Ничего не знал.
– Кто же тебе сказал?
– А Кучко, вот кто и сказал. Кроме Кучка, разве мне смеет кто такие речи говорить? Никто не смеет.
– Когда он тебе сказал?
– А вот сейчас. Иду я на работу, в фабрику, значит, а он и попади мне ввстречу, – стал рассказывать Набатов медленным, глухим голосом, точно насильно выдавливая слова. – Остановился, шапку снял, кланяется. Я иду, будто не вижу, – знаешь ведь, что мы сыздавна во вражде с ним. – Что, брат, Сергей Ларивоныч, не кланяешься аль загордел больно? Что с приказчиком породнился, так нашим братом уж брезговать стал? – А сам хохочет, рыло в сторону своротил. Меня точно обухом треснуло, я так и стал. – Говори, баю ему, к чему ты такую речь завел? – А к тому, бает, что скоро-де у тебя внучек будет, приказчицкий сынок, вари пиво, бает, я проздравить буду. – Я более и слушать не стал; хотел было ему в рожу дать, да рука не поднялась, заворотился и побежал домой. А она сидит вот тут на лавке, голову повесила. Стал я напротив и гляжу, еще слова единого не вымолвил, а она бух в ноги: «Батюшка, прости! Не погуби! Виновата!» Тут уж я себя и не вспомнил.
И Набатов опять тяжело застонал. Рясов молчал, качал головой и поплевывал в сторону.
– Замечал я давно, – заговорил Набатов, – что с девкой что-то неладно: прямо она тебе в глаза не взглянет, идет мимо тебя – сторонится, вот словно боится завсегда, одначе все я этого в ней не думал… Охо-хо! Горе мне, горе!..
– Однако и зол же ты, Сергей Ларивоныч, ведь ты ее изуродовать мог, – заметил Рясов.
– Какое изуродовать, до смерти убить хотел. Кабы ты не пришел, беспременно бы ее убил, потому я как в злость войду, то себя не помню. Ты скажи ей, Тимофей, чтобы она мне теперь на глаза не казалась, потому я в себе не властен, – добавил Набатов тихо.
– Да куда ж она денется? – спросил Рясов, озадаченный этими словами.
– А хошь куда, хошь в омут головой, и то не пожалею. Не дочь она мне теперь, и я ей не отец, так ей и скажи, – проговорил Набатов, опять вспыхнув гневом.
– Нет, это ты не дело говоришь, – ответил на это Рясов озабоченным тоном. – Право слово, не дело. Ну, что ты думаешь, как она на себя руки наложит? Ведь ты тогда в ответе будешь. Ты то посуди, что теперь ведь не пособишь, назад не воротишь. Что ее понапрасну увечить? Брось, скажи, что не тронешь больше.
– А ты думаешь, легко мне ее бить? – сказал Набатов в порыве опять сильно подступившего чувства. – Ведь моя плоть она, сам знаешь, как я ее любил, души не чаял. Сорок пять лет я на свете прожил, а экой муки до сегодняшнего дня не принимал. Было горе, как жену хоронил, да и то не столько было тяжело. Другое горе – погорел; помнишь, как я в полымя-то бросился по Натальку, на руках ее вытащил чуть живую, сам чуть в дыму не задох. Изба обнялась пламенем, приступу нет никому, все мое добро погорело, а я стою да молитву творю над Наташкой: «Слава те, господи, слава тебе, девка-то у меня жива осталась!» И то горе, значит, было не горе, лишь теперь оно меня, настоящее-то горе, постигло. Охо-хо! Легче бы мне ее мертвую видеть!
Застонал опять Сергей Ларионов и, стиснув кулаки, заскрежетал зубами.
– Всякий над ней теперь в глаза насмеется, надругается всячески, а она знай, молчи да принимай все! – сокрушался Набатов, ломая руки. – Мастера-то Набатова дочь непотребной девкой стала, за худыми делами пошла! И хошь бы со своим братом связалась, а то…
И он, не договорив, вскочил с лавки, как раненный зверь, и кинулся на улицу. Рясов бросился за ним и настиг его уже в другой улице.
– Куда ты, Сергей Ларивоныч? – спросил он, хватая его за плечо.
– Не тронь меня, я робить пошел, – ответил Набатов глухим голосом и, сердито высвободив свое плечо, ускорил шаги.
– Без шапки, без рукавиц! – промолвил Тимофей, разводя руками.
Дойдя до фабрики, он послал мальчика к Набатову за рукавицами и наказал ему сказать Наташке, чтоб не боялась, что отец больше ее бить не будет.
– Да забеги, скажи моей бабе, чтобы она сходила Наташку проведала, – добавил Рясов вслед убегающему мальчику.
Всю ночь Рясов следил за Набатовым. Горны были у них рядом, так же, как и дома, и следить ему было удобно. Набатов же ни разу не поглядел в сторону, ни с кем не промолвил слова, да, правда, никто и не заговаривал с ним. Градом катился пот с его загорелого лица и тут же высыхал от жара; с лихорадочной энергией работал Набатов эту ночь у своего горна, ни разу не присел отдохнуть и только воды выпил несколько ковшей. Подмастерью Набатова принесли из дому пива, хотел было он попотчевать мастера, да робость напала – не посмел: очень уж злое было лицо у Набатова в эту ночь.
VI
На другой день жена Василия Наумова Галкина, дочь старика Савелья и мать Груни, наложила в лукошечко сотню яиц, покрыла их тонким узорчатым полотенцем и пошла к Чижову отпрашивать дочь от работы, но не застала его дома. Велели ей подождать. Села баба на крыльцо, поставив подле себя лукошко с яйцами, и ждала с час, задумалась и не слыхала, как Чижов подошел к самому крыльцу.
– Что тут сидишь? – спросил ее Василий Николаевич.
Галчиха поспешно встала.
– Батюшка Василий Миколаич, не побрезгуй, чем богата, прошу покорно, – и она, кланяясь, подавала ему лукошко.
– Что это? Зачем это? – будто удивился Чижов.
– Да вашей милости, Василий Миколаич, нельзя ли девку от кирпича уволить? – пояснила Галчиха, продолжая кланяться и подавать ему свой подарок.
– Нет, матушка, не надо, ведь знаешь, что я ничего не беру, а для вас же я и сделать ничего не могу, – сказал Чижов, всходя на крыльцо.
– Сделай милость, родимый, уволь. Девка молодая, не в силах еще, где ей две тысячи вытоптать, – умоляла Галчиха слезливым тоном.
– Ступай сама, коли дочери жалко, ты еще сама работать можешь, – ейн, а это Чижов и пошел в комнаты.
Галчиха направилась было за ним. Чижов остановился в дверях и сказал, полуобернувшись и несколько возвысив голос:
– Не ходи напрасно: сказано – не могу уволить. Ступай-ка лучше домой да скажи ей, чтобы завтра непременно на работу шла.
И он ушел, сильно хлопнув дверью.
Постояла Галчиха с своей ношей в руках, потерла сухие глаза кулаками, покачала головой и пошла домой, повторяя в уме: «Не откупишься уж! Ничем не откупишься! Видно, не миновать!»
У ворот своего дома она встретилась с Груней.
– Не принял? – спросила та, взглянув на лукошко с яйцами.
– Нет, дитёнок, не принял, – грустно ответила Галчиха. – Велит завтра беспременно на работу выходить.
Груня сердито хлопнула воротами.
«Ишь, подлец, чем донять хочет, – подумала она, сверкнув глазами, – да не доймет, не на ту напал!»
И она так сильно затопала, поднимаясь по лестнице, что лестница задрожала.
Вошли в избу; Галчиха поставила на стол лукошко и, вздыхая, села на лавку.
– Что делать, мати, пойду робить. За тысячу нешто по полтине платят? – обратилась Груня к своей опечаленной матери.
– По полтине, дитёнок, – ответила та.
– Ну что же, по крайности, не даром; и полтина, – деньги, с полу не подымешь, – утешала Груня свою мать и принялась чинить старый сарафан для завтрашней грязной работы.
Галчиха между тем сидела, повесив голову; и жаль ей было отпускать свою молоденькую Груню на тяжелую работу, но еще больше боялась она, чтоб не прошла про ее дочь худая слава, чтоб не загуляла девка.
«Завсегда она там с мужиками будет, – думала Галчиха, – с девками всякими гулящими, не усмотришь там за ней, не укараулишь. Девка она резвая, ну куда я с ней денусь, как она понесет? Беда, отец тогда меня со свету сживет: зачем худо смотрела, а где за ними усмотришь! Лукавы они, шельмы, шибко лукавы».
И Галчиха вздохнула и тут же почему-то припомнила, как сама она, будучи девкой, бегала в Косой переулок повидаться с молодым соседом и как на вопросы своей матери всегда отвечала, что ходила телушку загонять, что телушка у них совсем от рук отбилась: как только выпустишь ее из двора, она учнет скакать по переулкам. И верила ей мать, и дивилась, что это с телушкой такое сделалось… «Быть бы беде, – думала Галчиха, вспоминая свое прошлое, – кабы меня той осени замуж не отдали. Горе мне с Грунькой будет, как никто ее ныне сватать не будет, не усмотреть мне за ней, ни за что не усмотреть. Вон у Набатова дочь загуляла, а какая девка смирная, степенная, отец-то на нее синь пороху сесть не давал, а теперича что случилось!»
Надумалась Галчиха и заговорила:
– Грунька, ты смотри у меня, с гулящими девками не связывайся, тары-бары не разводи с мужиками, они мигом тебя на смех подымут. Им верить вот на столько нельзя, – и Галчиха показала дочери кончик мизинца, – только и смотрят они, кабы вас обдуть. А ты тараторить да дурить лютая: как раз тебя по пустякам обнести могут.
– Я, мати, коли дурю или играю с кем, так у тебя же на глазах, а по-за глазами я смирная, – ответила на это Груня, не поднимая головы от работы.
– Как бы не так! – вздохнула Галчиха. – Знаю я, какие вы смирные по-за глазами-то. Вон у Сергея Набатова девка, уж какая смирная была, да и та вот смыслила же, а отец-то теперя и примай стыд из-за нее. Ты с ней не баяла: правда, не правда?
– Баяла еще о пасхе, отпирается, говорит, враки. А с той поры я ее не видала, – ответила Груня.
Галчиха вздохнула и помолчала.
– А уж отец-то любил ее, страсть, во всем ей верил, поил-кормил сладко, одевал хорошо, словно служительскую водил. А вот и вышло, что вам, козам, на грош верить ни в чем нельзя. Правду, видно, старики бают, что бить вас за все надо.
И Галчиха опять вздохнула, думая о том, что не поднимаются у нее руки бить ее красивую, чернобровую Груню.
– Что же ты не бьешь меня? – рассмеялась Груня в ответ на ее вздох. – И била бы.
– Да нечего зубы-то скалить, – сказала Галчиха, стараясь придать своему голосу сердитый тон. – Вот заслужишь, так и побью, поубавлю косу-то, ишь, отрастила какую! Смотри, девка, берегись, добром тебе говорю, что коли что худое замечу али от людей услышу, то беда тебе будет: отцу скажу, а он знаешь какой, он тебе шкуру-то сдерет.
– Да ты с чего на меня напустилась сегодня? – спросила Груня, поднимая на мать вопрошающий взгляд. – Наплел тебе про меня кто али что?
– Никто мне про тебя ничего не плел, а так я говорю, тебе же добра желаючи, – сказала Галчиха ласково.
– Ну и пустяки говоришь. Поди-ка, я без тебя не знаю.
И Груня опять принялась за работу, Галчиха замолчала, вздохнув о том, что она и пригрозить-то своей дочери не умеет как следует.
– Вечерком отпусти-ка меня, мати, к Оринке сбегать на часок, узоры на полотенцах посмотреть, – попросилась Груня после нескольких минут молчания.
– Ладно, сбегай, – согласилась Галчиха.
Когда Василий Галкин пришел домой с работы, жена сказала ему:
– Не могла отпросить Груньку, сотню яиц носила да полотенце браное, ничего не принимает. Нельзя, бает, отпустить, завтра на работу велел выходить.
– Я ведь тебе баял, что не отпустит, – сказал на это Василий угрюмо, – так не поверила; не по чего и ходить было. Собирай-ка скорее на стол, смерть есть хочу, – добавил он, умывая руки и садясь за стол.
Василий Галкин был высокий сухощавый мужик с болезненным лицом и угрюмым, но не злым взглядом.
– А где Грунька? – спросил он, сидя у стола и окидывая избу взглядом.
– К Оринке ушла, узоры смотреть, – покорно, как будто даже робко ответила Галчиха, торопливо собирая на стол.
– Что она больно часто к Оринке-то ходит?
– Коли же часто? В запрошлой неделе была да с тех пор не бывала, – сказала Галчиха, ставя щи на стол.
– Смотри, баба, гляди за девкой в оба, – сказал Галкин, принимаясь за еду. – Я сперва за тебя примусь, коли девка избалуется. Вон у Сергея Набатова девка ребенка принесла, срам ведь отцу-то!
– Неужели принесла? Да коли это случилось? – удивилась Галчиха, выпуская из рук ложку, за которую она было взялась.
– Принесла, бают, сегодня – ночью ли, поутру ли – не знаю, бают, в худых душах ребенок-от, да и самое-то-де отец избил так, что едва дышит.
– Что это, что это! – дивилась Галчиха, качая головой. – Я ведь слышала, что она брюхата, да все не верила, думала, понапрасну про девку толкуют, а вот теперь и вышло, что правда.
Прибежал Митька с улицы и тоже было полез за стол.
– Умой руки, да перекрести образину-то сперва, да тогда за стол-от лезь! – крикнул на него отец.
Митька поспешно плеснул воды на руки, обтер их синей тряпицей, служившей вместо полотенца, помолился на иконы и, пугливо косясь на отца, сел за стол.
– Ты, пострел, ешь скорее, да ступай к Оринке по сестру, скажи, мамка домой звала, – обратился к нему отец.
– Полно, Васильюшко, что такое пришло уж посылать, сама придет, – сказала Галчиха.
– Да я ее по другой вечер дома не вижу, – возразил Василий, вставая из-за стола.
– Она вчерась… – заикнулся было Митька, но тотчас же умолк, почувствовав, что мать толкает его коленкой.
– Что вчерась? – спросил Галкин.
– Да в огороде капусту поливала, ведь я тебе сказывала, – договорила Галчиха за Митьку.
– Ой, рученьки болят! – застонал Василий, растягиваясь на лавке. – Спинушку всю разломило, хотя бы баню про меня истопила завтра!
– А почему не сказал? – заговорила Галчиха, ободрившись. – Я бы и сегодня истопила, кабы сказал,
– Ну, живет уж сегодня, истопи завтра… Ой, спинушка болит, ой, ноженьки ноют! – стонал Василий, ворочаясь на лавке.
– А пошто ты тут ложишься? Ложись сюда вот на голбчик, я тебе постелю постель, – ухаживала Галчиха за мужем.
Она знала, что если Василий начнет стонать и жаловаться на болезнь, то все другое уже потеряет для него всяческий интерес. Уложив мужа, все продолжавшего стонать и охать, и прибрав со стола, Галчиха вышла за ворота и тревожно поглядывала вдоль по улице, поджидая свою дочь.
«Что она долго, где она? С кем она там засиделась?» – тревожно думала Галчиха.
Митька выбежал вслед за матерью и вертелся около нее, видимо, жедая и не решаясь заговорить.
– Мамка! – сказал он, наконец. – А Грушка-то вчера ведь не одна в огороде-то была.
Галчиха встрепенулась.
– Кто с ней был? – спросила она.
– Да Гришка Косатченок был.
– Врешь ты, углан! – испуганно удивилась Галчиха.
– Вот те бог, не вру, право, был, я сам видел.
– У меня молчи, пострел, никому не бай, а то я тебе такую волосянку дам, что страсть! Зачем мне вчера не сказал?..
– Да Грушка не велела, хотела пряник дать, да и не дала.
– Ишь, лукавая, вот я ей ужо полкосы-то выдеру, пусть только домой придет. А ты молчи, постреленок, отцу не пикни.
– Я не скажу, мне что? – ответил Митька, обидевшись тем, что мать на него же и взъелась.
Однако ж, когда вскоре после этого Груня подошла к воротам дома, Галчиха не выдрала ей полкосы, даже и не поругала как следует, а только велела скорее спать ложиться.
VII
На другой день Груня вышла на работу. Надсмотрщик указал ей яму, в которой она должна была топтать глину, дал ведро и рассказал, сколько следует принести воды, сколько прибавить песку. Сделав все, как было сказано, Груня сняла свои худые порыжелые башмаки, заткнула за пояс подол, соскочила в яму и принялась месить глину ногами. На краю ее ямы стояли две девки и давали ей советы и наставления, как лучше и легче работать.
– Ты тихонько, не торопись, – говорила одна из них, – ногу-то не вдруг выдергивай, а сысподтиха, а то устанешь скоро.
– Вот этак? – спрашивала Груня, начиная медленнее переступать с ноги на ногу.
– Вот так, – ответила девка. – Дай-ка я тебе укажу.
И она, соскочив к ней в яму, принялась показывать, как следовало топтать глину. Груня старалась подражать ее движениям.
– Эки у тебя ноге-то белые, – говорила ей девка, – не жаль тебе их?
– Жаль, не жаль, да ведь не пособишь, – сердито ответила Груня.
– Исцарапаешь ты их, исседаются они у тебя все, – продолжала сокрушаться девка. – Ты свечку купи да к ночи-то их мажь салом.
– Ладно, – угрюмо ответила Груня.
Ей начала надоедать ее новая подруга, тем более, что Груня начинала догадываться, что значат все эти сожаления.
Прошло два дня. Груня вытоптала не одну яму глины и выносила ее в сарай, где, сидя верхом на скамьях, девки и бабы-резчицы накладывали глину в станки и проворно хлопали ими, вынимая готовые кирпичи. На второй день к яме Груни подошел Чижов, приезжавший к кирпичному сараю через день, молча постоял, глядя на Груню, и потом отошел к соседней яме, из нее торчала любопытная голова той самой девки, которая учила Груню. Чижов сказал ей несколько слов, но так тихо, что Груня не слыхала. Вскоре после отъезда Чижова к яме Груни подбежал Митька с синим узлом в руках.
– Вылезай! – крикнул он весело. – Мамка тебе шанег послала.
Груня вылезла и, сев на краю ямы, принялась уплетать принесенные шаньги. Митька убежал побегать около сарая и поглядеть, как режут кирпич. Соседка Груни тоже вылезла из ямы и, пообчистив глину с ног, подошла к ней.
– Хлеб-соль, Грунюшка! – сказала она заискивающим тоном.
– Спасибо, Марянушка, – ответила Груня и подала ей парочку шанег.
Марянка уселась возле Груни и, съевши шаньги, несколько времени сидела молча, желая и не решаясь заговорить.
– Я ведь с тобой, Грунюшка, баять хочу, – проговорила она, наконец, поглядывая на Груню.
– Что ж, бай! – ответила та, продолжая уплетать шаньги.
– Видела ты Василья-то Миколаевича, как он стоял у твоей-то ямы?
– Не видала я. А тебе что за дело до этого? – сердито сказала Груня, переставая есть.
– А то и дело, что от тебя он ко мне перешел, да и бает, что жалко ему тебя, велел тебе сказать, что завтра же от работы уволит, коли ты сегодня к нему ночевать будешь.
Груня молчала; брови у ней нахмурились; решительно очеркнутые губы сжались; она торопливо связывала в узел оставшиеся шаньги и искала глазами убежавшего Митьку. Марянка приняла ее молчание за колебание и продолжала уже смелее и настойчивее.
– Согласись, Грунюшка, он те подарить хочет, он дарит помногу, не скупится, вон Таньке Ларьковой что надарил, на всю жизнь будет, опять же и ласковый, бают, не то, что наш брат, мужик…
– Пошла к своей работе, сволочь! – грозно крикнула Груня, вскочив на ноги. – Эк с чем подъехала! Проваливай-ка дальше! Не на ту напала!
– Да ты чего заругалась? – обиделась Марянка, тоже вставая. – Я тебе же ладила на пользу, потому подарков тебе от него не переносить будет.
– Ты и поди сама к нему, и пусть тебе дарит, – огрызнулась Груня. – Чего других-то травишь?
– И пошла бы, да не меня ему надо, – ответила на это Марянка.
Груня между тем подозвала Митьку и, отдав ему узел, велела идти домой, а сама пошла к ручью напиться. Возвратившись, она увидела, что Марянка все еще стоит у ее ямы.
– Что стоишь здесь? – спросила она сердито. – Сказано: ступай в свою яму.
– А ты так и не сдашься, Грунюшка? – опять заискивающим тоном спросила Марянка.
– Пошла ты от меня к лешему! – выругалась вспылившая Груня. – Сказано тебе, что не на таковскую напала. Убирайся, чтобы и духу твоего не было, и не смей со мной говорить больше.
И Груня сердито соскочила в яму. Марянка отошла, обиженная и злая.
«Ишь, ломается тоже, тварь! – думала она. – Пусть-ка-де походит за мною да покланяется. Беспременно она кого ни на есть да имеет полюбовника, потому без этого ни одна девка не обойдется. Вон Наташка Набатова – уж на что богомольная да чванная была, а и та ребенка принесла… Как ни на есть, да уж заведен приятель», – продолжала думать Марянка, спускаясь в свою яму и злобно поглядывая на Груню. – «Ужо подкараулю я тебя, не проминуешь ты меня, выведу я тебя на чистую воду!»
VIII
У дочери Набатова действительно родился сын; он родился преждевременно вследствие побоев, нанесенных Наталье отцом, пожил всего часа три и умер. Наталья тоже была чуть жива; приглашенная женою Тимофея Рясова старуха-повитушка ухаживала за ней, как умела, в то же время ругая Набатова и дивясь, за что он так озлился.
– Ну, мало ли бывает, что носят девки ребят, и бьют их отцы за это, да все не так же зверски, – рассуждала старуха, перетаскивая Наталью из сеней в избу и укладывая ее в куть на лавку.
Наталья только тяжело стонала, вздрагивая каждый раз, как отворялась дверь в избу, и ожидая, что войдет отец и опять начнет бить ее. Но она напрасно боялась: Набатов не приходил домой.








