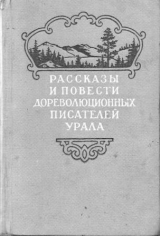
Текст книги "Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала. Том 1"
Автор книги: Константин Носилов
Соавторы: Анна Кирпищикова,Павел Заякин-Уральский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
Медведь спокойно, казалось, шел прямо да нас. Собаки, догнавши его, уже вертелись около, не останавливая своим лаем; издали они были сравнительно с ним, как мыши перед собакой. Но временами он сердито оглядывался, и тогда псы трусливо отходили прочь, поднявши на спинах шерстку.
У меня вдруг вырвался Яхурбет. Был момент, когда я чуть не бросился за ним, чтобы спасти его. Момент, и он исчез уже из глаз среди торосов льда, а через минуту он злобно понесся, поощряемый другими собаками, прямо в морду зверя, и в один миг произошло что-то ужасное, и Яхурбет несся уже ко мне, заливаясь жалобным воем, с ободранной спиною.
Но мне было не до него: последовали выстрелы, потом погоня за зверем к морю. Я бежал и падал на бегу; навстречу неслись другие пули; что-то визжало и ревело в воздухе, и я опомнился только тогда, когда зверь свалился, немного не добежав до моря.
Только тогда я обратил внимание, что недостает моего пса. Где он был, – решительно было определить невозможно. На крики: мои он совсем не отзывался, перепуганный, и мы нашли его уже в становище, на постели моей, в углу, где он виновато и испуганно облизывался, все еще дрожа от страха.
Оказалось, что не цела шкура: со спины был содран медвежьим когтем порядочный клок, – как раз белая красивая пежина, но в других местах все было цело, так что нечего было особенно тужить об Яхурбете.
Вечером мы произвели ему удачную операцию: старик Пырерка зашил ему шкуру иглой с оленьей жилой; языком пес сгладил маленькие неровности, и хотя ворчал, но спал сравнительно спокойно.
Он только боялся более выходить на улицу и жался к женщинам, которые его ласкали, а вечером был напуган страшною белою шкурой, когда неожиданно встретил ее на санках.
На другое утро он долго лаял почему-то к морю. Самоеды говорили, что он слышит зверя; но он решительно не побежал со мною на охоту, как мы ни увлекали его туда различными кличками, и остался возле чума.
Я думал уже, что этот урок с белым медведем навсегда отучит его от охоты; но оказалось, что он охотно шел с нами в горы, только не к морю. И когда мы на другой день отправились было за оленями, он сопровождал нас с санками, только озираясь как-то на белые предметы.
К морю он уже не ходил. Моря он боялся, как боялся всяких белых шкур, даже если бы это были невинные оленьи шкурки.
Но всего более он насмешил, когда мы запрягли его опять в наши санки, тронувшись обратно в колонию. Дело в том, что на санках была неободранная со шкурой голова медведя; и нужно было видеть, как он старательно вытягивал свою лямочку, чтобы быть как можно дальше от этой страшной морды.
И стоило только дорогой вздохнуть, фыркнуть по-медвежьему, как он визжал и подпрыгивал, опережая своих товарищей по лямкам!
VII
Мы воротились домой с Яхурбетом хотя и с повинкой, но все же с важной, завидной и ценной добычей.
Новинка скоро заросла, а от случая осталось только одно воспоминание, которое скоро изгладилось, можно-сказать, совсем благодаря большому знакомству с этим зверем.
Дело в том, что в бухту пришло поморское промысловое судно. На этом судне, когда мы приехали его встречать с Яхурбетом, оказался белый медвежонок. Яхурбет сначала было бросился за борт, но испугался бушующего моря; а потом зверь оказался таким ручным, что ел сахар с ладони, облизывал руку и вообще вел себя таким же мирным образом, как обыкновенная ручная собака.
Яхурбет даже понюхал его, и с этого момента у него сложилось понятие, что не все белые медведи сердиты. А когда потом эта белая молодая медведица, прозванная матросами Машкою, была сброшена за борт шутливыми, любившими ее матросами и стала там нырять и плавать, цепляясь за канат, Яхурбет пришел в такое неистовство, что готов был броситься за ней, чтобы спасти ее, как бы она не утонула…
В нем сказалась дальняя кровь водолаза.
В это время было чудно в море: волны тихо шептались в борта; синего льда и в помине не было; воздух пахнул морем, а с ближайших островов, населенных миллионами птиц разных пород, доносились по ветру такие шумные голоса, как будто там был город или шумела населенная деревня чисто человеческими голосами.
Это было птичье царство, птичьи острова, которые только можно видеть на дальнем Севере, где человек еще не нарушил пока царства птиц и животных.
Там, на этих птичьих островах, у промышленников белухи была еще поставлена сторожка, где постоянно все лето, днем и ночью, сторожили поморы, глядя в море и замечая ход белух, чтобы потом, когда они зайдут в нашу просторную бухту, окруженную островами, запереть их в узком проливе для ловли.
Пустынные, тихие доселе острова были теперь оживленны, и мы, помню, целой веселой компанией отправились туда вместе с поморами, захватив даже с собою Машку.
Она, выкупавшись в море, была в восторге от этого пикника. Как только люди залезли в карбас, она поместилась в самый нос лодки; Яхурбета осторожно спустили тоже туда за шиворот, и он поместился рядом с ней, представляя уморительную, единственную в своем роде картину.
Поморы села в весла; лодка отчалила, и мы понеслись по волнам, которые тихо плескались у борта.
Но дорогой случилась некоторая оказия. Машку соблазнила какая-то вдруг под носом метнувшаяся рыба; мгновение одно – и зверь исчез за нею в воде, и я видел только, как зазеленело под волнами и зверь нырнул глубоко в море.
Яхурбет растерялся от этой неожиданности; но Машка скоро показалась на поверхности, и он, недолго думая, соскочил туда же в воду, вероятно, полагая, что она тонет.
Матросы расхохотались от этой трогательной заботливости и остановили карбас, а я смеялся от души, глядя, как Яхурбет плыл к этому зверьку, окружал его и брал было за шиворот, чтобы втащить в лодку.
Но каждый раз, когда он с трудом добирался до нее, она исчезала так же легко, как появлялась на поверхности, только отфыркиваясь, и нужно было видеть жалость и удивление пса, когда ом один оставался на поверхности.
Кончилась эта картина спасения погибающей медведицы тем, что она вдруг вынырнула снова у самого носа карбаса, отфыркнулась, ухватилась ловко лапой, и, прежде чем Яхурбет нашел ее глазами, плавая кругом один и повизгивая, она вскочила в карбас и заняла свое место.
Пришлось Яхурбета вынимать из воды, как мокрую тряпицу.
Но, к счастью, берег был недалеко, и он выпрыгнул на него не без радости и пустился описывать такие круги, так поджимал свой мокрый хвост и делал такие уморительные увертки, что Машка в свою очередь пришла в недоумение и даже встала потешно на дыбы, чтобы полюбоваться этой невиданной картиной.
Она совсем в противоположность собаке не нуждалась в таком отряхивании, потому что ей достаточно было встряхнуться раз, чтобы гкурка ея была суха так же, как была раньше до купанья.
Затем мы двинулись к караулке поморов опять всей компанией, и впереди нас с любопытством что-то обнюхивая, двинулись пес и резвушка Машка.
На самой возвышенной точке острова, у отвесной высокой скалы, мы нашли род караулки, выложенной из голого камня поморами. Поморы оживленно стали докладывать своему старому хозяину, как видели стадо белух сегодня ночью, а Машка, воспользовавшись случаем, залезла на самый верх стены с ловкостью мартышки. Яхурбет снова остался, повизгивая, хотя ему, повидимому, страшно хотелось поиграть с этой белой красавицей, которая занята была собой, но совсем не его особой. Она решительно выводила его из терпения своими капризами и теперь довела его до того, что он оглушительно стал лаять на нее, чтобы она слезла.
Она слезла потом, но не для него, а за сахаром, которым поманили ее матросы, и мы были свидетелями, как она учтиво подходила к ним и брала белый кусок из руки, как потом залезла на колени и искала, нет ли еще, и как, мурлыча что-то ласковым голосом, лизала ладонь руки, что означало, что она просит еще сахару у матросов.
Мне даже стыдно было за необразованность Яхурбета, который умел только вилять лохматым хвостом и облизываться, когда его лакомили другие.
Потом мы посетили место овежеванья зверя белухи. Оно лежало в самом углублении маленькой низменной бухточки; по берегу валялись отвратительные ободранные туши китообразных, но в то время, когда мы сторонились от них, наши приятели принялись за них с такою жадностью, как бы это было самое лакомое блюдо.
К нашему удовольствию, на берегу лежала в стороне нетронутая туша. Это был громадный, сажени в две с половиною, китообразный зверь. Белая эластичная шкура его желтела, отливая на солнце китовой лопастью. Но в то время, когда мы любовались им и стояли около, на него нечаянно наткнулся Яхурбет и пришел в такой ужас, как будто это было повторение истории с медведем.
Это очень насмешило поморов, хотя мне лично было трудно перенести эту невиданную, странную трусость. Пришлось, чтобы пес совсем не скрылся куда от трусости, оставить берег.
Мы направились к галдящему берегу, полному носящихся в воздухе птиц. Там стоял такой шум, что мы скоро были оглушены им, и это было поразительно после того, как мы привыкли к мертвой тишине этого острова, в которой порою сутками не раздастся ни звука.
Там были миллионы птиц из породы большей частью гагарок; одни из них, что-то крича беспрестанно, сидели по выступам скалы; другие плавали под самым берегом, ныряя; третьи носились с криком по воздуху; четвертые дрались самым ужасным образом, отстаивая клочок скалы, где были накладены бледнозеленые крупные яйца с крапинками; пятые стоя нагревали их, прижавшись грудью к темной, нагретой солнцем скале, выводя детенышей прямо на голом камне… И над ними, и возле них на самом обрыве берега носились, сидели, кричали, вертелись еще более странные пернатые существа с такими толстыми красными носами, которые походили скорей не на нос, а на топор, почему поморы и прозвали их «топориками».
Тут же с оглушительным криком носились и сидели морские чайки-клуши.
Они, как хищники, только сторожили момент, чтобы урвать где яйпо у зазевавшейся гагарки.
Словам, картина была такая живописная, что мы присели тут и стали наблюдать, и я даже забыл о существовании Яхурбета с Машкой.
Вдруг, оглянувшись кругом, я заметил новое зрелище: Яхурбет, как дикий, носился вдоль берега за летающей низко птицей. Его заметили осторожные чайки и с таким азартом и криком напали на него, падая на его спину с высоты полета, что он пришел от этого в бешенство и ничего не придумал более, как с лаем ловить их в «воздухе и носиться за ними вдоль берега острова, как сумасшедший.
Машка оказалась куда спокойнее: она просто занялась разыскиванием вкусных яиц и уже стояла над одним гнездом испуганной рябой гагары, с аппетитом пожирая ее голубоватые крупные вкусные яйца.
Я со всею силою кричал Яхурбету, чтобы он оставил опасную погоню; но шум, крик, гам птиц был такой, что мой голос терялся в этом шуме.
Кончилось это тем, что Яхурбет сорвался с берега и полетел под кручу. Я уже думал, что кончено с собакой. Обрыв скалы был в сорок сажен; под ним сердито, с пеной, с шумом разбивались волны; но, к счастью, пес удержался за один карниз, и когда мы бросились, то нашли его окруженным гагарками, которые страшно кричали на него, что он их потревожил.
Он был в самом жалком положении: красивый наряд его был замаран птичьим пометом; вверху была скала, внизу шумело море, а в воздухе над ним с криком потешались его враги, слетевшиеся чуть не со всего острова.
Пришлось бежать на пост поморов за чем-либо в виде веревки. Принесли ремень моржовой толстой шкуры; в конце ремня устроили нечто в виде мертвой петли; ее с трудом надели на голову бедного пса и, несмотря на то, что он задыхался и упирался еще лапами, мы вытащили его и спасли от смерти чуть не полумертвого от страха.
Яхурбету сегодня решительно не везло, и мы решили поскорее отправиться в колонию или на судно.
VIII
Эта экскурсия на судно поморов-промышленников белух имела то последствие, что у меня очутилась Машка.
Я приобрел ее, так как заметил привязанность к ней Яхурбета. Странно, после происшествия на Карском берегу, он полюбил ее и очень за ней ухаживал.
Я рад был, что он нашел такую милую товарку; но последующее, однако, показало, что как она была прекрасна там, на судне, настолько она оказалась неуживчивою в домах.
Она стащила у меня при первом же визите со стола в кабинете чернильницу; во время чая лезла лапами на стол, разыскивая сахар; во время игры на полу так обняла меня, что я чуть не лишился сознания; а когда я выгнал ее на улицу, она появилась через минуту в окне, сбросив предварительно все любимые, единственные горшки мои с геранью.
Кажется, скоро за мной, и сам Яхурбет в ней разочаровался. Не знаю, грустила ли она о судне и поморах, ею тешившихся; не знаю, недовольна ли была новым помещением и пищей, – там она ела рыбу; не знаю – так ли в ней сказался женский каприз, но то она была такою ласковой и милой, а то так кусалась и царапалась, что было ужасно. И скоро у них с Яхурбетом вышла какая-то стычка в сенях, после которой он долго облизывал свою раненую опину.
Однако, когда я выходил с ружьем, они бежали со мной вместе и довольно даже весело. Но охотиться с ними было решительно нельзя: они дрались самым ужасным образом из-за всякой птички, один спасая ее от удивительной прожорливости, а другая – от Яхурбета. Так что мне доставались только перья и крылышки, – не больше.
Так прошел май месяц. Так прошел и следующий за ним июнь с тяжелыми туманами, которые говорили, что в океане – плавающие льды. Так, наконец, в конце этого месяца наступила и весна, а за ней и полярное короткое лето. В эти три месяца солнце только согнало снег, да и то не тронув еще громадные сугробы. Однако из-под снега между камней показались яркие незабудочки, на россыпях камней заалели каменоломки, северный мак, по склонам гор зажелтели мхи и мелкая жалкая травка, а между камней, прячась от стужи, развернулась даже ползучая уродливая березка.
Яхурбет с удивлением смотрел на эту неизвестную ему растительность и еще больше носился по ней, вынюхивая мышей и следы разного зверя.
Теперь у него была прекрасная охота на песцов; их народилось еще в апреле месяце пропасть. С каждой каменной россыпи, как пойдешь гулять, раздавались хриплые их голоса: то лаяли маленькие детеныши, увидя собаку, смело выносясь на самые высокие голые камни и трусливо убегая, завидев несущегося пса, в каменные норки.
– Ур-р-р-р… – урчали они в таких верных, неодолимых даже для человека убежищах. Пес нюхал, лазил, рылся напрасно кругом, и стоило ему отбежать на десяток-другой сажен, как они снова появлялись на своих сторожевых камнях и лаяли в свою очередь на него хриплыми голосами.
Он снова возвращался и пропадал на камнях. Словно песцы дразнили его, мстили ему за то беспокойство, которое он причинял им, носясь за ними зимою.
Не меньше теперь его изводили тюлени.
Теперь не было льдов, и тюлени плавали у самого берега. Стоило только пойти гулять, стоило только постучать камнем о камень, как они, заслышав незнакомые шаги, мучимые вечным своим глупым любопытством, высовывали свою круглую, как у человека, голову на поверхность и плыли к самому берегу, нюхая носом воздух.
Другой тюлень даже перепугает вас, выскочив неожиданно у самого берега и громко отпыхнувшись. Посмотришь: в сажени – в двух от тебя громадная, с усами, фыркающая голова; присядешь, – она еще ближе; постукаешь камень о камень, ее еще больше разбирает любопытство…
В этих случаях пес сходил с ума; он, как бешеный, бросался в холодную воду, плавал на месте, где показался тюлень, смотрел потешно около и потом пускался еще дальше, когда тюлень показывался далее от берега, чтобы потом мокрым вылезти на берег и заняться потешными прыжками, к удовольствию Машки.
Так мы жили с Яхурбетом, пока не пришла пора разлуки.
Раз утром в комнату ко мне врывается самоед.
– Пароход идет! – мог только крикнуть он мне от радости. Я кинулся к окну и, протирая глаза со сна, заметил вдали на море силуэт громадного парового судна.
Это был русский срочный, делающий рейсы на этот полярный остров пароход из Архангельска, с родины. Мы ждали его давно, с грустью думая, что он не проберется к нам за льдами. Батюшка даже служил молебны по этому случаю, видя нескончаемые туманы; но сегодня туман рассеялся, и судно оказалось крейсирующим у наших берегов, которые скрывало от него облако тумана. Это судно везло нам провизию и вести, это судно было праздником для острова, которых бывает только два в лето.
Когда я выбежал на улицу, там полно было народу. Все стояли, с трепетом следя за его маневрами в заливе; на домах уже развевались флаги, и только Яхурбет один не знал, какое ждет событие, навстречу которому, приветствуя, уже грянула с горочки наша пушка.
На нас надвигалась цивилизация, совершенно другой, уже позабытый мир, и как-то жутко было предстать пред ним такими мрачными, обношенными, грязными, – так, как нас украсила полярная ночь.
Вот пароход уже входит в гавань. Я торопливо сажусь в шлюпку, чтобы ехать на ней для встречи прибывших гостей. Яхурбет, дрожа от страха перед чудовищем, подавшим голос толстым пронзительным гудком, садится тоже; туда же залезает наша приятельница Машка, и мы едем впятером с гребцами-самоедами, представляя, должно быть, чисто полярную группу.
– Браво, браво, – встречает меня знакомый добрый капитан не то от радости, что видит в таком сообществе, не то от радости, что видит еще живого… И мы по трапу вваливаемся на пароход, встречаемые всеми, не исключая даже черных кочегаров.
Яхурбет даже растерялся от невиданных многочисленных людей, обступивших и рассматривающих нашу группу; но Машка была уже в этом отношении опытной и смело направилась в сторону кухни, из которой что-то парило, догадываясь, вероятно, что коки (повара) добрее матросов.
Нечего и говорить, что мы были почетными гостями на пароходе благодаря своей зимовке и лишениям и были предметом общего внимания.
Яхурбет понравился очень многим. Некоторые даже находили, что из него выйдет особенная полярная собака, и, быть может, кровь чистокровного водолаза, смешанная с кровью самоедских собак, даст для этого острова особенную потом породу собак, которые будут отличаться мохнатой, красивой, кудрявой шерстью, громадным ростом и выносливостью, не говоря уже о способности выносить большие тяжести в упряжке.
Я был доволен таким вниманием и только тайно скорбел, что мне предстоит скоро оставить его тут в одиночестве на полтора-два месяца, пока я буду в дороге и в Петербурге.
Предстояла не совсем приятная разлука с собакой; я чувствовал, что в ней моя привязанность, и если чем утешался немного, то это тем, что я не подвергну ее в Петербурге наморднику и тем лишениям, которые предстоят собакам на железной дороге…
Относительно другой привязанности – к Машке я был спокоен; она вместе со мной ехала в Петербург, только с тою разницей, что ее повезут из Архангельска морем кругом Швеции и Норвегии, а я поеду прямо, водой и железной дорогой.
И как я ни откладывал минуты разлуки, – она настала.
– Яхурбет! Ты останешься в моей квартире. За тобой будет присматривать кривая бабушка, – говорил я ему не раз, перед самой разлукой, перед свистками парохода, прощаясь. Но пес не слушал меня и что-то как будто предчувствовал, видя, как пустеет комната и выносят мои вещи.
– Яхурбет, будь умницей, не гоняйся напрасно за песцами! – говорил я ему ласково, но он повизгивал и бросался ко мне на грудь, видимо, понимая, что я еду.
Я бежал от него на пристань, где уже ждала меня шлюпка, оставив его с кривою бабушкой в комнатах, но он вырвался от нее и бежал туда, видя, что я покидаю остров.
Как он бегал по берегу, дожидаясь меня, думая, что я еще ворочусь с парохода! Как он рвался ко мне, бросаясь в волны с берега, видя, как пароход со мной уходит! Как он выл страшным голосом на берегу, когда мы удалялись дальше!
Потом я уже не видел его, не мог за ним следить, потому что горло сжали рыдания, а глаза застлали слезы.
Знаете, когда в жизни нет друзей, привыкаешь страшно и к собаке.
Но я скоро утешился: мысль, что пес среди друзей и сыт, и дома, на своей родине, меня успокаивала; я верил, что– собака будет цела. Красивое море, с его синими волнами, меня развлекало немало, а тонущий остров с пятнистыми горами, где все еще не вытаяли, несмотря на лето, снега, казался, так оригинален, красив таинственным своим безмолвием и одиночеством, что я им залюбовался.
А потом качка морского пути, полярные плавающие льды, туманы, попутные суда с темными парусами, летающие над водой и касающиеся крыльями волн буревестники, ныряющие киты с фонтанами, стадо белух, – все это так заняло меня, что я только поздно вечером вспомнил бедную собаку, воображая, как она чутко прислушивается, лежа у меня на коврике, у кровати.
А потом я и совсем редко стал вспоминать пса, – такова привязанность человека.
Я вспомнил Яхурбета живее и стал задумываться о нем все более и более только через полтора месяца, снова на Ледовитом океане, следуя к Новой Земле и нашей, казавшейся где-то далеко-далеко колонии, везя Яхурбету красивый стальной ошейник.
Чем ближе я ехал, тем больше задумывался. «Жива ли собака? Не случилось ли с нею какого несчастья? Сыта ли она?» И даже порою я видел ее во сне худую и тощую, то сытую и веселую, скачущую ко мне на шею…
Вон горы, снегом покрытые, белые горы; я даже не узнаю своего острова. Вот, кажется, наш залив: так он неузнаваем стал через полтора месяца, покрытый снова снегом. Вот и наша бедная одинокая полярная колония, видно, что на берегу нас встречает кучка народа.
Я охватываюсь за бинокль и узнаю знакомые дорогие лица; но пса нет, и в поле зрения все самоедские чужие собаки.
«Неужели не выдержал, погиб с тоски, иль что случилось?» На сердце какое-то тяжелое предчувствие, и я печально сажусь и еду на шлюпке домой, как вдруг на берегу знакомый лай… и собака.
– Яхурбет! – кричу я во вое горло. В ответ визг и лай собаки, которая бегает у самой воды по камням.
– Яхурбетко! – кричу я от радости и машу рукой и ему, и самоедам и вижу, как собака садится на берегу и воет, страшно воет…
– Яхурбет! – кричу я еще, и он бросается в холодную воду и плывет ко мне, встречая меня уже у пристани, не сводя с меня темных глаз, повизгивая не то от холода, не то от радости, что видит меня, наконец, с собою в лодке.
Он лизал мне руки и лицо, и я не отворачивался, потом он мокрый скакал на меня на пристани, когда я здоровался с самоедами и обнимал старушку-самоедку – кривую бабушку.
Нечего и говорить, что это была радостная встреча и она стала еще гораздо радостнее, когда мне рассказывала бабушка, что было с собакой.
Бедный пес скрылся из глаз ее, как только отплыл пароход, дав последний прощальный свисток берегу. Самоеды видели, как он бросился было сначала догнать пароход, как он добежал до мыска, выл ужасным образом и, наконец, бросился в море; а потом он пропал на четверо суток, и все полагали, что он уплыл в море и был захлестан там крупными волнами.
Он явился только на четвертый день, явился усталый, голодный, ободранный и все нюхал мои следы, все к чему-то чутко, даже ночью, прислушивался, вскакивая и бросаясь к двери, когда слышал чьи-нибудь шаги… Но, встретив чужих, тоскливо ворочался, снова укладывался возле кровати на коврик и так стонал, так вздыхал, что было вчуже жалко.
Однажды в заливе показалось судно под парусами. Пес поплыл к нему и чуть не утонул, заливаемый там, далеко от берега, волнами.
В другой раз, наскучив ожидать моего возвращения, он почему-то убежал далеко в горы и бегал там весь день, вероятно, отыскивая мои следы. Самоеды говорили, что он бегал за полтораста верст на Карский берег, где он вместе со мною имел сражение с белым медведем, и воротился поздно на другие только сутки, все такой же печальный и худой.
Наконец, он, видимо, успокоился. Бабушка ему твердила, что я возвращусь, и он как будто понимал ее уверения и все ждал меня, все прислушивался и тяжело вздыхал, тоскуя одиноко.
Бабушка, добрая бабушка, даже плакала, рассказывая, что он извел своею тоскою ее душу; а я сидел, улыбаясь и гладя рукой голову этого пса, который, казалось, понимал, что рассказывают про его похождения за время моей отлучки.
На толстой кудрявой шее пса теперь красовался стальной никелированный красивый галстук, и на нем вырезано было: «Яхурбет».
X
Теперь мы были неразлучны: пес не отходил от меня ни на шаг; даже ночью следил за моими движениями. Он как-то быстро изучил все мои привычки: когда я брал книгу из библиотеки, он спокойно свертывался на оленьем коврике у моих ног, будучи вперед уверенным, что я долго останусь в покое. Когда я стучал в стену, он знал, что придет матрос и принесет мне завтрак или чаю. Когда я снимал туфли, он уже повиливал хвостом, предчувствуя, что будет прогулка, а когда я брался за патроны и ружье, он так лаял, скакал на меня, бросался к дверям, как будто торопил меня охотиться за песцами.
Эти песцы решительно, кажется, сводили его с ума: когда мы выходили на двор, он стремительно кидался по направлению в горы, как бы говоря, что там его неприятели; и только видя, что я направляюсь в другую сторону, он покидал это направление и следовал, описывая круги передо мной по льду залива. Признаться, он был неравнодушен ко льдам; и когда мы бывали с ним в далеких торосах, у края льдов, далеко в море, он не отходил от меня на дальнее расстояние, как будто помня свою стычку с белым медведем. А торосы, белые, похожие на белых медведей, приводили его порою в такое смущение, что он долго лаял на них, пока не убеждался, что это лед. И тут еще обнюхивал, обходил их кругом, как бы не доверяя очень зрению.
Но зато в горах он чувствовал себя прекрасно: не было следа, по которому он не нашел бы песца. Порою трудно было его вызвать из расселин камня, где он разыскивал норы; а когда нам удавалось подстрелить белую лисичку, он приходил в такое исступление, что нужно было бежать и отнимать у него, чтобы она сохранилась сколько-нибудь целой.
И даже дорогою, неся ее ва плече, и то нужно было сторожиться, потому что Яхурбету вое казалось, что она жива еще и посматривает на него лукавыми глазками, и он нет-нет щипнет ее или потянет зубами и пастью за лапы.
Однажды в кухне матросы попробовали его подразнить этим животным, зная его слабость. Он лаял громогласно, скакал на них, потом рассердился так, что глаза его покраснели, налились кровью, и, наконец, озлился до такой уже степени, что изодрал на одном жилет. Когда они увидели, что пес пришел в неистовство, они забросили песца на печь, и он скакал на нее до такой степени, что высунул язык от жару. И тут еще не успокоился и сторожил весь вечер песца, поглядывая, как бы его достать и уничтожить.
Недаром на его мордочке сохранились навсегда следы зубов этого животного, когда он было думал задушить его, гоняясь вокруг льдины.
Наступил октябрь; солнце снова стало показываться ненадолго в полдень; море встало, речки тоже; глубокий снег запорошил каменные россыпи, и я отправился с Яхурбетом снова в полярную экскурсию, чтобы проведать самоедов в одном далеком северном заливе.
Расстояние было порядочное, – что-то около полутораста верст. Нужно было захватить порядочно провизии на случай нечаянной зимовки вне колонии. Собак было немного к моим услугам, и я припряг Яхурбета, который был уже таким коренником, что самоеды мне завидовали. Он тянул самым отчаянным образом; длинная палка, которой правят оленей и собак самоеды, никогда не дотрагивалась до него. Его слабые товарищи были назади; он один трогал с места тяжелые нагруженные санки и вдобавок решительно не обижался на такое занятие, и даже посматривал вперед: нет ли где белой полярной лисички. И стоило ей только где подвернуться в пути, как он с лаем срывался тогда и не слышал уж никаких отчаянных криков и так увлекал всех псов, что крушение было неминуемо.
Так мы двигались с ним к северу сутки за сутками, коротая дорогу, – днем в пути, снимая карту, делая заметки, наблюдая полярную природу; вечером, при луне, – то же самое, а ночью – ночуя прямо под открытым небом.
Выберешь где-нибудь за ветром мысок, поставишь нарты (санки) углом, прикроешь навес брезентом, разведешь огонь, чтобы сварить себе с проводниками чайничек, поешь мерзлой оленины, спустишь и накормишь тюленьим мясом собак, если есть еще в запасе – нет, так и так протерпят дня два или три, собаки лягут в снег, зарывшись наполовину, – закроешься оленьей шкурой, товарищ отопчет ноги снегом, чтобы не замерзли, и спишь себе спокойно, уставши за день, надеясь, что псы услышат приближение медведя и не выдадут, а ружье, поставленное в головах, не даст осечки.
Раз мы даже нашли на дороге, в Грибовой губе, избу для ночевки. Про нее давно уже говорили самоеды, как про единственное убежище во время дороги и шторма. Изба была некогда, быть может, столетие тому назад, местом зимовки экипажа какого-то судна, и самоеды говорили, что бывали и летом у нее и видели даже черепа людей, которые умерли тут от цынги или голода в старое время. Изба оказалась просто несчастной хижиной сажени в полторы длины и в сажень ширины; в сенях ее трудно было пролезть; потолок так низок, что трудно было выпрямиться; дверь была всего один аршин в квадрате, а печь заменяла обычная деревенская банная каменка, над которой было отверстие, служившее выходом для дыма и вместе с тем заменявшее и окошко.
Половина ее внутри была занята нарами, которые до того были черны и грязны, пропитанные дымом и жиром еще за столетие до этого времени, что нужно было постлать что-нибудь, чтобы не замараться.
Когда мы добыли огонь и влезли в нее втроем, то было тесно, а когда тут же вздумал поместиться и погреться Яхурбет, то ему пришлось идти по нашим спинам и головам, чтобы пробраться подалее на нару.
Скоро и от огня костра, и от пара нашей мохнатой одежды, и от дыхания и испарений так потеплело, что мы остались на ночь в одних рубашках.
Вероятно, в этом отношении она и была удачной для полярных зимовок, что давала такое тепло, какое даст вам только разве баня.
Когда мы огляделись, то заметили еще одно ее совершенно непонятное на первый взгляд удобство. Нижнее бревно с той и другой стороны нар оказалось подвижным, вынималось. Сначала я думал, что это для свежего воздуха, но самоеды объяснили это совсем иначе. Это – выход для людей, застигнутых тут нечаянно белыми медведями, которые спокойно могли зайти зимою на самый потолок избушки, продавить его, ворваться в хижину и передавить людей, или же запереть им выход через сенцы. Тогда-то люди вылезали низом, чтобы принять врага рогатиной или пищалью.








