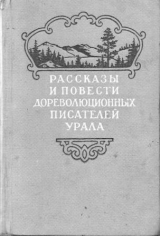
Текст книги "Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала. Том 1"
Автор книги: Константин Носилов
Соавторы: Анна Кирпищикова,Павел Заякин-Уральский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 32 страниц)
– Сказано: не будет – и не будет! И вон отсюда! Вон! Негодяи, бунтовщики, вон!
Озерков снова поднял руку, но за руку ему ухватился стоявший за ним мастеровой Шитов и удержал его.
– Я только тряхнуть его хотел хорошенько, – ухмыльнулся Озерков в свою кудрявую бороду, оглянувшись на Шитова.
– Помилосердуй, Николай Модестович, отдай приказ запасчику, – заговорил Шитов, слегка отстранив Озеркова рукой, чтоб быть ближе к Нагибину. – У меня жена брюхата, и я не хочу, чтоб она, как жена Сапегина, померла от вредного хлеба. Не станем мы эту муку брать и не станем.
– А, Шитов! – сказал Нагибин, взглянув на мастерового. – Ну, так еще раз говорю вам, что не будет другой муки, хоть с голоду подыхайте, подлецы, бунтовщики!
Общее недовольство и озлобление возрастало, все громче раздавались крики и ругательства по адресу Нагибина, все грознее становились угрозы мастеровых. Василий Иванович пробовал уговорить их, но его голос терялся, его слов не слушали. Река прорвала плотину, и было поздно останавливать ее.
– Ишь, ведь идол какой! – раздался вдруг громкий голос Озеркова. – Право, идол, да и только. Обойдемся мы, братцы, и без его приказа. Айда к амбарам все, силом заставим Архипова выдавать муку, вот покажем ему эту бумажонку и скажем, что это приказ, а читать не дадим.
Озерков, схватив со стола донесение Нагибина, замахал им по воздуху, приглашая всех выходить. Пошел Шитов, махнув безнадежно рукой на Нагибина, за ним пошли и все. Последним остался Василий Иванович.
– Выходи, выходи, Василий Иванович, нечего тебе тут делать, – говорил Озерков, подхватывая его под руку и выводя из двери. – Пусть этот идол проклятый сидит тут и строчит свои доносы, – прибавил он, запирая дверь торчавшим в замке ключом. – Ничего, пусть посидит, – прибавил он, усмехнувшись на протестующий жест Василия Ивановича, – умнее будет. А ты, друже мой, иди в больницу, я ведь оттуда в контору-то прибежал, и не знал даже, что тут деется.
– Зачем ты был в больнице? – спросил его Крапивин, медленно подвигаясь с ним вслед за выходившей толпой, гогочущей от удовольствия, что Нагибина заперли в конторе.
– Я сынишку своего туда стащил, помнишь, Васятку-то? Захворал, то же с ним, что и с девчонкой было. Сделай божескую милость, поводись ты с ним, жаль мальчонка, шустрый такой. Иди-ка с богом к своему делу, а мы тут лучше без тебя-то оборудуем.
Озерков кинулся догонять уходивших мастеровых.
– Ради бога, не делайте насилий, не ломайте замков, – кричал им вслед Василий Иванович. К нему подошел Назаров и, усмехнувшись, сказал:
– Чудак, сам бросил с горы камень да и кричишь ему: не катись! Пойдем-ка. – И, взяв его под руку, он быстро зашагал с ним к больнице.
– Не выпустить ли нам Нагибина? – в нерешительности остановился было Крапивин.
– Хуже будет, пожалуй, бока намнут ему мужики, обозлились очень, там целее будет, – сказал Назаров, и оба быстро пошли в больницу, предоставив событиям идти своим чередом.
X
Между тем толпа с шумом бежала к амбарам вместе с Озерковым, нагнавшим ее и все продолжавшим размахивать захваченной им четвертушкой бумаги. До сих пор у восставших не было вожака, шумели бабы и лишь изредка слышались мужские голоса в их среде. Теперь вожак явился и сразу стал проявлять свои организаторские способности. Многие из рабочих, имевшие было намерение разойтись по домам, присоединившись к толпе, предводительствуемой Озерковым, и, громко и возбужденно переговариваясь, шли к амбарам. Там уже сидел сходивший домой пообедать Архипов на своем табурете у стола и ждал, что бабы образумятся и станут брать муку. Галдящая, шумная толпа рабочих и женщин приближалась к амбарам. Впереди всех шел Озерков, размахивая бумагой.
«Неужто Нагибин уступил?» – подумал Петр Яковлевич, увидав бумажку в его руке.
– Вот тебе приказ, старая амбарная крыса, немедленно отпереть другой амбар и выдавать нам хорошую муку, – сказал ему подошедший Озерков, размахивая у него перед глазами бумагой. – Живо поворачивайся! Скоро стемнеет, а народу множество.
– Подай сюда бумагу, я должен ее прочитать, – сказал Архипов, – чего ею машешь?
– На, читай, – сказал Озерков и, подойдя к нему вплоть, сунул бумагу прямо в нос и, продержав немного, прибавил:– Ну, прочитал? Ступай теперь, отворяй!
Он быстро поднял Архипова за шиворот и вытолкнул из амбара. Удивленный и обозленный в высшей степени, Архипов принялся осыпать их всевозможной руганью. Но ругань его потеряла всю свою силу, встреченная такой же руганью со стороны мужиков, и сам Архипов, рядом с мощной фигурой Озеркова, не имел в себе ничего внушительного.
– Ну, живо, живо отпирай, чего еще разговариваешь? – закричал на него Озерков, приготовляясь снова встряхнуть его за шиворот.
Архипов отскочил.
– Не буду я отпирать, у меня и ключей нету здесь, сказано: берите из того, который отперт, – кричал Архипов, отбиваясь от баб, тащивших его к другому амбару.
– Ах ты, старый хрыч! Дохлая ты крыса! – выругался Озерков. – Ключей нету у него. Эй, бабы, бегите кто-нибудь к нему в дом за ключами. Спросите там у его дочери, она, верно, знает, где они лежат. Возьмите их и несите сюда.
Несколько женщин отделились и убежали за ключами.
– Да не здесь ли они у тебя, старый скряга, – сказал Озерков, заглядывая на полку над столом и шаря рукой около дверей по стене амбара. Но ключей тут не было. Между тем начинало смеркаться, и Озерков послал двоих из рабочих в заводскую сторожку за фонарями, которых всегда там имелось заправленных несколько штук. Вскоре женщины вернулись без ключей. Лиза не знает, где они, и не может их найти.
– И все мы искали и не могли найти, – оказали бабы.
– Куда ты их запрятал, старый черт? Говори, где ключи? – Озерков принялся так трясти Архипова за шиворот, что у него только зубы застучали.
– Не скажу, – прохрипел Архипов, отбиваясь.
– Не скажешь! Ах, ты… – и на Архипова посыпались всевозможные ругательства. Его толкали, дергали, совали ему кулаки в нос, но он упорно твердил: – Подайте бумагу, без записки я не отворю амбара.
– В пруд его, старого черта, тогда вспомнит, скажет, где ключи, как искупаем в холодной воде, – распорядился Озерков, и запасчика потащили к пруду.
– Эй, сними-ка вожжи и дай сюда! – крикнул Озерков одному из близ стоявших возчиков и, когда вожжи были поданы, побежал к пруду. Там, на плоту, устроенном для полосканья белья, стоял Архипов, удерживаемый сильными руками рабочих, и продолжал упорствовать и ругаться.
Озерков молча обвязал Архипова вожжами подмышки и крикнул ему в самое ухо:
– В последний спрашиваю, скажешь ли?
Тот молчал; но все-таки он начинал трусить, хотя и думал, что его только стращают и не посмеют сделать того, чем угрожают. Вода была холодная и темная, по утрам уже бывали заморозки, и у берегов виден был лед. Перспектива искупаться в воде была не из приятных.
– Молчишь? Не хочешь сказать? Так ступай же, старый черт, искупайся!
Озерков, держа в одной руке концы вожжей, поддал Архипову в зад ногой так сильно, что тот вылетел чуть не на середину пруда и с головой погрузился в воду. Его тотчас же притянули обратно к плоту, и, поднимая его голову над водой, Озерков опять спросил:
– Ну, скажешь теперь?
Но Архипов только стучал зубами, чихал, фыркал и отплевывался. Озерков еще раз окунул его с головой и затем, вытащив из воды, посадил на плоту.
– Ну, очухайся малость и говори; до тех пор тебя буду купать, пока не скажешь, где ключи, – сказал ему Озерков.
В толпе, стоявшей на берегу, произошло какое-то движение. Все быстро расступились, пропуская кого-то к плоту. То была Лиза, смертельно-бледная, перепуганная, в одном платье, с непокрытой головой; она подбегала к пруду, неся два ключа, связанные ремешком.
– Вот ключи, вот ключи! – кричала она. – Берите ключи, не трогайте отца, не топите его!
– А-а! Нашлись! – весело вскричал Озерков и, выпустив вожжи из рук, бросился к Лизе навстречу и схватил ключи.
– А твоего родителя мы только постращали, голубушка, оченно уж он упрям, а топить мы его и не думали, – сказал Озерков Лизе. – Получай его и веди поскорее домой. Ребята, пособите ей, подхватите его под руки, намок ведь он, и стащите до дому.
С Архипова сдернули веревку и потащили его домой.
– Напой его малиной, Лизанька, – кричали ей вдогонку бабы.
– Что малина! Водки ему стакан поднеси! – с хохотом кричали рабочие.
– Чаем с ромом напой!
– На печку положи да шубой закрой!
– Баню истопи!
Рада не рада была Лиза, когда рабочие, дотащивши его до ворот, оставили и убежали обратно. Там уж отворили амбар и зажгли фонари, так как совсем стемнело.
– Кто ж теперь у нас за запасчика будет? – недоумевал Озерков, вопросительно оглядывая всех. – Ведь надо кому-нибудь выдачу записывать.
– Гвоздев тут недалеко живет, – сказал Шитов. – Мальчонка бойко пишет, а у нас ведь грамотных никого нету.
– Айда за Гвоздевым, ребята, тащите его сюда.
Гвоздев был мальчик лет шестнадцати, за хороший почерк определенный в контору писцом. Отец его служил в заводе распометчиком. Парня привели чуть живого от страху. Следом за ним бежала его плачущая испуганная мать.
– Что вы, черти оголтелые, хотите с ним делать? На что вам парнишка мой понадобился? Неужто вы и его утопить хотите, душегубы?
По заводу уже разнесся слух о том, что запасчика утопили в пруду.
– Полно, Кирилловна, зачем пустяки говоришь? Не душегубы и никакого худа твоему парню не сделаем. Вот пусть садится и записывает выдачу. Вот тебе и стол и табуретка, перо и чернила, садись и пиши. Да с тетрадью-то сверяйся, смотри, чтоб кои бабы лишнего не получили, – говорил Озерков, усаживая Гвоздева за стол и ободряя его. Хотя они и брали муку самовольно, но многие из рабочих соглашались с Озерковым, чтоб это не имело вида грабежа, а было такой же выдачей провианта, как всегда.
– Да-ведь с парня взыщут после! – кричала мать Гвоздева, хватаясь за сына и мешая ему взяться за перо. – Скажут, что и он бунтовал вместе с вами. Со службы прогонят, пожалуй.
– Не бойся, не взыщут, – уговаривали ее мужики и потихоньку отводили и выпихивали из амбара. – С нас взыщут, это точно, а с него что же взять? Силом его сюда привели, силбм писать заставили. Ступай с богом домой и нисколько о парне не сумлевайся.
– Принеси ему валенки да полушубок, всю ночь ведь мы его тут продержим, замерзнет, – предложил кто-то из рабочих Гвоздевой, все не уходившей.
– И точно, – воскликнула она, – простудится еще парень! – и пошла поспешно к дому.
А мальчик скоро разобрался в книге и аккуратно стал отмечать число выданных пудов против каждой фамилии. Озерков стоял у весов и зорко следил за тем, чтоб взвешивали аккуратно, чтоб никто не взял лишнего фунта. Всю ночь кипела работа, выдача производилась часов до десяти утра, и только тогда, когда все явившиеся за мукой получили, что им следовало, Озерков, наконец, отпустил своего импровизированного запасчика, запер амбар и, вручив ему же ключи, наказал их отнести в контору вместе с книгой. Ему же передал он и ключ от присутствия, наказав передать его сторожу.
– Будто уж просидел Нагибин ночку, ну и довольно с него, – сказал он, рассмеявшись. – Пусть выходит.
Но Озерков напрасно воображал, что Нагибин все еще сидит под арестом. Его выпустил механик еще вечером. Часу в пятом к нему прибежала встревоженная и плачущая Серафима Борисовна и сказала, что взбунтовавшиеся рабочие заперли ее мужа в конторе и, приставив караул к дверям, отправились грабить амбар.
– Вот что наделал ваш хваленый Василий Иванович, – напустилась Серафима Борисовна с упреками на Марью Ивановну, – всех рабочих взбунтовал. Архипова, говорят, в пруду утопили. А мы-то считали его за хорошего человека, ласкали, у себя принимали; да знала бы я, что он за птица такая, на порог бы его не пустила.
– Кто же знал, что все это так разыграется. Крапивина винить одного тоже нельзя, неправ ведь и Николай Модестович, – попробовала возражать Марья Ивановна.
– Да я знаю, знаю, что вы за Крапивина заступитесь, а Николая Модестовича обвините. Вы и Лизу нашу смутили своими похвалами Крапивину. Вчера глупая девчонка изволила высказаться, что ни за кого, кроме Крапивина, и замуж не пойдет. А он вон что натворил! На его душе ведь смерть Архипова будет, если точно правда, что его утопили.
– Ну, это вздор, должно быть, – возразила Марья Ивановна.
– А вчера Новожилов приезжал свататься, сегодня сваты ни с чем уехали, в другой раз не приедут, пожалуй, – продолжала жаловаться и упрекать Серафима Борисовна.
Между тем Густав Карлович собрал все ключи от своих комнатных дверей и пошел освобождать Нагибина. Ключи, однако, не пришлись, и Густаву Карловичу пришлось немало повозиться с ними. Он посылал своего кучера в слесарную за подпилком, чтоб подтереть один из ключей, более других подходивший к замку. Нагибин вышел злой и, только кивнув головой Густаву Карловичу, напустился на старика-сторожа, ругая за то, что тот допустил в контору баб. Сторож молчал, зная, что Нагибин просто срывает сердце и что лучше не оправдываться, а то, пожалуй, еще влепит в ухо. Нагибин редко выходил из себя, но, не в шутку рассердившись, не клал охулки на руку. Приказав сторожу разыскать поскорей почтаря и очередного ямщика, он скорыми шагами пошел домой. На крыльце своего дома он остановился, прислушиваясь, и с минуту раздумывал: идти ли ему домой или к амбарам, откуда несся гул голосов рабочих. Это раздумье прекратила Серафима Борисовна, прибежавшая домой от механика. Она втолкнула его в сени и собственноручно заперла дверь крепким засовом, приказав кучеру запереть и окна ставнями. Тогда она сообщила мужу услышанную ею на пути к механику весть, что Архипова утопили в пруду. Это ошеломило Нагибина и заставило его несколько струсить. Единственный человек, оставшийся у него в подчинении, его кучер, был послан за полицейскими, но возвратился один: в полиции не было никого, кроме старика-сторожа. Все полицейские десятники ушли получать выдаваемую Озерковым муку. Тогда Серафима Борисовна послала кучера к Архипову узнать, жив ли он. Кучер возвратился уже часов в восемь вечера и сказал, что Архипов жив и лежит на печи под шубой.
– Его только покупали в пруду, а топить не хотели, – говорил кучер, – ключи от амбара он долго не давал, вот и рассердились. Уж Лизанька наша ключи и принесла им, тогда его и сволокли домой. Ну, может, помяли малость дорогой: Архипова ведь рабочие завсегда не любили.
– Ах, злодеи, злодеи! – восклицала в ужасе Серафима Борисовна. – Совсем всякий страх забыли!
Николай Модестович, слушая кучера, сердито ходил из угла в угол, куря свою трубку, и снова прогнал его торопить почтаря и ямщика. Но только поздно вечером пришлось ему отправить в главное управление свое донесение, заготовленное им еще в то время, как он сидел под арестом. Назаров побывал вечером в конторе и отослал с почтарем всю ранее заготовленную почту, а также и письма Крапивина, валявшиеся несколько дней неотправленными. Этим он думал все-таки оказать некоторую услугу приятелю.
XI
Спустя около недели, уже в сумерки одного ненастного дня, на двор господского дома, в котором жил Нагибин, вкатил тяжелый дорожный экипаж, запряженный четверкой взмыленных лошадей. Соскочивший с козел лакей и выбежавший навстречу Нагибин подхватили под руки с трудом выбирающегося из экипажа главного управляющего имениями князя. Это был уже немолодой человек, довольно высокий и тучный, с бледным и утомленным лицом, оживленным только умным и проницательным взглядом серых глаз, полуприкрытых нависающими веками.
– Ну и дорога! – сказал он, только вскользь взглянув на Нагибина, и, поспешно сунув ему руку в ответ на его почтительный поклон, стал тяжело взбираться на лестницу, поддерживаемый под локоть лакеем.
Вслед за ним, кряхтя и стоная, выбирался из экипажа седой и тучный доктор. Его тоже подхватили под руки кучер Нагибина и полицейский десятник, уже двое суток дежуривший в квартире Нагибина в ожидании управляющего. Доктор с трудом держался на ногах, так его растрясло. Поздоровавшись с Нагибиным, он сердито заворчал, что дороги у них невозможные, почти непроездные и что это просто свинство возить по таким дорогам, в такую сквернейшую погоду.
– Теперь дорогу невозможно содержать в порядке; всю неделю дождь и снег, – оправдывался Нагибин, идя по лестнице вслед за доктором, которого тащили под руки кучер Нагибина и полицейский.
Дорога в Новый Завод всегда была почти непроездная. Еще плохо устроенная, она шла то болотинами, замощенными бревенчатой гатью, то ложбинами, размываемыми бесчисленными горными ручьями, то поднимаясь на крутые каменистые пригорки, то спускаясь с них. Мосты через ручьи и речки, часто пересекающие дорогу, были хотя и новые, но покривившиеся и исковерканные частыми разливами речек, в дождливую погоду часто выходивших из берегов. Доктор, не любивший и боявшийся ездить, все время ворчал и ругался. Управляющий, в начале пути подсмеивавшийся над доктором, к концу пути и сам стал хмуриться и выражать неудовольствие. Они проехали, почти нигде не отдыхая, двести пятьдесят верст, из которых только первую половину ехали по сравнительно хорошей дороге. Придавая слишком много важности своему донесению о взбунтовавшихся рабочих, Нагибин думал, что прежде всего к нему обратятся с расспросами, как и что у них тут произошло, а о дороге забудут и думать, и был весьма удивлен, что и управляющий и доктор только ругают дорогу и ни о чем не расспрашивают. Он стоял почти около самых дверей и глядел, как управляющий, расправляя затекшие ноги, медленно прохаживался взад и вперед, а доктор, набросав на диван подушек, растянулся на них, приказал лакею управляющего стащить с ног меховые сапоги и двигал ногами, перекладывая их с места на место. Комнатный мальчик Нагибина вносил и ставил на столы по две зажженных свечи.
Через полчаса на двор еще въехала тройка, и лихой ямщик, остановив лошадей, ловко обернулся и отстегнул кожаный фартук повозки. Из нее легко выпрыгнул молодой человек, личный секретарь главноуправляющего, и, отстранив рукой подбежавшего полицейского, быстро взбежал по лестнице. Следом за ним выбирался из экипажа пожилой, худощавый, одетый в простую овчинную шубу мужчина. Это был повар, сопровождавший управляющего во все продолжительные поездки. Ему уже никто не помогал ни выходить из экипажа, ни всходить по лестнице. Он спросил, где кухня, и, предшествуемый кучером, прошел туда и прежде всего спросил себе пообедать.
Через час, на этот раз уже у крыльца въезжего дома, остановился еще экипаж четверней. В нем приехал исправник с двумя казаками на козлах. Это был крепкий и сильный мужчина с щетинистыми усами, военной выправкой и громким, басистым голосом. Он, повидимому, был менее всех утомлен дорогой. Выпив стакан чаю, почистившись и пристегнув тесак, он вышел на крыльцо. Там уже ожидала его посланная Нагибиным лошадь.
– А, вот и вы, Анатолий Николаевич, – протянул управляющий при входе исправника в залу. Он сидел в глубоком кресле и медленно прихлебывал чай из стакана. Доктор пил чай, полулежа на диване. Нагибин тоже со стаканом чаю сидел у одного из простеночных столов.
– А я думал, нам придется ждать вас здесь, – добавил управляющий, протягивая руку подошедшему исправнику.
– Я выехал тотчас, как только получил вашу бумажку, – ответил тот и, здороваясь с Нагибиным и доктором, прибавил: – Я думал, что догоню вас, но дорога ужасная.
– Да, батенька мой, – заворчал доктор, – дорога невозможная, убийственная дорога. Нас так растрясло, что еле жив. Вот еще будет удовольствие расхвораться в таком скверном месте.
– Ну, что вы, зачем же хворать? Вы ободритесь. Что до меня, так я ко всяким дорогам привычен и переношу их довольно стойко, – сказал исправник, усаживаясь на стул между доктором и управляющим.
– А вы, Николай Модестович, насчет закуски распорядились? – спросил управляющий. – Там есть кое-что дорожных запасов, надо сказать Нейстерову, так он приготовит.
– Помилуйте-с, Григорий Павлович, жена уже хлопочет. За честь почтет угостить, чем только может, что имеем, – заговорил Нагибин, вскочив и как-то засуетившись на месте. – Не знаю только, куда подать прикажете.
– Сюда, сюда, милейший Николай Модестович, – быстро заговорил доктор, приподнимаясь на диване и показывая рукой на круглый стол, отодвинутый несколько вбок, возле которого он пил чай. – С супругой вашей мы уже завтра увидаемся, а теперь бы немножко что-нибудь перекусить, пока там повар Григория Павловича приготовит что-нибудь поужинать. Ведь мы, батенька, хорошенько не едали около двух суток.
Доктор выразительно вздохнул и сел на диван, свесив ноги.
Григорий Павлович рассмеялся.
– Мы, кажется, довольно исправно сегодня закусили в Никольском?
– Это битки-то ели? Мясо, я вам скажу, вроде подошвы и до невозможности луку и перцу. Это нас там жена смотрителя угостила; повар наш с секретарем отстали и подъехали тогда уж, как мы выезжали со станции, – рассказывал доктор исправнику, похлопывая его по коленке. Тот смеялся.
Внесли огромный поднос с закусками, накрыли стол белой скатертью и поставили на него поднос. Доктор, прищурившись, нагнул вбок голову и приглядывался к тому, что было подано на подносе. Должно быть, он остался доволен поданным, потому что лицо его несколько прояснилось, а другой поднос с водками и настойками привел и всех в более хорошее расположение духа. Все выпили и принялись закусывать. Разговор завязался. Исправник стал рассказывать, как на прошлой неделе он ездил на следствие в завод соседнего помещика и что там такое произошло. Наконец, разговор коснулся и происшедшего в Новом Заводе бунта.
– Ну, расскажите, что у вас тут такое произошло? – обратился Григорий Павлович к Нагибину, закусывая свою вторую рюмку водки маринованным белым грибком. У Григория Павловича было правило пить только две рюмки водки, а за ужином он пил только вино и то в небольшом количестве.
– Это все произошло от вмешательства фельдшера Крапивина, – сказал Нагибин, подходя поближе. – Если бы не он, то я уверен, что решительно ничего бы не было. Мука точно была плоховата, но и в прошлом году муку выдавали не лучше, однако ж никто бунтовать и не думал, все были довольны и спокойны.
– Однако ж тут было несколько смертных случаев, и Крапивин пишет, что они произошли от вредного хлеба, – сказал Григорий Павлович.
– Смертные случаи точно были, но они ведь и всегда бывают, но я не могу этого хлебу приписывать. Я думаю, на то была воля божия. Во всяком случае, они должны были просить начальство, а не самовольно грабить амбар. Притом запасчика Архипова чуть не утопили.
Нагибин начал подробно рассказывать все происшествие. Управляющий слушал, нахмурившись; исправник вставлял по временам отрывистые восклицания, вроде: «Ах, канальи, вот бестии! вот черти!» Доктор не спеша, методически закусывал, чокаясь с исправником, и тоже молчал, то нахмуривая брови, то прищурив глаза, внимательно и зорко вглядываясь в лица Нагибина и Григория Павловича.
– Жаль, жаль, – сказал управляющий, выслушав все, что считал нужным сказать Нагибин. Он встал с кресла и несколько раз медленно и, повидимому, в большом раздумье, прошелся по комнате.
– Это в высшей степени неприятная история, в высшей степени неприятная история! Надо было всячески избежать ее, – сказал он, наконец, останавливаясь против Нагибина.
– Я не виноват, – заговорил тот как-то торопливо и растерянно. – Вам известна моя служба, Григорий Павлович, всю жизнь со всем усердием, так сказать, верой и правдой…
– Да знаю, знаю, – махнул рукой Григорий Павлович, снова заходив по комнате. – Ну, оставим это все до завтра. А виновные где у вас находятся?
– Крапивин под домашним арестом содержится в больнице. Заведование больницей передано бывшему фельдшеру Каратаеву. Озерков, Шитов и еще двое из более виновных содержатся при полиции, остальные все на работах.
– Хорошо. Так, значит, завтра мы все расследуем и увидим, что нужно сделать. А теперь хорошо бы поужинать и соснуть. Я чувствую крайнее утомление, – заключил Григорий Павлович, снова опускаясь в кресло.
Нагибин скрылся во внутренних комнатах, сильно озабоченный. Он начинал понимать, что зашел в своем усердии к интересам помещика слишком далеко. Он сам прошел в кухню и спросил у повара, уже надевшего свой колпак и белый фартук и важно священнодействовавшего у плиты, скоро ли будет ужин.
– Сейчас будет готово-с, – ответил тот, не отрываясь от своего дела.
Вскоре после того, как приехал управляющий, на дворе у Нагибина собралась небольшая кучка баб с просьбой допустить их до управляющего, перед которым они хотели встать на колени и просить помилования себе и мужьям.
– Что с ними делать? Доложить ли Григорию Павловичу или приказать казакам разогнать их? – спрашивал растерявшийся Нагибин у секретаря управляющего, пившего чай в столовой с Серафимой Борисовной.
– Нет, лучше не докладывать. Григорий Павлович все равно не примет их сегодня, а казакам отдать приказ, то, пожалуй, шум подымется; Григорий Павлович этого не любит. Лучше выйти и уговорить их разойтись, сказать, что завтра их выслушают, – предложил секретарь.
Нагибин с минуту молча глядел на него. Ему идти уговаривать баб разойтись! Это что-то не вязалось е его понятиями.
– Не выйдете ли вы? Как лицо уполномоченное… вас скорее послушают, – предложил Нагибин секретарю.
– Что ж, пожалуй, я выйду, – согласился тот и, улыбаясь, встал и отправился на крыльцо, где ему очень скоро удалось успокоить баб обещанием, что завтра они будут приняты и выслушаны в конторе. Секретарь стоял на крыльце в одном сюртуке, поеживаясь от холоду и сырости и покачиваясь с каблуков на носки, уговаривал баб, называя их голубушками. А сзади его стояли два исправничьих казака, всюду сопровождавшие свое начальство, готовые ринуться по его приказу в огонь и воду. Бабы разошлись без всяких возражений.
Ужинали в зале. К ужину приглашены были секретарь и Нагибин. Разговор за столом не клеился, да и некогда было разговаривать. Повар Григория Павловича не ударил лицом в грязь, и уха из свежих харюзов была очень хороша. Хороши были и отлично зажаренные рябчики с разными вкусными к ним салатами и нежные, легкие вафли со сбитыми сливками и душистым вареньем из княженики. Ко всему этому подавались весьма недурные вина, хранившиеся в подвале Нагибина для особо важных посетителей. После ужина, хотя и приведшего гостей в более благодушное настроение, они все-таки пожелали сейчас же лечь спать. Были внесены кровати в залу и гостиную с пуховиками для доктора и для управляющего. Секретарю пуховика не полагалось, и сделанная ему на диване в зале постель была порядочно жестковата (тогда в заводах еще не водилось мягкой мебели), но была чистая простыня, пара мягких подушек и теплое одеяло, и секретарь с наслаждением растянулся на диване, дождавшись, однако ж, когда улеглось начальство, укладываемое своим лакеем. Когда легли и Григорий Павлович приказал потушить свечи, секретарь сказал ему:
– А ведь к вам, Григорий Павлович, тут полный двор баб сбегался.
– Ну и что же?
– Струсил Нагибин и спрашивает, как с ними быть. Хотел вам докладывать, я отсоветовал, вышел к ним и уговорил их разойтись. Сказал, чтоб завтра приходили в контору.
– И прекрасно, и прекрасно! – ответил управляющий и почти тотчас стал посапывать носом.
«Уж заснул, а я и покойной-то ночи не успел пожелать», – огорчился секретарь, засыпая.
Только доктор в гостиной еще ворочался на своем пуховике, тяжело отдуваясь: он покушал более, чем следовало.
XII
Утром на другой день, несмотря на то, что падал мокрый снег и тотчас же таял на земле, бабы уже собрались у конторы и ждали там часа два появления начальства. Крапивина приводили для допроса в дом к Нагибину, и он принес с собой образцы муки и хлеба. Григорий Павлович допрашивал его в зале только в присутствии доктора. Крапивин просил произвести вскрытие последнему умершему мальчику, сыну Озеркова, похороненному всего дня два тому назад. Ему хотелось это сделать для того, чтобы были вполне несомненные доказательства отравления.
– Но можно и так поверить, – сказал на это доктор, сидевший за столом и рассматривавший муку и хлеб. – Скверный хлеб, нельзя таким людей кормить. Николай Модестович сделал грубую ошибку, что не досмотрел сам и слишком положился на своих подчиненных. А вырывать похороненных и производить им вскрытие, я думаю, нет надобности. Это только еще больше неудовольствия вызовет в народе, он ведь подобных вещей не любит.
– Да, это правда, я и сам думаю, что вскрытие излишне, – согласился Григорий Павлович, прохаживавшийся по зале.
– Мертвых не воскресишь, – рассуждал доктор, откинувшись на спинку стула, – а от живых вред этот устранен теперь будет. Кроме того, ведь не все же и умирали. Погибли только слабейшие организмы, имевшие предрасположение к заболеваниям, как это и всегда бывает и при эпидемиях и при всяких других неблагоприятных условиях жизни. Самое лучшее, Григорий Павлович, оставить мертвых в покое, а то подумайте, сколько хлопот и лишних расходов. Да и его сиятельству эта история будет крайне неприятна.
– Все это так, милейший доктор, и вполне я с вами согласен, – заговорил Григорий Павлович, останавливаясь против доктора, – но тогда Крапивину, как вызвавшему волнение и беспорядки в среде рабочих без особенно уважительных причин, придется понести почти одному всю тяжесть княжеского гнева. Не довести же этого дела до его сведения я не могу.
– Совершенно верно-с, но в своем донесении вы можете смягчить всю эту историю, представив ее не в слишком мрачных красках, и дело, может быть, как-нибудь и обойдется: особенно сурового наказания, вроде отдачи в солдаты, теперь ведь уж быть не может, а небольшое послужит наукой молодому человеку, заставит его более умело обращаться с людьми, – говорил доктор, постукивая по столу концами пальцев.
– Крутенек наш князь, крутенек и не слишком-то поддается посторонним влияниям, – сказал Григорий Павлович, останавливаясь перед Крапивиным. – Я просто не могу себе представить, чем это может кончиться. Вы должны быть ко всему готовы.
– Я и готов ко всему, – спокойно сказал Василий Иванович, глядя в глаза управляющему своими чистыми серыми глазами. – Я перенесу все безропотно, но молчать и ждать я не мог, не имел права. – Григорий Павлович молча отвернулся и опять стал ходить по комнате.








