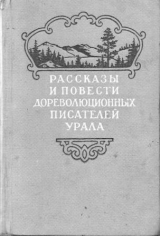
Текст книги "Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала. Том 1"
Автор книги: Константин Носилов
Соавторы: Анна Кирпищикова,Павел Заякин-Уральский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 32 страниц)
Когда он выпил водку, она ему предложила:
– Ты лег бы, так лучше.
Он, прожевывая закуску, глухо и невнятно ответил:
– Посижу немного.
В комнату вошла Мария Васильевна, с недоумением остановилась, долго смотрела то на мужа, то на свекровь и, наконец, заговорила:
– Что это ты, Ваня, колобродишь опять?
Он бросил на нее осовелый взгляд и ответил развязным тоном:
– Пустяки. Знаешь, как это поется:
На свете все пустое —
Богатство и чины…
Но она энергично его перебила:
– Не дурачься, Ваня, а поговорим серьезно. Зачем ты пьешь? К чему это приведет? Катишься и катишься по наклонной плоскости…
Последние слова были произнесены таким грустным, мягким и подкупающим тоном, что ему стало жаль ее и совестно перед ней, и он стал серьезно говорить:
– Мне и самому тяжело так крутить, да что станешь делать? Пью потому, что я – фельдшер, который в медицине – ни рыба, ни мясо… Чтобы работать на этом поприще, нужно иметь диплом врача, иначе, будь ты хоть семи пядей во лбу, тебя будут держать в тисках… И еще пью потому, что мне все надоело и сам себе я надоел…
Она печально посмотрела на него и продолжала:
– Вот так-то ты и погружаешься в тину. Будь силен, остановись, вернись к сознательной жизни. Помнишь, о чем мы с тобой прежде мечтали, к чему стремились?.. Как далеко ушло все это!
– Да, невозвратное время! – грустно отозвался он.
Она подошла к нему. Взор ее вспыхнул нежной лаской. Он тоже ласково посмотрел на нее и виновато улыбнулся. Она горячо возразила:
– Почему невозвратное? Нет, мы можем встать на прежний путь, только нужно взять себя в руки. Ты обещаешь мне это?
Тронутый ее участием, он тепло и мягко ответил:
– Когда ты говоришь об этом, то я верю, что это возможно.
Олимпиада Алексеевна, молча наблюдавшая за ними, нетерпеливо вставила замечание:
– Лег бы лучше.
Голосов взял графин, снова налил водки в стакан, повернулся лицом к матери и сказал:
– Еще выпью и тогда лягу.
Водку он выпил залпом, закусил с ножа сыром и, встав на ноги, обратился к матери и жене:
– Вот теперь хорошшо. Теперь пойду спать.
Когда он удалился, Олимпиада Алексеевна, глубоко вздохнув, проворчала:
– Не дай-то бог такую напасть!
Мария Васильевна, сидевшая в задумчивом оцепенении, услыхала только последнее слово и спросила;
– Какую напасть?
Старуха с раздражением ответила:
– А если у него запой…
Мария Васильевна задумалась и грустно произнесла:
– Он кончит, пожалуй, скверно. Сгубит его это болото.
V
На следующий день вечером супруги Голосовы должны были пойти к управителю завода Заверткину: он – на очередной вист, а она – на чашку чаю.
В дом управителя полагалось являться «в одеждах брачных». Поэтому Голосов надел новый пиджачный костюм, завил усы и надушился, а Мария Васильевна, по его же настоянию, надела шерстяное платье со шлейфом и сделала красивую прическу, подходившую к ее мраморному лицу со вздернутым слегка носом. Сборы их были продолжительны, но все сошло, против обыкновения, мирно.
Проходили они по безлюдным улицам. Вечер был теплый, светлый и тихий. На западе угасали последние вспышки зари, а на востоке из-за волнистой горной цепи всходила медноликая луна. Жизнь в селении замирала, вокруг все безмолвствовало, только завод непрерывно гудел. И они шли в этом приятном сумраке, безмолвно, без всяких размышлений, отдыхая душой и телом.
Парадную дверь в управительском доме открыла им горничная Оля, высокая женщина с лоснящимся лицом, в черном платье и белом фартуке, а в переднюю, пока они раздевались, вышли встречать их сами хозяева.
– Милости просим! – протяжно гудел Заверткин, высокий, худощавый, с подстриженными кружком волосами, в дымчатых очках, с рыжеватой бородой лопаточкой, в длиннополом сюртуке и широких брюках.
– Пожалуйте, пожалуйте! – тихо и жеманно приглашала хозяйка, Елизавета Ивановна, высокая, полная, с рыхлым лицом, большими синими глазами, широким носом, тонким разрезом рта, двойным подбородком и высокой грудью, одетая в голубое с дорогими прошивками платье.
Управитель и его жена, считая себя особами высшего ранга на заводе, держались с своеобразной важностью и достоинством. Все движения Заверткина отличались медленностью, и говорил он медленно и тягуче густым басом. Но, как автодидакт[1], достигнувший высокого положения на заводе по протекции, он не обладал внешним лоском, и в нем проглядывали те характерные для людей этого класса черты, которым дано название «мужиковатость». Елизавета Ивановна держала себя строго, говорила мало, смеялась очень редко, и улыбка ее всегда выходила натянутой и уродливой. Такие манеры были привиты ей, как считавшиеся обязательными, в доме ее отца, бывшего управителя, и предписывались, как она думала, настоящим ее положением.
Когда гости разделись и обменялись с хозяевами приветствиями, все направились в богато и роскошно обставленную гостиную.
Здесь все было на барскую ногу: дорогая мебель, ковры, бронза, фарфор, бархат, картины, цветы… Только убранство комнаты по случаю предполагавшегося карточного вечера было необычайным. В одном углу стоял диван с малиновой бархатной обивкой, а в другом – массивное пианино и пюпитр для нот. Один стол был сервирован для чая, на втором были выставлены вина и закуски, третий – карточный – стоял среди комнаты, на четвертом – лежали цитра и гитара. Резные стулья, обитые малиновым бархатом, стояли правильными рядами около стен и чайного стола. Вокруг карточного стола были расставлены венские стулья. В центре потолка висела зажженная электрическая люстра с матовыми колпачками и заливала комнату ровным мягким светом.
Заверткин и Голосов сели на диван, под сень высоких темнозеленых фикусов и трепетно-нежных араукарий, стоявших около дивана, и оба закурили по папиросе, обмениваясь в то же время свежими заводскими новостями. Дамы ушли к чайному столу. Хозяйка начала перетирать дорогую изящную посуду белоснежным полотенцем и затем, сделка гремя фарфором и серебром, стала наливать чай. Говорила она о вкусном вареньи, приготовленном по рецепту бабушки, и предлагала гостье попробовать этого прелестного лакомства. Окончив приготовления к чаю, сиявшая удовольствием от обилия угощения, она пригласила всех к столу.
За чаем Заверткин начал рассказывать о посещении завода управляющим, с гордостью подчеркнув свою дружбу с ним. Но его речь в самом начале прервали звенящие и клокочущие звуки электрического звонка, донесшиеся откуда-то издалека. Он поспешно встал и направился в переднюю. За ним же последовала и Елизавета Ивановна, жеманно обратившись к гостям:
– Извините, господа, на минуточку.
Голосов, оставшись наедине с женой, любовно и нежно взглянул на нее и с грустью сказал:
– Вот придут – и начнется опять… Не хотелось бы, право, пить, а нельзя… Как ты думаешь?
Мария Васильевна ласково посмотрела на него и тихо ответила:
– Воздержись… Играй, но не пей… Все-таки лучше…
Через минуту гостиная наполнилась гулом голосов и раскатами веселого смеха вошедших вместе с хозяевами новых гостей.
Первым вошел заводский врач Егор Дмитриевич Петров, маленький, коренастый, с черными вьющимися волосами и черной бородкой на смуглом липе, в сиреневой вышитой косоворотке, темносиней суконной поддевке и лакированных сапогах.
Он, слегка улыбаясь, подошел к Марии Васильевне, поклонился, пожал ее руку и медленно, как бы неохотно выпуская ее из своей руки, осведомился:
– Здоровы ли? Как поживаете?
Она также с едва заметной улыбкой ответила:
– Благодарю вас… Ничего… Помаленьку…
Он снова поклонился ей и, подавая руку Голосову, сказал:
– Еще раз…
Затем вошли в комнату заводский смотритель Николай Петрович и его жена Нина Петровна Глушковы, сопровождаемые приветливо встретившими их хозяевами, все разом говорившие и громко смеявшиеся.
Нина Петровна, маленькая, худенькая, с завитыми черными волосами, выцветшим лицом, черными, как ягоды смородины, глазами, тонкими и бескровными губами, была в черном платье, с большой золотой брошкой и золотой массивной цепью на груди.
Она, не переставая разговаривать с Елизаветой Ивановной и улыбаться ей, небрежно и сухо поздоровалась с Голосовыми и увлекла хозяйку, усиленно тараторя с ней, на противоположную сторону стола.
Глушков, высокий, с рябоватым, обросшим лицом, кривой на левый глаз, в тужурке и ботфортах, покачиваясь огромным телом и разглаживая на ходу большую рыжую бороду, подходил поочередно к присутствующим, протягивал руку и развязно говорил:
– Доброго здоровья! Наше вам… с кисточкой!.. Как поживаете?
В то время как Петров, за чаем, рассказывал дамам о своей охоте на глухарей, Глушков завел с управителем деловой разговор.
– Вынужден вам доложить: третьего дня уволил за пьянство подмастерья Крупина, а сегодня Юношев его принял, без моего согласия, на работу.
Заверткин неприятно поморщился и сказал:
– Ах, уж этот Юношев! Вечно создает неприятности… Надо как-нибудь от него отделаться…
Глушков, торжествуя, продолжал:
– Крайне неудобно: я увольняю, а он принимает. Этим дезорганизация вносится в дело.
– Да, неудобно, – подтвердил Заверткин и добавил:– сделаю ему внушение.
Довольный таким результатом кляузы, Глушков сразу умолк, а Заверткин, вслушиваясь в разговор Петрова с дамами, заинтересовался и спросил:
– Начали, Егор Дмитриевич, охотиться?
– Да, был сегодня на охоте и убил двух глухарей… Завтра пожалуйте глухариного супа откушать…
– Благодарю, благодарю…
– Завтра ведь у меня играем…
В разговор вмешался Глушков:
– Вы, Егор Дмитриевич, велите-ка одного-то глухарика зажарить да на закусочку подать… С горчичкой очень хорошо… Люблю, грешный человек…
Петров, добродушно улыбаясь, сказал:
– Хорошо, велю зажарить и подать с горчичкой…
– Ты уж опять насчет закуски заботишься, – вставила замечание по адресу мужа Нина Петровна.
Глушков, тряся бородой, громко засмеялся и ответил:
– Так, между прочим, не мешает…
Но жена уже не слушала, его, увлеченная разговором с хозяйкой.
– Газеты опять начинают писать о войне, – сказал после паузы Петров.
– Нынче постоянно порохом пахнет в воздухе… – авторитетно отозвался Заверткин.
– Ерунда, сплетни… Не будет войны… – уверенным тоном возразил Глушков.
– Почему? – мягко спросил Петров и, помолчав, добавил: – Помните, перед японской войной также не верили в возможность столкновения, а оказалось…
И он многозначительно посмотрел на собеседника. Глушков начал горячо объяснять:
– Тогда было совсем другое, дело. Тот народ, японский, народ энергичный, сумевший в несколько десятков лет превратиться из полудикого состояния в культурную нацию. Там, на востоке, война была неизбежна. Японцам жить было тесно, а мы в Корею, под самый нос к ним, забирались. Вот и вспыхнула война. Теперь нет таких комбинаций, да и в войну играть теперь – дело рискованное. Прежде артиллерия да пулеметы разрушение наносили, а теперь снаряды с аэропланов будут бросать, это будет не война, а бойня…
Петров, чтобы остановить разошедшегося оратора, шутливо заговорил:
– Ну, успокойтесь, успокойтесь, патриот и политик, не спорю.
– Ради этого, – сказал давно жаждавший выпивки Глушков, указывая на стол с винами и закусками, – охотно успокоюсь….
Заверткин быстро встал и, тоже указывая на буфетный стол, пригласил выпить и закусить.
Глушков и Петров разом поднялись с мест, а Голосов, помедлив несколько секунд, уловил грустный взгляд жены, горько улыбнулся, махнул рукой, встал и подошел к буфетному столу.
– Не начать ли с коньячку, господа? – спросил Заверткин.
И, не дожидаясь ответа, начал наполнять рюмки.
Протестов не было.
Все взяли рюмки, чокнулись и выпили.
– Икорка чудесная! Пробуйте-ка, господа. Чудесная, – говорил Глушков, с аппетитом прожевывая закуски.
– Да, вкусная икра, – отозвался Заверткин.
– Вчера из Екатеринбурга артельщик привез по заказу…
– Ну, господа, в картишки не пора ли? – предложил вопросительно Петров.
Глушков одобрительно заметил:
– Давно следовало начать. Поздно начинаем.
Но Заверткин возразил:
– Нет, господа, предварительно прошу вас…
И указал рукой на выпивку.
– Это можно, это хорошо, – одобрил Глушков. – Отчего не выпить? Добрые люди между первой и второй не дышат, а мы поговорить успели.
– Нет, очень круто будет, – начал протестовать Голосов.
– Знаете поговорку: первая – колом, а вторая – соколом, – урезонил его Глушков.
И они, чокнувшись рюмками, снова выпили.
VI
От буфетного стола компания перешла к карточному столу.
Глушков разорвал обертки с двух колод карт, ловким взмахом руки рассыпал их по столу полудугой, крапом кверху, и предложил брать карту.
Все взяли по карте, определяющей место за столом каждого партнера, и сели за стол.
Глушков начал тасовать карты и обратился к партнерам;
– Знаете, господа, как нашу игру живописует кухарка Егора Дмитриевича?.. Интеррессно, интересно!..
Петров улыбнулся и сказал:
– Да, это курьезно, господа.
– Раздадут, говорит, карты, – продолжал Глушков, – и сидят и перекликаются: три пик, четыре треф… Потом молча выбрасывают карты на стол. И, как только ни у кого карт на руках не останется, тотчас все разом начинают кричать, спорить, ругаться…
При последних словах Глушков громко захохотал. Смеялись, раскачиваясь на стульях, также и остальные.
Заверткину понравился этот курьез, и он решил рассказать тоже нечто комичное.
– Знаете рабочего, старика Павла Старцева? Такой ядреный старик. Еще в крепостной зависимости работал. С кочергой бегал за приказчиком. Драли его сильно. С ума, говорят, сходил. И теперь он все такой же шалый. Старик крепкий, говорит басом, ругается… Так вот его судил на днях земский. Лесообъездчики взяли его на дороге с двумя кряжами дров. В протоколе по ошибке сказано: «два воза». Земский, конечно, читает, как написан протокол. И вот, как только упомянул «два воза», – Старцев вскочил, глаза с кровью, уставился на земского и ляпнул: «Турусь давай! У меня и лошадь-то одна! Откуда два-то воза?» Земский оторопел. Публика хохочет. Курьез!
И снова все засмеялись.
– Ну-с, приступимте, с легкой руки, – сказал Глушков.
Взяли карты и начали играть.
Во время хода Заверткин несколько раз бил карту Глушкова.
– Ну, Николай Петрович, – кричал потом, смеясь, Глушков, – сказывайте спасибо, что хороший прикуп достался, а то остались бы без двух…
– Спасибо, спасибо! – улыбнулся Заверткин. – Целых две поденщины стоят… Не баранья рожа!
И он опять пригласил всех «воодушевиться», и все встали, выпили и начали закусывать.
Глушков, взглянув в окно, заметил зарево, быстро подошел к окну и с тревогой упавшим голосом сказал:
– Господа, где-то пожар!.. Большое зарево светится…
Все сразу переполошились, бросились к окнам, зашумели и начали выкрикивать:
– Где пожар?
– Что горит?
– Далеко отсюда?
– Это, кажется, начинают гореть заводские дрова, – высказал предположение Заверткин.
– Да, пожалуй, горят дровяные склады, – согласился с ним Глушков.
– Нужно бежать туда. Идемте скорее, господа! – крикнул Заверткин и первый направился к выходу.
Тотчас же за ним последовали сначала Глушков и Голосов, а затем не устоял и Петров.
Остались одни дамы. В гостиной сразу затихло. Но исход пожара интересовал и дам. Они столпились у окна и молча наблюдали за розовым пятном, напоминавшим отблеск зарева на темном ночном небе. Зарево сначала розовело и разрасталось, а затем начало меркнуть и уменьшаться. Постепенно отблеск пожара на небе исчез совсем. И дамы, утратив интерес, отошли от окна, сели к столу и начали разговаривать.
– Я ужасно боюсь пожаров, – говорила Елизавета Ивановна. – Жутко делается, когда зазвонят да свисток заорет. Стала бояться с тех пор, как у нас дом сгорел.
– Я тоже боюсь, – вторила ей Нина Петровна. – Как услышу этот противный свисток, эти протяжные, с перерывами, плачущие звуки, так и в дрожь меня бросает.
Мария Васильевна вставила замечание:
– Пока еще не слышно набата. Зарево померкло. Авось, пожар быстро погасят…
Но ни та, ни другая из дам-подруг не отозвались на ее слова. Она встала, подошла к окну и начала смотреть на темное с редкими звездами небо. В душе у нее вспыхнуло желание немедленно уйти отсюда, уйти чуждой от чуждых людей, но сделать этого она не решалась из-за нареканий на мужа. А подруги-сплетницы в это время вполголоса злословили о ней.
– Я уже слышала это… – говорила Нина Петровна. – Олимпиада Алексеевна маме сказывала…
– Как вы думаете? – спрашивала Елизавета Ивановна. – Правда это?
– Не знаю… Может быть… Юношев – ловкий, хитрый… Муж его знает…
Мария Васильевна обернулась и, желая оказать что-нибудь, не раздумывая, безотчетно произнесла:
– Скучно тянется время. Точно не живешь, а проводишь день за днем, как во сне. Нет у нас общественной жизни. Вот это плохо….
Нина Петровна презрительно взметнула на нее глазами и резко сказала:
– У меня вон четверо ребят, так некогда скучать… Возишься, возишься с ними – дня недостает…
Елизавета Ивановна, поддерживая единомышленницу, таким же тоном отозвалась:
– У меня все время уходит на хозяйство. Везде нужно досмотреть, обо всем позаботиться…
Мария Васильевна молча, не глядя на них, села на стул.
С минуту царило тяжелое молчание.
– Давайте выпьемте еще по чашке чаю, – предложила хозяйка обеим гостьям.
И снова начали, изредка перекидываясь короткими фразами, пить чай.
VII
Врач Петров возвратился первым с пожара.
– Пожар потушен, – сказал он. – Сторожа его заметили раньше нашего и вытребовали пожарных. Я вернулся, не доходя до места пожара.
– Что горело? – опросила Елизавета Ивановна.
– Заводские дрова.
– Где же остальные? – осведомилась Нина Петровна, чувствуя животный страх за мужа, нелюбимого, как она знала, рабочими, которые на пожаре легко могли причинить ему какое-либо зло.
– Сейчас все вернутся, – успокоил ее Петров. Вскоре шумно вошли в комнату Голосов, Глушков и Заверткин.
Сели, кто где мог, и не переставали шуметь.
– Надо завод остановить, – злобно кричал Заверткин, – остановить да проморить всех хорошенько, тогда не будут поджигать.
– Да, черт возьми, пожар мог бы быть здоровенный! – трагически восклицал Глушков.
Мария Васильевна вмешалась в разговор:
– Вы, господа, думаете, что был поджог? Может быть, искру от домны занесло – и дрова загорелись.
– Не может этого быть! – авторитетно возразил Глушков.
– Что же еще, как не поджог? – с горячностью вскричал Завертки. – Ничего другого предположить нельзя. Мстит какой-нибудь мерзавец за штраф или увольнение…
– Дерзкий и грубый народ! – воскликнул Глушков.
– Да, действительно, грубые нравы, – подтвердил Голосов. – Ежедневно в числе амбулаторных больных бывают избитые, израненные. Один приходит с разбитой головой, так что мозг видно, другой – с распоротым животом и вывалившимися внутренностями… И все это делается ведь под хмельком, в такую минуту, когда руки чешутся.
– Удивляюсь, – воскликнул Заверткин, – как это до сих пор полиция не просит в помощь казаков или ингушей! Это славные ребята! Где они – там смирно…
– Это было бы полезно, – подобострастно согласился Глушков. – Теперь у нас драки, стеклобитие, резня… С казаками этого не было бы.
Мария Васильевна, волнуясь, с плохо скрываемым негодованием оказала:
– Нет, господа, этой мерой ничего существенного не достигнется.
– Почему? – спросил у нее муж.
– Потому, что это – грубая сила, потому, что это – паллиатив.
Слова «грубая сила» и «паллиатив» она подчеркнула растянутым произношением.
– Это правда, – вмешался Петров. – В одном конце селения будут стоять казаки, а в другом – может происходить резня. Казаки – паллиатив.
Мария Васильевна, поддерживая опор, горячо продолжала:
– Нужно научить людей уважать себя, научить каждого уважать в другом человека, дать истинное понятие о добре и зле. Образование, воспитание – вот вопросы, около которых стоит биться.
Глушков тоном мудрого человека заявил ей:
– У нас нет школ и учителей, чтобы всех учить. Да все-то и не будут учиться. Укрощать же дикие нравы нужно…
В это время Елизавета Ивановна и Нина Петровна начали бросать в сторону Марии Васильевны иронические взгляды и предательски шептаться.
Она заметила это и, еще больше разгораясь, возразила:
– Прививайте культуру и этим будете укрощать дикие нравы.
Глушков, желая придать больше весу своим словам, от общих рассуждений перешел к фактам.
– Грубость всюду страшная. Вчера, например, сделал замечание рабочему, а он мне ответил дерзостью. Что тут прикажете делать? Вот казачок-то и нужен…
– Да, распущенность ужасная! – подтвердил Заверткин. – Когда объявили свободу, так все – на кого и плюнуть жаль – с флагами ходили, с нами козырем держались, на тачках из цехов вывозили, а теперь, как прижали их, так снова за прежнее ремесло – за пьянство да буянство. Бьют и режут друг друга. И все это творится ведь только ради дебоширства. Бьют за здорово живешь! Другие заводы из-за кризиса закрылись, рабочие по миру пошли, голодают, а наш завод действует, у нас все сыты, пьянствуют, поджигают…
Но Мария Васильевна не сдавалась и продолжала:
– Отчего грубые нравы? От невежества, от невоспитанности. Вот и нужно направлять все силы на борьбу с этим. Нужны школы, спектакли, чтения…
Глушков сделал гримасу и насмешливо возразил:
– Так-то вас и поймут эти чурбаны.
Она с еще большим пылом говорила:
– Не смейтесь… Конечно, поймут. Ведь вы не пробовали еще подать руку этим темным, но зачастую хорошим людям, чтобы так отзываться о них. Они тоже не выродки, а люди как люди.
Глушков хотел свести весь спор на шутку и шутливым тоном сказал:
– Эта миссия не для меня… Мое дело на заводе… Болваночку приготовлять да за болванами наблюдать…
При этих словах, считая свой каламбур остроумным, он громко расхохотался. Начали смеяться также Заверткин и дамы. Но врач Петров вдруг серьезно заговорил:
– Действительно, господа, знание – великая, благодетельная сила. Вы, – обратился он к Глушкову, – сказали сегодня, что японцы в полсотню лет из полудикого состояния превратились в культурную нацию. В чем же секрет такого чудодейственного превращения? Почему мы с вами не идем бить стекла? Это сделало просвещение – великий фактор к облагорожению и возвышению человека. России, пережившей столько зол, нужнее всего просвещение. Мы перешли от абсолютизма к представительному строю. Чтобы упорядочить этот строй, нужна всеобщая культура. Будет свет – будет все. Исчезнут голодовки, эпидемии, создадутся условия лучшей жизни. Теперь о рабочих. Чем культурнее рабочий, тем продуктивнее его труд. И жить легче с культурными рабочими. За границей, на Западе, это опытом доказано.
После этой речи все смутились и замолчали, только Глушков пробормотал:
– Нужен свет, да мрак кругом. И ничего не сделаете…
Заверткин, как бы спохватившись, указал на выпивку и пригласил:
– Господа, заговорились, прошу вас…
– С удовольствием! – откликнулся Глушков. – Во рту сухо стало от полемики с Марией Васильевной.
Подошли к столу, выпили и начали закусывать. Глушков сказал:
– Я, с разрешения хозяина, ввиду большого антракта, повторил бы.
– Отлично, все выпьем, – отозвался Заверткин.
Глушков взял рюмку, отошел на середину комнаты, высоко поднял руку, державшую рюмку, и торжественно проговорил:
– За искоренение поджигателей!
– А я бы другой тост произнесла… – сказала Мария Васильевна.
– Выпьемте, господа, – провозгласил Заверткин, – за хорошее железо, за тех, кто его делает, и за всех присутствующих!
– У-р-р-а! – крикнул неистово Глушков.
– У-р-р-а! – подхватили все остальные и прокричали три раза.
– После тоста нужно еще выпить, – сказал Заверткин.
И снова все выпили.
Петров подошел к столу, где лежала гитара, взял ее, начал брать аккорды и, выверив строй, заиграл польку.
Голосов направился к Елизавете Ивановне, поклонился и пригласил ее на тур. Она встала рядом с ним и положила ему на плечо руку. Он деликатно обхватил ее талию. И они, легко и плавно, выделывая ногами па, закружились по комнате.
Все остальные, весело улыбаясь, наблюдали за ними.
Покружившись минут пять, танцующие остановились, Голосов проводил даму до стула и почтительно отошел.
– Это что! – задорно воскликнул Глушков. – Вот я попробую вспомнить старинку…
И вышел на середину комнаты.
– «Барыню!» – крикнул он Петрову. Гитара загудела веселый плясовой мотив.
Глушков сделал руки в бедра, повел плечами, топнул ногой и пустился в пляску. Сначала он засеменил на носках, мягко шурша о пол, затем прошелся как-то боком-боком, начал делать ногами чудовищные выверты, начал приседать и кружиться. Казалось, что это не человек, а огромный волчок, и, если бы не дробь, отбиваемая подборами по полу, можно было бы подумать, что он носится в воздухе, не касаясь пола. Плясал он долго и, наконец, весь раскрасневшийся, с выступившим на лице потом, сделав несколько приседаний, покружился и сразу в такт музыки остановился.
– Вот, молодец! Ай, молодец! – гудел Заверткин.
Все остальные тоже восторгались и громко выражали одобрение.
Глушков, ни на кого не обращая внимания, махнул рукой, повалился на диван, достал из кармана платок, начал отирать пот и, испустив тяжелый вздох, оказал:
– Стар стал. Не так выходит, как прежде бывало. Ушло время.
И долго комната наполнялась оживленным разговором и раскатами смеха.
VIII
В самый разгар веселья в гостиную вошла горничная с докладом:
– Барин, рабочие пришли.
– Какие рабочие? – спросил Заверткин.
– Дозорный, сторожа и еще один.
– Сейчас выйду.
Горничная ушла.
Заверткин оставался после доклада горничной среди веселящихся гостей еще с полчаса, а затем уже вышел в переднюю к рабочим.
Здесь, при его появлении, дозорный, высокий, с военной выправкой, с большой седой бородой, в желтом пальто, выступил вперед и вкрадчиво доложил:
– Барин, мы Швецова у дров взяли…
– Не у дров, а на дороге, – перебил его, тоже выступая вперед, невзрачный, с лохматой головой, бойкими карими глазами, длинной черной бородой, в синем с опояской армяке рабочий Швецов.
– Как? Швецова? – громко переспросил Заверткин.
– Так точно, – подтвердил дозорный. – Иду я после пожару и вижу – человек на камне сидит. Подхожу – Швецов. Ты, говорю, что делаешь? Ничего, говорит, сижу…
Заверткин круто повернулся и пошел в гостиную.
Здесь он сообщил, что дозорный привел поджигателя. И, довольный, ликующий, снова направился в переднюю.
Глушков стремительно выбежал за ним. Вслед за Глушковым повскакали с мест остальные и тоже пошли в переднюю.
Все они столпились у дверей и внимательно слушали допрос.
– Зачем ты был у дров? – резким тоном допрашивал Заверткин.
– Я, барин, с поля шел, – объяснял Швецов. – Лошадь в поле водил. Вот и узда.
При этих словах он судорожно вынул из-за опояски узду, демонстративно потряс ремнями перед собой и с жаром продолжал оправдываться:
– Вот видите! С поля шел. Сел отдохнуть около дороги, а ваш дозорный да сторожа подошли и взяли меня. У нас, говорят, пожар был. Ступай к управителю. А я и сном дело не знаю.
– Зачем у дров был?
– У дров не был. Напрасно это говорят. На камне около дороги сидел. Если бы знал, что у вас пожар был, так я далеко бы обошел, лишь бы в подозрение не попасть. Сам себе не враг.
– Вы где его взяли?
– У дров сидел.
– Не у дров, а около дороги. Дорога проходит мимо дров. Шел и присел отдохнуть. Чего зря говорить.
– Где вы его взяли?
Дозорный замялся, посмотрел на стоявших сзади него сторожей, упорно молчавших, и нерешительно ответил:
– Сидел.
– У дров сидел?
– Недалеко.
– Спички есть у него?
– Не обыскивали.
Швецов лихорадочно начал развязывать опояску и забормотал:
– Нет ни спичек, ни табаку, хоть обыщите.
Глушков подошел вплотную к Швецову и, грозя пальцем, сердито сказал:
– Ты, молодец, смотри, живо сподобишься в Сибирь!
– Что смотри-то?.. – с раздражением ответил Швецов. – Человек с поля шел, а ваши сторожа поймали и таскают по начальству. Ни в чем не виноват.
– Отведите его к уряднику, – распорядился Заверткин, обращаясь к дозорному.
– Барин, ночь на дворе, а вы человека мучаете! – взмолился Швецов.
– Урядник разберет. Проваливайте! – крикнул Заверткин.
– Вот наказание-то! – воскликнул Швецов.
– Что разговаривать, пойдем! – сказал дозорный.
Дозорный, сторожа и Швецов направились к выходу, а веселящаяся компания возвратилась в гостиную.
– Дело как будто раскрывается, – говорил Заверткин.
– Мы не ошиблись, – вторил Глушков. – Поджог был. Уж это наверно.
Мария Васильевна тоже внесла замечание:
– Вот вы, – сказала она Глушкову, – говорите, что я полемизирую с вами. Но я должна сказать вам, что вы голословны. У вас одно предположение, а улик – никаких. Удивляюсь, как можно ни с того, ни с сего взять человека и водить по начальству, допрашивать… Я бы протестовала самым энергичным образом.
– Не беспокойтесь, – возразил ей Заверткин, – следствие все выяснит… Я отправил его к уряднику, а тот разберется.
– Я сильно подозреваю, – сказал, смеясь, Глушков, – что Мария Васильевна состоит в рабочей партии…
Заверткин его перебил:
– Забудемте, господа, эту неприятную историю. Прошу выпить и закусить.
– Сейчас будет готов ужин, – заявила Елизавета Ивановна.
– Прошу, господа, прошу! – повторил Заверткин.
И снова все начали выпивать.
И веселье их больше ничем не омрачалось.
IX
Через несколько дней после первого посещения Голосовых Юношев вторично пришел к ним. На этот раз он избрал вечерний час. Но самого Голосова опять не застал дома и снова был принят Марией Васильевной.
С большим смущением в душе он переступал порог дома Голосовых, боясь, что Мария Васильевна обижена предложением уехать с ним от мужа, а Олимпиада Алексеевна, если ей удалось подслушать разговор, настроена совсем враждебно к нему.
Но дверь ему открыла прислуга. Олимпиада Алексеевна не показывалась, а Мария Васильевна встретила его чрезвычайно любезно, пригласила в гостиную и, усадив на диван, сама села против него в кресло, стоявшее у преддиванного стола.








