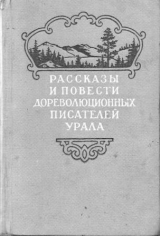
Текст книги "Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала. Том 1"
Автор книги: Константин Носилов
Соавторы: Анна Кирпищикова,Павел Заякин-Уральский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 32 страниц)
Она в момент встречи с ним тоже чувствовала легкое смущение, навеянное воспоминанием о его признании и предложении.
Но после первых же слов взаимного приветствия гнетущее чувство мгновенно покинуло их обоих, и они снова вели беседу непринужденно и искренно.
– Дома ли Иван Ефимович? Я пришел для переговоров об устройстве спектакля. Мы условились с Иваном Ефимовичем.
– Он ждал вас сегодня. Говорил, что будем роли читать. Но его экстренно вызвали в больницу. Обожгло, говорят, рабочего Ковалева…
– Ковалева?.. Как жаль! Сознательный рабочий… И душа у него хорошая…
– Вот как.
– Он – литейщик, начитанный, умный, трезвый. Среди рабочих весьма популярен. Известен под кличкой «Выкладчик». Это значит сочинитель.
– Как сочинитель?
– Случится что-нибудь экстраординарное – он тотчас сложит стихи.
– Вот как.
– Был инженер Иллеро, гуманный, не штрафовал рабочих, и был земский начальник, народник, Акаро, оправдывавший на суде крестьян по протоколам за лесные порубки около пашен и покосов. Ковалев и сочинил стихи:
Инженер Иллеро
Не штрафует ничего,
А судья Акаро
Не карает никого.
Есть у него стихи, где описывается, как добывается в руднике руда, как заготовляются в лесу дрова и уголь, описан весь процесс обработки металла на заводе, и в заключение выражается слава труду… Но я не так бы написал. Все мы живем в заколдованном кругу производства железа и страшно порабощены железом. Промышленность оживляет край и делает его жизнь интенсивной, но заводом расхищается природа, а рабочие калечатся, надрывают силы и здоровье. Железо полезно людям, оно облагодетельствовало мир, но там, где его делают, слышатся стоны, гибнет все – природа, люди…
– Вы – поэт, – сказала Мария Васильевна.
Оба помолчали, отдавшись размышлениям, а затем Юношев снова продолжал:
– Жаль мне Ковалева. Хороший, симпатичный… О рабочих говорят, что это тупой, грубый и развратный класс людей. Это неправда. Среди рабочих много людей, которые умеют понимать, мыслить и чувствовать…
– Конечно, все люди как люди…
– Мы слишком чуждаемся рабочих, и они от нас далеки, то есть в свою очередь чуждаются нас. Хмурыми их делает тяжелый труд, скудный заработок, нужда… Но я знаю, что и они тоже стремятся жить высшими интересами, верит в добро, в справедливость, в людей… И это при том, когда в их жизни столько лишений, нужды и горя!..
Он умолк и внимательно посмотрел ей в глаза, как бы желая заглянуть и в ее душу, а затем робко и тихо сказал:
– Мария Васильевна, позвольте вернуться… к объяснению с вами…
У нее в глазах блеснул огонек, лицо зарделось, она метнула вспыхнувший взор на него и тихо заговорила:
– Я много думала. Ничего хорошего не выйдет. Лучше всего – простая дружба. Я недовольна настоящей жизнью. Но, если брошу мужа и сойдусь с вами, моя жизнь мало изменится. Знаю, что в общежитии всякий мужчина ставит себя в привилегированное положение над женщиной. Терпеть унижение от вас или от другого для меня – безразлично. Если хочешь освободиться, то нужно быть независимым ни от кого.
Юношев выслушал ее с упавшим сердцем, и каждое слово ее речи ложилось камнем на его сердце. Чтобы не выдать себя, он быстро сорвался с места и, протянув руки, смущенно забормотал:
– Надеюсь, вы… поймете… Я был искренен… Понимаете… До свидания!
Она долго пытливо смотрела на него, а он, волнуясь, сжимал ее руку и пятился к двери. Проводив его до передней, она возвратилась, села на диван, где сидел он, и думала:
«Как смутился! Волнуется… Очевидно, любит… Говорит обо всем… Раскрыл всю душу… Чуткий, отзывчивый, хороший!.. Но уйти от мужа и сойтись с ним было бы безрассудно. Если нужна эмансипация, так эмансипация полная!»
X
Было за полночь. В доме Голосовых спать еще не ложились, ожидая возвращения Голосова.
Мария Васильевна, не зажигая лампы, лежала на диване в темной гостиной. Уныние и тоска, как тяжкий груз, давили ей грудь. Вспоминалось светлое прошлое, и, как темная ночь, угнетало настоящее. Хотелось порвать паутину, покинуть удушающую атмосферу и унестись легким облачком к новой жизни и к счастью.
Олимпиада Алексеевна сидела в столовой. Перед ней горела на столе лампа с зеленым абажуром. Она, худая, вся в черном, с повязкой на глазу, вязала чулок, протяжно зевала и бормотала про себя:
– Каждый вечер пропадает… Сиди да жди, а когда придет – неизвестно… Хорошая жена удержала бы мужа дома… Никуда бы не ушел… А наша – кто!.. Ох-хо-хо!
Время тянулось медленно-медленно.
На заводской конторе пробило два часа. Мелодичные звуки небольшого медного колокола дрожащими и плачущими волнами разлились по окрестности. Тотчас в разных концах завода начали раздаваться короткие, как стон, удары сторожей в чугунные доски. Вскоре отбивание часов прекратилось, и вокруг стало мертво и тихо.
И вдруг тишину безмолвного дома прорезали резине трели звонка.
Олимпиада Алексеевна сорвалась с места и засеменила по направлению к передней.
Через минуту она возвратилась в столовую, а вслед, за ней вошел, пошатываясь, пьяный и весь какой-то встрепанный Голосов.
Он грузно опустился на стул и, тяжело отпыхивая, рявкнул:
– Ух!
– Где ты был? Кто тебя так накачал? – опросила его мать.
Он взглянул на нее осовелыми глазами, ухмыльнулся чему-то, поправил усы и заговорил заплетающимся языком:
– Кто накачал? Сделал перевязку больному, которого обожгло, и ушел играть в карты. Мне страшно везло сегодня. Прошлый раз проиграл сто рублей, а сегодня воротил их. Ух, как везло! Говорят: «Кто несчастлив в любви, тому везет в карты». Правильно, мама, это? Юношев был? Долго сидел?
Олимпиада Алексеевна окинула его презрительным взглядом и как бы нехотя ответила:
– Долго…
Но затем поспешно вполголоса заговорила:
– Он всегда подолгу сидит… Разговоры какие-то все. Говорю тебе, а ты не слушаешь… На порог бы его не пустила.
Голосов зачмокал губами, криво усмехнулся, потер лоб и оказал:
– Мама, Елизавета Ивановна спрашивает: почему Мария Васильевна дома сидит? Я говорю: сегодня к нам пришел Юношев, предполагали роли читать, но меня экстренно вызвали в больницу, а из больницы я домой уже не заходил. Она протянула: гм-м!.. Но как, мама, она это «гм-м» произнесла! Мне неловко стало… Мама, неужели?..
– Что неужели?!. Говорю тебе, что не принимай его…
В столовую вошла Мария Васильевна. Ее удивленный взор встретился с осовелым и злобным взглядом Голосова. Она вздрогнула, сделала шаг назад и тихо оказала:
– Что это такое? Где это ты, Ваня, так…
Голосов взметнул на нее свирепыми стеклянными глазами, ударил кулаком по столу и, сжимая кулаки, начал приподыматься и дико крикнул:
– Молчать! Вон отсюда! Вон, дрянь!
Мария Васильевна, с полными слез глазами, круто повернулась и почти бегом скрылась из столовой.
– Полно! Надо трезвому… Брось! – наставительно сказала Олимпиада Алексеевна. – Ступай-ка лучше спать…
– Мама, я не пьян… Нет, не пьян! Мама, уйди от меня. Иди спать, иди!..
– И уйду… Ложись сам-то… Проспись…
При этих словах Олимпиада Алексеевна поспешно вышла из столовой.
Голосов потер лоб, сжал кулак и, грозя им в воздухе, пробормотал:
– Управительша… говорит… дает понять.
И, плюнув злобно на пол, встал и нетвердой походкой направился в спальню.
Мария Васильевна в это время стояла у окна в темной гостиной и мысленно решала грозный роковой вопрос.
«Какая мерзость! – думала она, утирая обильно катившиеся из глаз слезы. – Сердце разрывается… Что делать? Нет, больше так жить нельзя! Уйду. Пошла сплетня… Нелепая, глупая… Глупая, как все здесь… Да что! В этой яме только и жди… Здесь одна грязь… Кругом – пьяные, глупые, подлые… Бежать отсюда! Бежать немедленно!»
Она тихо пошла в слабо освещенную ночником спальню. Голосов лежал на кровати, не раздетый, с закрытыми глазами. Торопливо и осторожно, стараясь не потревожить его, она взяла со стола часы, ридикюль, альбом с фотографиями и, открыв гардероб, хотела захватить еще некоторые принадлежности туалета. Голосов закашлял, открыл глаза и, увидев ее, начал подниматься с кровати. Она опрометью кинулась из комнаты в переднюю, схватила на ходу пальто и, хлопнув дверью, мгновенно очутилась на улице.
Голосов с матерью долго ходили по комнатам и осматривали все углы, под столами и диванами.
– Мария!.. Мария!.. – кричал Голосов.
– Она ушла, – говорила ему мать.
– Ушла! Куда ушла? Нет, она дома!
И снова начинался осмотр комнат.
Олимпиада Алексеевна в конце концов разгневанно крикнула:
– Она ушла… Но никуда не девается – придет. Тогда поговоришь с ней, как следует…
Произнеся последние слова угрожающим Марии Васильевне тоном, она ушла спать, а Голосов долго еще ходил по комнатам и все твердил про себя:
– Она ушла! Хорошо сделала! Ушла, и отлично!
Злоба к жене и обида, нанесенная ею, жгли его грудь. В пьяной голове у него снова явилась мысль о самоубийстве. Вспыхнув теперь в отравленном мозгу, она уже не испугала его, а навеяла соблазнительную для больного воображения картину грядущих событий. Жена ушла, чтобы оскорбить его, навлечь насмешки со стороны знакомых, унизить его в их глазах… Все скажут, что уходят не от пирогов, а от батогов. Но дело примет другой оборот, когда найдут его мертвым. Жена поймет тогда, что он любил ее, что ему была тяжела разлука с ней и он не вынес и отравился. Она будет жалеть, будет страдать и плакать. Знакомые тоже будут жалеть его и схоронят его с большой торжественностью. Жить ему все равно будет тяжело. Жена, если верить молве, изменила и ушла. Он опустился, спился и, пожалуй, скоро будет настоящим алкоголиком. Нет, чем так жить, лучше умереть!
И он, пошатываясь, подошел к шкафу, где была домашняя аптечка, открыл дверцу шкафа, взял с полки маленькую коробочку, трясущимися руками снял крышку, достал порошок, поставил, не закрывая, коробочку обратно на полку, возвратился с порошком к столу, всыпал его в рюмку с водкой и поставил рюмку на стол: перед собой.
– Вот приму – и готово!
Ночь уходила. Начинался рассвет. Первые лучи зари розовым отблеском отражались на стеклах окон. В доме становилось светло. Голосов, потрясенный и обессилевший, все еще сидел в столовой, в голове у него путались обрывки пьяных мыслей, а округлившиеся стеклянные глаза его ежеминутно закрывались отяжелевшими веками.
Ведя неправильную жизнь, никогда не задумываясь серьезно о том, в чем истинный смысл жизни, утратив в угаре похмелья правильный взгляд на жизнь, как на высшее, даруемое природой благо, он разрешил вопрос о жизни так, как пришло в голову пьяному. И вот, мучимый чувством злобы и обиды, он тупо глядел в рюмку с отравой и тихо бормотал:
– Ушла! Пусть! Выпью – и готово! Пусть!
И, протянув дрожавшую руку к рюмке, вылил в рот смертоносную жидкость и, глотая отраву, шептал:
– Теперь усну!.. Крепко усну!..
Сначала ему казалось, что сам он и все, что было вокруг него, куда-то поплыло. И это было ему приятно. Но вскоре затем он почувствовал боль в груди, и распухшее от большой дозы выпитой водки лицо его исказилось мукой.
– Ах, что-то кольнуло! – крикнул он. – Пусть! Крепко усну!
И это были его последние слова.
Вскоре с ним начались судороги, и он, хватаясь руками за грудь, повалился на пол.
В доме все спали.
А Мария Васильевна, выйдя из дома, очутившись на улице в объятиях теплой летней ночи, шла по сонному селению, робко осматриваясь кругом. Предутренняя свежесть приятно веяла с полей. Черные дома слепо смотрели темными очами – окнами. На окраине гудел и дымился завод. Над прудом от похолодевшей воды поднимался, как кисейная ткань, молочно-белый туман. Со станции железной дороги доносились визгливые свистки маневрировавшего паровоза. Окончилось селение, и она быстро зашагала по дороге, ведущей на станцию, и чем дальше уходила от своего дома, тем легче становилось у нее на душе.
«Три года жила в этом омуте! – думала она. – Боже, сколько пережито!.. И зачем жизнь дарит такие сюрпризы?.. Через час – на станции, а завтра – у брата… Там все устроим… Сюда никогда… никогда не вернусь!.. Заря разгоралась все ярче и ярче, охватив пожаром полнеба, когда со станции отходил поезд, в котором уезжала Мария Васильевна. Свисток паровоза пронзительно и торжествующе ухал. И отъезжавшей Марии Васильевне слышалось в этом бешеном крике:
– К жизни! К свету!..
XI
Завод был взволнован самоубийством Голосова и внезапным отъездом в роковую ночь его жены. Всяких толков и пересудов в всколыхнувшемся болоте было много.
Олимпиада Алексеевна, не предвидевшая такой трагической развязки своей интриги, растерялась и, убитая горем, причитала:
– Прогневался бог! Наложил на себя, милый сын, рученьки! Смутил его дьявол!
На вопросы любопытствующих об отсутствии Марии Васильевны она уклончиво отвечала:
– Уехала куда-то… бог ее знает…
– На похороны-то приедет?
– Ничего не знаю… Прогневался бог… Согрешили перед создателем…
Злая и сварливая старуха, пришибленная разразившимся над ее головой несчастьем, ударилась в ханжество, тяжело вздыхала и приносила покаяние.
Через несколько дней после освидетельствования и вскрытия тело Голосова было опущено в могилу. Устроенные на заводский счет похороны отличались пышностью и многолюдством. Гроб от квартиры до церкви, где служилась заупокойная обедня и совершалось отпевание, и от церкви до могилы несли на руках служащие. От заводской интеллигенции был возложен на гроб металлический венок с надписью: «Все будем там, дорогой товарищ!» Олимпиада Алексеевна шла в толпе за гробом и громко жаловалась на свою судьбу раздирающим душу речитативом. Толпа выражала ей соболезнование и злословила про Марию Васильевну, не прибывшую на похороны и бесследно исчезнувшую с заводского горизонта.
Юношев в день похорон Голосова находился на заводе, заменяя Глушкова и Заверткина, отдававших последний долг трагически скончавшемуся партнеру и собутыльнику.
Этому обстоятельству Юношев был рад: ему удалось избежать участия в скучной церемонии, а также избавиться, если бы он присутствовал на похоронах, от двусмысленных взглядов недоброжелателей, пустивших молву об его романе.
Завод дымился и гудел. В отверстиях огромных печей выбрасывались яркие языки пламени. Гулкие удары молотов потрясали воздух. Сыпался огненный дождь от нагретых кусков железа во время обжимки их под молотами или прокатки в валах.
Юношев спокойно прохаживался по заводу, холодно и деловито осматривая вырабатываемые продукты, отдавал распоряжения рабочим, наблюдал за манометрами у паровых котлов, показывающими давление пара, и записывал результаты работы.
Так переходил он из отделения в отделение и из корпуса в корпус.
Работа на заводе до полудня шла обычным порядком, и не было никаких приключений.
После полудня, когда Юношев находился в кирпичной фабрике, где женщины-кирпичницы сушили глину и песок, приготовляли замятки и прессовали огнеупорный кирпич, в толчейной машине случилась поломка чугунной шестерни.
Заметив нарушившуюся регулярность в работе машины, он приказал ее остановить, осмотрел механизм, нашел повреждение нескольких зубьев и, объяснив причину этого свойством чугуна, отдал нужные распоряжения и спокойно удалился.
Но этот самый ординарный случай в заводской жизни, неожиданно для Юношева, привел его к крупному конфликту с Глушковым.
Глушков, явившись на завод, заподозрил в поломке машины злой умысел работниц и объявил всем им штраф. Работницы обратились за покровительством к Юношеву. И он, немедленно разыскав на заводе Глушкова, вступил с ним в объяснение.
Долго спорили они о причинах, вызвавших поломку шестерни, и никак не могли придти к соглашению.
– Если вы не отмените штраф кирпичницам, то я отказываюсь от службы, – заявил разволновавшийся Юношев.
Глушков тайно порадовался этому и, чтобы сильнее разозлить Юношева, иронически воскликнул:
– Что это вы выдумали? Если вы уйдете, то мы теряем весь цвет нашей интеллигенции. Это обидно: один – отравился, другая – уехала, третий – уходит…
Юношев вспыхнул негодованием и злобно крикнул:
– Что вы смеетесь! Прошу без оскорблений!
Глушков улыбнулся и тем же тоном возразил:
– Я серьезно… Мне жаль, если вы…
Но он не успев докончить фразу, почувствовал, как ему, точно тисками, сдавили горло.
Юношев, мгновенно подскочив к Глушкову, схватил его за ворот, крепко сжал шею и, двигая руками, начал трясти его, но, видя огромные, полные животного ужаса, безумные глаза, вдруг с силой оттолкнул его, и огромное тело грохнулось на пол.
Группа рабочих, свидетелей события, ринулась в разные стороны, и когда Глушков встал на ноги, то около него уже не было ни Юношева, ни рабочих.
И он, пугливо озираясь, отправился в контору к Заверткину, чтобы доложить ему о случившемся.
Юношев немедленно ушел из завода на квартиру. Он еще дорогой раскаялся в душе, что сильно погорячился, но не жалел о нанесении оскорбления Глушкову. И сколько затем он ни размышлял, но приходил к одному решению, что ему оставаться на заводе больше не следует. Глушков и Заверткин после этого инцидента обратятся в непримиримых врагов. Начнется травля. Будут травить на всяком шагу, не брезгуя никакими мелочами и средствами. Придется уйти, может быть, с крупным скандалом. Чем ожидать худшего, лучше уйти теперь.
Он решил немедленно уехать.
Поздно вечером, когда Юношев уложил дорожный чемодан и уже лег в кровать, постучали в дверь его комнаты.
– Кто там?
– Урядник.
– Что нужно?
– Экстренное дело.
Юношев встал и, не одеваясь, открыл дверь.
Урядник гигантского роста, с лоснящимся бритым лицом и закрученными усами, в серой шинели, при шашке и револьвере, с портфелем в руках и несколько стражников, вооруженных с ног до головы, заняли комнату.
Вслед за ними вошла с лампой в трясущихся руках перепугавшаяся квартирная хозяйка, высокая женщина, с широким морщинистым лицом, одетая в черное платье.
Юношев сел на кровать, накинул на себя одеяло и вызывающе обратился к уряднику:
– Обыск делать?
– Приказание получил.
– Жаль, что поздновато! Если бы часом раньше, так было бы удобнее. Только что чемодан сложил.
Урядник беспомощно развел руками, оглядел комнату, потрогал лежавший на полу чемодан и оказал:
– Что тут искать? все у вас на виду.
Юношев улыбнулся и оказал:
– Дело ваше, но я бомб не изготовляю, денег не подделываю, прокламаций не пишу…
– Мы протокол все-таки должны составить, – сказал урядник.
После этого он разделся, вынул из портфеля бумагу, сел к столу и начал, скрипя пером, писать.
Стражники молча переминались с ноги на ногу и смотрели то на урядника, нагнувшегося над столом, то на Юношева, сидевшего на кровати в задумчивой позе.
– Подпишите, – сказал урядник, окончив составление протокола.
– Слушаю, – ответил Юношев.
Он механически, не читая, подписал протокол.
Урядник, извинившись перед Юношевым за беспокойство, подал ему на прощание руку и вышел, а вслед за урядником, громко топая ногами, удалились и стражники.
Хозяйка квартиры, проводив нежданных посетителей, долго вздыхала и охала за стеной, а Юношев, лежал и думал:
«Вот когда обнажилась вся их душа! Не могут ничем сами отомстить, так к полиции обратились! Эх вы, мелкие душонки!»
Ночью Юношев спал плохо. Короткая летняя ночь была не менее светла, чем в хмурый осенний день. Свет мешал спать, да и расстроенные нервы долго не могли успокоиться.
Утром, когда он крепко уснул, его разбудили стуком в дверь.
Оказалось, что ямщик подал ему лошадей, заказанных еще с вечера, чтобы поехать на станцию железной дороги.
Он встал, торопливо умылся и оделся, а затем позвал ямщика вынести вещи.
Молодой ямщик, в коротком пальто, белом переднике, в фуражке набекрень, вынес и уложил в экипаж связанный ремнями чемодан и несколько пузатых узлов и свертков.
Хозяйка квартиры вздыхала и охала за стеной, ожидая, когда войдет к ней уезжающий квартирант.
– Ну, желаю всего хорошего!.. Чем обидел – забудьте. Лихом не поминайте!
– Жаль вас будет всем тут, да что станешь делать: плетью обуха не перешибешь! – сказала хозяйка и заплакала.
Юношеву стало тяжело, он круто повернулся, вышел на двор, сел в ожидавший его коробок и приказал ямщику выезжать.
Пара резвых лошадей, в наборной сбруе, весело звеня бубенчиками и колокольчиками, как на крыльях, понесла его из завода.
Юношев с грустью глядел в последний раз на маленькие пестрые домики, на спокойный, как огромное зеркало, пруд и на дымившиеся заводские трубы.
Вспомнилось ему, как два года назад приехал он в этот, покидаемый теперь, глухой и невзрачный завод, какие завязывались здесь знакомства, как проводил дни и ночи на заводе, как страдал от сознания одиночества в глуши и хотел разбудить «уснувших в тьме глубокой». В воображении мелькнуло несколько приятных лиц, и среди них встал в светлом ореоле обожания симпатичный образ Марии Васильевны. И ему вдруг стало радостно, радостно, потому, что, как она, так и он, не застряли в этой трясине. Кто знает, может быть, еще встретятся…
– Это хорошо, это хорошо, – повторял он мысленно.
А колокольчики у дуги весело звенели и рассказывали ему приятную сказку о новой жизни.
XII
Ровно через две недели после отъезда Юношева на завод одновременно прибыло двое новых служащих: фельдшер Родион Семенович Козлов и техник Исак Исакович Пупков.
В день их приезда вечером у Глушшва собрались гости. Здесь были супруги Заверткины, врач Петров и еще двое конторских служащих. Сюда же были приглашены и вновь прибывшие Козлов и Пупков.
Каждое новое лицо в провинции возбуждает в ее аборигенах большой интерес и приковывает к себе всеобщее внимание. Если его появление было желательно, обращаются с ним мягче и деликатнее, чем принято в обычной жизни, и выказывают к нему расположение. В то же время, подстрекаемые любопытством, стараются выведать о нем возможно больше, чтобы затем, в силу добытых данных и собственного анализа их, отвести ему подобающее место в жизни.
Оба вновь прибывшие среди гостей Глушкова долго были центром внимания. Их буквально забрасывали перекрестными вопросами. Даже чопорная управительша осведомилась об их семейном положении.
Сначала гости, беседуя, угощались чаем в столовой, а затем компания перешла в зал. Здесь была выставлена на столе выпивка и закуска и был уже приготовлен карточный стол. Но винтеры играть не спешили. Причиной такого настроения были новые гости.
Козлов и Пупков произвели на всех самое благоприятное впечатление. Обитатели трясины видели в них именно таких людей, которые были нужны и могут нравиться им.
Козлов был маленький, чрезвычайно юркий, с длинным скуластым лицом и хитрыми узкими глазами, очень часто хихикавший и забавно трясущий маленькой черной бородкой. Когда с ним говорил управитель или врач, то он почтительно вытягивал шею, был весь внимание и подобострастно кивал головой.
Пупков отличался необыкновенной полнотой, был флегматик, с тупым брюзглым лицом, обросшим неровными клочьями черной бороды, говорил мало, но иногда отпускал острые словца.
Из расспросов выяснилось, что оба они играют в карты, выпивают и любят в этом смысле общественную жизнь. Все их поведение не оставляло никаких сомнений в полном их слиянии впоследствии с окружающими.
Глушков ходил по шумному залу петушком. Он ликовал, что избавился от неприятного сослуживца Юношева, приобретя, повидимому, в новом технике союзника. И у него в голове засела мысль отомстить Юношеву за обиду насмешкой, хотя и заочной.
Улучив момент после того, как Заверткин рассказал, что судебный следователь распорядился освободить арестованного урядником по подозрению в поджоге заводских дров рабочего Швецова и направил к прекращению по недостатку улик возбужденное о нем дело, Глушков с явным злорадством заявил:
– А я имею вести о другом нашем герое, достопочтенном Александре Гавриловиче Юношеве.
– Какие? – спросил Заверткин.
– В литературу пустился. За полной его подписью напечатана в газете «Песня о железе». Море ума и чувств! Не хотите ли послушать?
И он, не дожидаясь ответа, быстро достал из кармана номер газеты и начал громко читать.
Песня начиналась описанием нетронутых красот Урала, пока еще нога человека не проложила следа через горы, леса и ущелья. Но вот пришел человек, приведший за собою рабов, и дрогнул старый Урал от ударов в его грудь. Прошли годы, люди разбрелись по лесам и горам, за работой слышались песни тоски и неволи. Прошли еще годы, в горах закричали свистки паровозов, к небу вместо гигантских сосен и лиственниц стали вздыматься вершинами заводские и фабричные трубы. Человек стал властелином всех гор, рек, озер и лесов, начал перековывать горы в железо и сталь. Промышленность быстрым темпом пошла вперед. Человек торжествовал, но природа разрушалась и гибла. Заканчивалась песня грустным аккордом: «Все будет подвергнуто разрушению, все погубит людская, неразборчивая жадность. О, как будет человек искать эти горы, леса и озера, когда их не будет!»
Глушков умолк и торжествующе посмотрел вокруг,
– Красиво написано, – оказал Петров.
Лицо Глушкова вспыхнуло злобой, и он с нескрываемым раздражением, сильно жестикулируя, начал кричать:
– Не нахожу, чтобы это было красиво. Жалкие словеса! Разве умно жалеть о том, что в лесу стало меньше волков? Разве не культуру несет промышленность, когда на болотах и в дремучих лесах создаются целые городки? Разве не прогресс иметь школу и больницу? Все это появилось только благодаря заводу. Человек может и должен эксплуатировать природу. Нет, ерунду пишут и печатают такие литераторы, как наш достопочтенный Юношев!
Все немного помолчали.
– Писака! – с презрением твердо отчеканил Пупков. – Это было нисколько не смешно, но почему-то все засмеялись.
Затем Глушков, спадая, с повышенного тона, пригласил гостей к буфетному столу. Так приняла трясина новичков в свои темные недра.
1911
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по публикации в газете «Уральская жизнь», 1911, 11, 14, 18, 25 сентября, 1 и 6 октября с исправлениями, внесенными писателем. Вырезки из газеты с авторской правкой хранятся в Свердловском областном краеведческом музее.
notes
Примечания
1
Автодидакт – человек, получивший знания путем самообразования, самоучка.
Переселенцы
I
Без меры в ширину, без конца в длину тянутся дремучие верхотурские леса, шумят зеленокудрыми вершинами и, как сказочные богатыри, охраняют от холодного дыхания севера изредка разбросанные, затерявшиеся в горах и лесах малые и большие поселки и деревни, бедные и богатые заводы.
Чиж и Юрла – переселенцы из Подолья, где черноземная и плодородная полоса принадлежит помещикам и где тучными нивами и фруктовыми садами владеют только магнаты, а простые хлеборобы всю жизнь влачат в батраках у них, – долго стремились на «новые места», в этот благодатный уральский край.
Он рисовался им таким богатым и привольным, каким они увидели его, когда начал близиться конец их бесчисленным, как мытарства, этапам и когда в тусклом и маленьком окне битком набитого вагона с надписью «40 человек – 8 лошадей» замелькали горы и леса в синей дымке.
Изможденные долгим путем, голодные и оборванные, окруженные такими же жалкими и несчастными, в убогих рубищах, женами и детьми, они забывали пережитые страдания, и хотя в волосах у них проступала седина, но в тусклых глазах вспыхивал огонек чисто детского восторга и порой на ресницах блестели слезы.
Чиж целыми часами стоял на скамье у окна, гладя всклоченную рыжеватую бороду и прислушиваясь к мерному громыханию поезда, впивался жадным взором в ежеминутно менявшуюся панораму красивой гористой местности, а Юрла брал на руки трехлетнего чумазого исхудалого сына, подносил его к окну и, вспоминая рассказ об этом крае ходока-переселенца, начинал улыбаться и мечтать вслух:
– Вот, Егорушка, на новую родину едем… Смотри, какие горы, какой лес, какие поля. Помнишь, что Петр-Исаич, который ходоком был, рассказывал. Первое занятие здесь – охота. Птица разная боровая… белки, медведи… Бей, сколько хочешь, только собаку имей такую, чтобы за хозяина заступалась и зверю ходу не давала… Здесь есть такие сосны, что под корень ее двоим не обхватить, ствол прямой, чистый, без единого сучочка, желтый, как свечка, а вершина в самое небо упёрлась. Отойдешь от такого дерева шагов на сто, поднимешь голову, чтобы на вершину взглянуть, и видишь – на самой вершине белка сидит и хвост, как вехоть, распустила. Из такой сосны три бревна выходит, а из вершины – жердь, да такая, что на конюшенную стену годится…
Чиж слушал и от умиления кивал головой, а поощренный этим Юрла горячо продолжал:
– Второе дело – рыболовство. В горах есть большие озера, глубиной аршин по десять, а вода такая чистая, что все дно видно, и видно, как рыба плавает. Большим неводом сразу сотни пудов достают. Пропитание на целый год… Ну, а расчистить пашню и покос да купить лошадку и коровушку, так век живи без нужды и горя… Молоко будет, Егорушка, каждый день… А случай какой – бери лопату, рой землю, добывай золото… Или на фабрику иди – тоже себя и семью прокормишь без горя…
Чиж вскидывал на Юрлу влажные глаза и снова кивал одобрительно головой, а Юрла умолкал, прижимал к груди Егорушку, весело улыбавшегося, и, помолчав, опять начинал речь о хорошем будущем.
II
Вечером поезд остановился у большой станции, загроможденной вагонами, со множеством путей и огнями семафоров.
Все переселенцы знали, что близок конец их долгому путешествию, но никто из них не знал, мимо каких станций проползли, где делали остановки, на какой станции теперь стоит поезд, придется ли ехать дальше, или путешествие окончилось и нужно выходить. Железнодорожное начальство в лице кондукторов, проходя мимо вагонов, на все расспросы переселенцев, желавших разъяснить томившие их вопросы, отвечало надменным молчанием или грубо бранилось:
– Сидите, дьяволы, в своем телятнике. Везут вас – и ладно… Какого черта надо. Привезут куда следует, так всех выбросят…
И затем сыпалась отвратительная брань, и они всё безмолвно сносили, сидели в своем «телятнике», почти задыхаясь от духоты и тесноты, и терпеливо ожидали конца утомительного и изнурительного, как египетская пытка, переезда.








