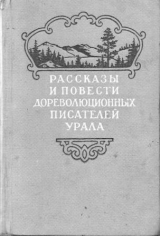
Текст книги "Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала. Том 1"
Автор книги: Константин Носилов
Соавторы: Анна Кирпищикова,Павел Заякин-Уральский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц)
Возвращаясь с работы, он зашел к Рясову и узнал от его жены, что младенец родился чуть живой, что бабушка, не будь плоха, завернула его в лоскутину и тотчас же понесла к попу, где его и окрестили, пока еще был жив, что после крещения он дышал еще с полчаса, что теперь он уж обряжен и лежит на столе, что Наталья очень плоха и все боится, что отец придет и станет бить ее. В заключение Григорьевна, так звали жену Рясова, предложила Набатову пообедать у них и отдохнуть.
В ответ на это Набатов только тяжело вздохнул, сел на лавку и долго сидел молча, погруженный в глубокую думу.
Только когда Григорьевна стала собирать на стол для Набатова, он как будто очнулся.
– Не надо, – сказал он, вставая, – я есть не хочу, – и пошел из избы, нахлобучив шапку на глаза.
В ограде он встретился с Рясовым, тот опять стал его звать в избу, но Набатов отказался и пошел домой. Дома он в избу не пошел, а сел на нижних ступеньках лестницы и задумался. Он не заметил поклона старухи-повитушки, хлопотавшей по хозяйству и уже несколько раз прошедшей мимо него. Тяжело налегло горе на гордую душу Набатова, и не видел он возможности освободиться от него. Кроме того, что Набатов крепко любил свою дочь, он страдал еще и от других причин. Недаром он слыл гордецом, и во всем Куморе не имел ни одного искренне расположенного к нему человека, кроме добродушного силача Рясова. Набатов действительно был и самолюбив, и горд. Презирая в душе класс служителей[5], пользовавшийся такими громадными преимуществами перед мастеровыми, он отдал бы полжизни, чтобы самому попасть в этот класс, и если уж это было невозможно, то хоть выдать дочь за служителя. Но этому его желанию теперь не было никакой возможности осуществиться. Примеры, когда кто-либо из класса служителей женился на дочери мастерового, бывали очень редки, да и то только в таком случае, если за невестой давались в приданое деньги. Правда, у Набатова в сундучке под лавкой хранилось рублей триста ассигнациями – сумма по тогдашнему курсу на деньги довольно значительная, но все же этого было бы достаточно в том только случае, если бы Наталья не опозорила себя и отца. После же этого позора не было никакой возможности рассчитывать на жениха для Натальи из служительского класса, и Набатов горько вздыхал и проклинал свою злую долю.
Бабушка-повитушка, несколько раз проходившая мимо Набатова, все поглядывала на него, желая, но не решаясь заговорить с ним. Наконец, она не вытерпела и сказала:
– Грех тебе, Сергей Ларионыч, девку ты свою уходил до полусмерти, уродом сделал.
Набатов молчал. Его гнев на Наталью прошел, и место его заступило чувство жалости, страха и угрызений совести за безвинно пострадавшего младенца.
– Ну да, что об этом убиваться, прошлого не воротишь, – заговорила опять старуха. – Ступай-ка лучше в избу да поешь и отдохни маленько. Надо ведь заказать гроб, ребенка-то завтра хоронить надо.
На этот раз Набатов поднял голову и поглядел на старуху.
– Гроб делать? – спросил он. Старуха рассердилась.
– Да ведь не без гроба же ты его в могилу-то свалишь! Хоша и найденыш он, одначе не щенок же, душа, поди, в нем такая же, как и у тебя! – сердито заговорила старуха.
Набатов быстро встал.
– Я пойду закажу гроб делать, – сказал он и пошел к воротам.
Старуха озлилась еще пуще и плюнула ему вслед.
– Да хоша бы пообедал, хоша бы слово какое путное сказал, – ворчала она, поднимаясь на лестницу. – То словно дерево какое, – не расспросил, не рассказал, так и ушел, тут хошь что без него делай.
Перед вечером уж воротился Набатов домой и принес подмышкой крошечный гробик. Он не вошел в избу, а поставил гробик на крыльце и, постояв тут с минуту, повернулся и опять вышел из дому. На этот раз он пошел к Рясову, где и просидел до вечера, а вечером, поужинав вместе с Рясовым и не заходя домой, ушел в кричную работать. Но эту ночь Набатов работал уже далеко не с таким усердием, как прошлую, он чувствовал сильное утомление, часто садился отдыхать и тяжело вздыхал. Утром, только сменившись с очереди, Набатов торопливо пошел домой; ему предстояла тяжелая обязанность хоронить своего внучка. Но как он ни торопился, а шел медленной, неровной походкой, ноги отказывались идти с прежней скоростью.
Войдя в свою избу, он изнеможенно опустился на лавку, стараясь не глядеть на крошечное мертвое тело, лежавшее на столе.
– Что, милый, пристал? – обратилась к нему старуха, на этот раз с участием. – Отдохнуть бы надо тебе, да некогда: вишь, поп уж в церковь пошел, надо и тебе идти.
– Что ж, ладь младенца, а я сейчас, – сказал Набатов и стал вынимать из ящика медные деньги.
Старуха принялась приготовлять гробик, устилая дно его белыми тряпицами и продолжая выражать Набатову свое сожаление о том, что ему некогда отдохнуть. Она положила младенца в гробик, закрыла его крышкой и, сказав:– Теперь совсем готово, неси в церковь, – подошла к Набатову и, посмотрев на него, прибавила:
– Хошь бы умылся ты, ведь лица-то у тебя совсем не знать, – весь ты в саже. Ужо после в баню сходи помойся, я про Наталью баню истопила, хочу ее попарить, не даст ли бог лучше.
Набатов заторопился, засунул деньги за пазуху и взял гробик подмышку.
– Да ты хоть запон-то сними, да накинь зипун, – все бы лучше было, а то так и пошел весь в саже, – опять заговорила старуха, идя вслед за Набатовым, выходившим из избы.
Он остановился, поглядел на свою покрытую сажей одежду, сказал: «Ладно и так», – и торопливо сошел с крыльца.
По дороге в церковь ему встретился Савелий, шедший домой с конюшни.
– Чьего это ты хоронишь? – спросил он, здороваясь с Набатовым.
– Своего, – пробормотал тот, не глядя на него и не останавливаясь.
Савелий удивился и, остановившись на дороге, глядел ему вслед.
Поравнявшись с домом Рясова и увидев выходящую Григорьевну, Савелий указал рукой на удаляющегося Набатова и спросил:
– Чьего это он хоронит?
– Да Наташкина, – ответила она, остановившись. – Вчера утром бог дал, а сегодня, вишь, он уж и хоронить поспел. Сама-то Наташка в худых душах. Иду к ним пособить бабушке-то, хочу стаскать ее в баню.
– Эка напасть какая! – дивился Савелий, хлопая руками. – Девка была смирная, ничего худого не слыхать было, а вот что случилось. Чать, Набатов зол на нее?
– И не приведи бог, избил до полусмерти, оттого, надо быть, и младенец-то помер, – ответила Григорьевна.
– Ну и слава богу, что помер, по крайности на глазах нету, – рассудил Савелий и пошел своей дорогой.
Схоронив ребенка, Набатов возвратился домой и сел на крыльцо. Когда в церкви поп велел ему поцеловать маленькое посиневшее личико, Набатов почувствовал припадок сильнейшего горя, смешанного с каким-то невольным страхом, и, застонав, опустился на колени возле гробика. Крупные слезы покатились по его лицу. И теперь он опять плакал, утирая слезы кулаками и размазывая сажу на лице. Он снял свой кожаный запон и лапти с баклушами и сидел в одной рубахе, облокотившись руками на колени и положив на них свою голову, в которой за две последние ночи заметно прибыло седых волос. Пока он сидел на крыльце, Наталью мыли в бане. Там она страшно ослабела и не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. В баню Григорьевна стащила ее за плечами, но назад она могла донести только до крыльца.
– Не поднять ведь мне ее одной-то! – проговорила она, задыхаясь и опуская Наталью на пол.
Набатов быстро встал.
– Не умерла ли она? – спросил он, испугавшись и поспешно сходя с лестницы.
– Нет, жива, угорела только, – ответила ему старуха. – Пособи-ка бабе-то. Да подымите ее на крыльцо, – добавила она, махнув рукой на Григорьевну, наклонившуюся к Наталье.
Набатов взял Наталью на руки и унес в избу. Когда он положил ее на постель, платок, закрывавший ей голову, упал, и Набатов увидел мертвенно-бледное лицо своей дочери. Губы у нее посинели, растрескались и чуть пропускали слабые, едва заметные вздохи; у угла губ с левой стороны и под правым глазом были большие синяки. Жалость и страх заставили Набатова задрожать всем телом, ноги под ним подогнулись, он опустил голову и громко зарыдал.
– Взяла же тебя жалость-то, – заговорила старуха, подходя к постели и укрывая Наталью. – Вишь, как ты ее хорошо устряпал, небось, самому страшно стало. А еще то ли будет, как и ее в могилку свалим! Ведь два душегубства на твоей совести будет. Ох, грехи наши тяжкие; – ворчала старуха без всякого сострадания к Набатову.
– Зверь я, а не человек, – проговорил он, тяжело поднимаясь с коленей. – Не мог совладать со своим сердцем.
И медленно, шатаясь, вышел он из избы и без сил свалился в углу сеней.
IX
Прошло с неделю. Марянка все ждала случая подкараулить Груню, зорко следя за ней, и случай этот скоро представился. Однажды к яме Груни подбежал Гриша; заметив, что Марянка смотрит на него из своей ямы, обошел кругом и стал к ней спиной. Что они говорили с Груней, Марянка, к великой досаде своей, не могла услышать, но зато весь день она не спускала глаз с Груни. Вечером, когда пришло время возвращаться домой, Груня заметно стала отставать от других девок. Марянка сделала вид, что уходит вместе со всеми, но, отошедши несколько шагов, тихонько возвратилась под сарай. Груни уже не было там. Марянка обошла кругом всего сарая и, уверившись, что Груни нигде нет, хотела было перелезть через плетень в поскотину, подходящую сзади к самому сараю, как послышавшийся конский топот привлек ее внимание и остановил ее. Она оглянулась: к сараю подъезжал Чижов.
Марянка отошла от плетня и, поклонившись Чижову, ждала, пока он разговаривал с надсмотрщиком. Скоро Чижов подъехал к ней и спросил вполголоса:
– А где Грунька? Я не видал ее там с девками.
– Она, надо быть, на конюшню пошла дедушку попроведать, – лукаво улыбнувшись, ответила Марянка.
– А ты не видала, никто не приходил к ней? – спросил Чижов.
– Гришка Косатченок приходил, он тут каждый день бегает, потому из поскотины близко.
Чижов ничего не сказал на это и только ударил лошадь нагайкой, заставляя ее перескочить через изгородь в поскотину. Марянка поглядела ему вслед с довольным видом и побежала догонять девок, песни которых все еще неслись с дороги. Отъехав несколько сажен от изгороди, Чижов слез с лошади, привязал ее к стволу березы и пошел по узенькой, извивающейся между лесом тропинке. Скоро он увидел впереди на тропинке Груню. Она была одна и шла неторопливо, не оглядываясь. Чижов ускорил шаги и скоро настиг ее. Груня вздрогнула всем телом и быстро обернулась. Выражение испуга и неудовольствия, быстро омрачившее ее спокойное лицо, не ускользнуло от внимательного взгляда Чижова, и его лицо, прояснившееся за минуту перед тем, как он увидел, что Груня одна, опять омрачилось. К чести Чижова нужно сказать, что он не любил прямого насилия в любовных делах, в подкупах же и подговорах, к которым он прибегал в таких случаях, он себя оправдывал тем, что на них могли не согласиться. Кроме того, ему почти не случалось получать отказа на свои предложения, и потому-то сопротивление Груни волновало и раздражало его особенно сильно – он порешил добиться ее согласия во что бы то ни стало. «Одно из двух, – думал он, – или она хочет взять, дороже, или она в связи с Гришкой. Недаром он, щенок, в прошлый раз так заступался за нее».
– Здравствуй, Груша! – сказал он, поравнявшись с ней и слегка хлопнув ее по плечу.
Груня поклонилась и молча посторонилась, давая Чижову дорогу.
– Пойдем рядком, – сказал он, замедляя шаги. – Что ты меня боишься? Ведь я тебя не укушу.
– Знамо дело, – отвечала Груня, не глядя на него и пускаясь шагать так, что Чижов едва поспевал за ней.
– Да что же ты заторопилась так? – сказал он, наконец, с неудовольствием. – Иди потише, мне еще поговорить с тобой надо.
– Об чем тебе со мной говорить? – сердито ответила Груня. – Сказала я тебе еще в прошлый раз, что не об чем нам с тобой разговаривать.
– Ишь ты, какая сердитая! – рассмеялся Чижов и, обхватив ее за талию, нагнулся к ней, чтобы поцеловать.
– Пусти, Василий Миколаич! Добром тебе говорю: пусти! – отбивалась Груня от непрошенных объятий. – Не то я закричу, дедушку звать стану.
– Закричи, попробуй! – говорил Чижов, все крепче сжимая Груню в своих объятиях и покрывая поцелуями ее лицо.
Тщетно старалась Груня высвободить свои руки и уклониться от поцелуев. Чижов был очень сильный мужчина, и тягаться с ним в силе мог разве только один Тимофей Рясов. Груня, наконец, закричала.
– Полно, не ори! – говорил Чижов, закрывая ей рот рукой и стараясь отвести ее с тропинки в лес. – Послушай меня, я тебя не трону больше, только не кричи, я только поговорю с тобой.
Но Груня не слушала и, продолжая отбиваться, громко звала дедушку. В противоположной от тропинки стороне послышался треск сухих сучьев, и из-за толстого ствола березы показался суровый, рассерженный Гриша. В руках у него была толстая палка длиной с него же. Увидев его, Чижов стиснул зубы со злости, но Груню не выпустил из объятий, а только закричал гневно:
– Пошел вон! Какого лешего тебе надо?
– Не, Василий Миколаич, я не уйду, а вот тебе уйти следует, потому ты тут не на своем месте, – ответил Гриша сдержанным тоном и, сделав еще несколько шагов, спокойно остановился перед Чижовым и устремил на него смелый, пристальный взгляд.
– Ах ты, щенок! – вспылил Чижов и, выпустив Груню, с поднятым кулаком бросился к Грише, но тот ловко увернулся, заслонившись палкой, за которую схватился Чижов. Гриша выпустил палку и бегом бросился в лес за убегающей Груней, которая опять начала звать дедушку. Чижов сгоряча пустился было преследовать бегущих; но скоро одумался и остановился, отыскал уроненную им нагайку и быстро пошел к лошади. И поплатился бедный сивко своими боками в этот вечер за все обиды, какие вынес его хозяин.
X
Убегая от Чижова, Груня не заметила, что Гриша бежал вслед за ней. Она ни разу не оглянулась и не перевела духу, пока не увидала, наконец, сквозь редеющий лес крыши конного двора. Тут она пошла несколько тише и скоро увидела Савелия, ловившего лошадь. Груня подошла к нему.
– Отколь ты взялась? – удивился Савелий, увидя ее.
– Из-под сараю, – ответила Груня. – Мамка велела забежать по тебя, созвать тебя в бане мыться. Она сегодня баню топила.
– Ладно, ладно, – заговорил Савелий, видимо, довольный приглашением внучки. – А ты, что ты так шибко запыхалась? Разве бегом бежала?
– Бегом, потому в лесу одной-то страшно, – ответила Груня. – А ты не слыхал, я тебя кликала?
– Нет, не слыхал. А ты Гришку видела?
– Не видела.
– Где он, пострел? Вот бы только рыжка напоить, да и пошли бы мы с тобой, – хлопотал Савелий.
– Кличь его, дедушка, может, он и недалеко где-нибудь, – сказала Груня, подходя к конюшне и садясь на рундук. – А я подожду тебя здесь, да пойдем вместе, одна-то я боюсь лесом идти.
– Хе-хе, – рассмеялся Савелий, – да какой это лес? Вот там, – добавил он, указывая рукой вверх по пруду, – вот там лес, так лес, не то, что здесь.
И он стал накидывать зипун и снимать со стены аркан, подтрунивая над страхом Груни. На опушке леса показался Гриша.
– Где ты гулял, соколик? – обратился к нему Савелий. – Давай-ка напоим рыжка, да мне идти надо.
И Савелий ушел в конюшню.
– Что, чать, досталось тебе от подлеца-то? – спросила Груня вполголоса, когда Гриша проходил мимо нее.
– Нет, ни единого не досталось, я убежал, – также тихо ответил Гриша.
Скоро рыжка был напоен, и Савелий, заперши конюшню на замок, пошел рядком с своей внучкой, успевшей между тем отдохнуть и оправиться от испуга и волнения.
Проводив их глазами, Гриша сел на то место, где сидела Груня, и задумался.
«Теперь мне от Чижова житья не будет, – думал он, – во всем как есть начнет он меня сугонять. Беда мне будет от него. И ведь уродился же я такой бессчастный! С самого, значит, сызмальства мне во всем несчастье. Отца у меня деревом пришибло, как я еще мальчонком был маленьким, мать – старуха хворая, робить не может; покос, что от отца остался, сосед чуть не оттягал[6], спасибо Ермакову – заступился, а то бы совсем разорили. И так достатку никакого не имею, а тут еще Чижова лешак подсунул в этаком деле».
Гриша вздохнул и, порывисто встав с места, пошел бродить около конного двора.
«Хотя бы с кем посоветоваться, – думал он опять, – да и тоже, с кем. Один я, как палец; с матерью баять не стоит, потому у нее на все один ответ: терпи да богу молись, а известна пословица, что коли сам плох, так не поможет и бог».
И опять Гриша вздохнул. Вдруг его точно подтолкнул кто; он остановился и развел руками с довольным видом человека, внезапно осененного счастливой мыслью.
«Что же это я дядю Набатова-то забыл? Ведь хоша он мне и не родной дядя, однако все родня же. Хоша он мать мою и не любит, однако, может, меня-то ничего, – а он человек умнеющий. Вот к нему-то мне и надо бы сходить побаять, авось бы, он что мне и посоветовал. Дурак я, дурак, что раньше не сходил к нему! Может быть, давно б уж не было меня на этой проклятой конюшне. Завтра же схожу», – решил Гриша в свеем уме, опять усаживаясь на рундуке с целью дождаться тут дедушку Савелья и еще с вечера отпроситься у него домой. Но дождаться дедушку Савелья он не мог, потому что старик, разопревши в бане и плотно поужинав пельменями, не захотел идти ночевать на конюшню, а улегся на полатях рядком со своим зятем и проспал тут до утра, вопреки приказанию Чижова не отлучаться с конюшни по ночам. Было уже часа три утра, когда Савелий пришел на конюшню и отпустил Гришу домой, заставив прежде выпустить лошадей.
XI
Придя домой, Гриша нашел дом запертым, матери его не было дома, и он в ожидании ее принялся прибирать и подметать двор. Прибравши и без того чистый двор, Гриша вытащил засунутый в поленницу топор и стал заколачивать ступеньки лестницы, вываливающиеся из покосившихся брусьев. Он любил заниматься хозяйством и улаживать свой дом, но, несмотря на все его старания, дом и все надворные строения, требовавшие радикальной поправки, разваливались и явно клонились к упадку. Не успевал Гриша подпереть одно прясло изгороди, как падало другое, и ему то и дело приходилось починять то то, то другое. Когда он сколачивал ступеньки и оглядывал крыльцо, окно соседнего дома, выходившего в ограду к Грише, отворилось, и в нем показалась всклокоченная рыжая голова его соседа, Семена Шестова, прозванного Жбаном. Гриша не заметил его и продолжал свое дело.
– Ай да сосед у меня молодец! – насмешливо заговорил Семен Жбан. – Как ни погляжу – все-то он по дворику похаживает да топориком поколачивает. Такой-то себе дворец сколотил, что просто на поди! Экова, знать, и в Москве нету.
И Жбан рассмеялся неприятным смехом.
Гриша только оглянулся и, не сказав ни слова, продолжал свое дело.
– А вот что, соседушко дорогой, я тебе посоветую, – заговорил опять Жбан все тем же насмешливым тоном. – Ты шибко-то топором не стукай, пожалуй, еще и уронишь крыльцо-то: вишь, оно у тебя словно живое, так ходенем и ходит. – И Жбан опять засмеялся.
Гриша все молчал; он положил топор иа прежнее место, взошел на крыльцо и, вынув верхний косяк над дверью в сени, просунул туда руку и отворил дверь с защелки.
– Ишь, загордел как, – продолжал подзадоривать Жбан, – с нашим братом и говорить не хочет. Да побай, соседушко, пожалуйста, ответь хоть словечко.
Гриша обернулся и, показав ему кукиш, ушел в избу. Он злобно швырнул на лавку свою шапку и стал глядеть в окно на дом Жбана. Увидев, что Жбан затворил свое окно, Гриша несколько успокоился и стал искать, чего бы поесть. Не найдя ничего в избе, он сходил в погреб и, принесши оттуда каравай хлеба и крынку молока, усердно принялся за завтрак. За этим занятием застала его мать.
– Ты что это трескаешь? – вскричала она, всплеснув руками. – Ведь сегодня пятница!
Гриша положил ложку и обтер губы.
– Неужели? – удивился он. – Как же это я позабыл?
– То-то, позабыл! Бот жалобишься, что бог счастья не дает, а сам что делаешь? Среду и пятницу почитать должно, потому что богом указано, – ворчала старуха, убирая горшок с молоком и ложку.
Мать Гриши была худенькая, тщедушная старушка с очень строгими понятиями относительно соблюдения постов и числа земных поклонов. Всякий день утром и вечером она простаивала перед иконами около часу, усердно отсчитывая по лестовке земные и поясные поклоны и повторяя множество раз иисусову молитву, которую она только одну и знала. Любила она ходить в церковь, и хотя по слабости слуха и потому, что стаивала в церкви около входных дверей, иногда не слышала, что там пелось и читалось, – все-таки молилась усердно, нашептывая все одну и ту же иисусову молитву. Никогда не пропускала она случая поцеловать крест, а также и руку попа.
Все ее земные привязанности сосредоточились на Грише, единственном сыне, которого ей удалось вырастить. Мужа она лишилась рано и с тех пор вынесла много всякого горя и страдания, отбывая тяжелой работой господские повинности вплоть до того времени, когда Гришу, наконец, зачислили в действительные работники, а мать его избавили от господских работ. Рада-радехонька была этому старуха, потому что силы ее уже очень ослабели в последнее время, да и кашель начинал жестоко душить по зимам.
«Хошь бы еще мне годок на другой дал бог веку, – вздыхая, думала старуха, – хошь бы я парня-то женила да поглядела бы, как он жить будет».
Убрав со стола молоко, Егоровна спросила у сына ласковым тоном:
– Хочешь кваску с лучком похлебать? Я принесу.
– Нет, мать, не хочу, – ответил Гриша, угрюмо уставившись в окно, оттого что забыл день и наелся скоромного.
– Я, мать, хочу к дяде Набатову сбегать, – сказал он немного погодя.
– Пошто?
– Да побаять насчет того, как бы мне в кричную робить перепроситься.
Егоровна вздохнула: она не жаловала работы в кричной как потому, что там человек легко подвергался разным опасностям, так и потому, что не под силу ей было стирать пропитанные сажей рубахи Гриши.
– Сам знаешь, дитёнок, – ответила она, – а по-моему, так лучше бы ты себя пожалел, потому работа в кричной тяжкая, огненная, а сила твоя молодая, некрепкая, лучше бы ты силы еще покопил.
– Да ты посуди, мать, – с жаром заговорил Гриша, – что в подконюшенниках-то платят – как мы жить будем? Надо избу перестраивать, гляди, вся она развалилась, а перестраивать не на что – денег ни гроша нету.
– Ну, год-другой перестоит еще, – ответила на это Егоровна, окинув избу глазами.
Гриша нахмурился и почесал голову.
– Всего лучше к дяде Набатову сходить, – решил он, вздохнув, и встал с лавки.
– Что же, сходи, побай, может, он что и пособит, – согласилась Егоровна.
XII
Набатова Гриша застал за обедом. Доходила другая неделя со времени несчастных родов Натальи, а она все еще не вставала с постели, и старуха-повитушка все еще жила у Набатова, заправляя его хозяйством, стряпая ему обед и надоедая своим ворчаньем. Суровый и гордый Набатов присмирел настолько, что не смел даже прикрикнуть на ворчливую старуху, покорно вынося ее каждодневное брюзжанье, и только старался как можно меньше быть в избе. С Натальей он не говорил ни слова и, видимо, избегал смотреть на нее. Правда, она и сама не показывалась отцу и, лежа за занавеской, не подавала признаков жизни, пока отец был в избе. Приход Гриши заметно удивил Набатова.
– Садись, гость будешь, – сказал он в ответ на его поклон. – Бабушка, дай-ка ложку, – добавил он, отодвигая стол и указывая Грише место за столом. – Садись, похлебай ухи-то.
– Я уже ел сегодня, – отказался Гриша, однако сел за стол.
Пообедав, Набатов тотчас же вышел на крыльцо. Гриша вышел за ним.
– Я, дядя, к тебе пришел об деле побаять, – сказал он, остановившись перед Набатовым, севшим на лавку.
– Какое же твое дело? – опросил тот, несколько удивившись и внимательно поглядев в лицо Гриши. Оно было озабочено и печально.
– Садись, – добавил Набатов, – что стоишь? В ногах правды нету, садись да расскажи, какое твое дело.
Гриша сел и подробно рассказал Набатову свое горе, не утаив и того, за что особенно невзлюбил его Чижов. Нахмуренное и печальное лицо Набатова оживилось при этом рассказе, глаза засверкали злостью. Он отвернул лицо, стараясь скрыть от племянника свое волнение.
Кончив свой рассказ просьбой помочь ему перепроситься в кричную, Гриша уж давно ждал ответа, а Набатов все молчал, отвернувшись от него.
– Знаешь пословицу? – спросил он, наконец, обернув к Грише свое изменившееся лицо.
– Какую? – спросил тот, удивившись и растерявшись от неожиданного вопроса.
– А вот какую: кобыла с медведем тягалась, один хвост да грива остались, – сказал Набатов, мрачно устремив глаза на Гришу.
Тот понурил голову и молчал. Последняя надежда начинала покидать его. На глазах у него навертывались слезы, губы судорожно передергивались.
Набатов тоже опустил голову.
– Этот Чижов хуже мне ножа острого, – проговорил он вполголоса, не глядя на племянника и будто рассуждая про себя. – Легче бы мне с лютым зверем в лесу сойтись, чем с ним проклятым. Он всему злу причиной.
Гриша удивился и слушал внимательно. Он не знал, кто был причиной позора Натальи, а потому не мог понять злобы Набатова. А Набатов, облокотившись руками на колена и положив на них свою голову, думал. Гриша ждал с замирающим сердцем, что еще скажет ему дядя.
– Вот разве что мы сделаем, – проговорил, наконец, тот, подняв голову. – На Чижова нам надеяться нечего: его не проймешь ни крестом, ни пестом, а вот разве Ермакову Степану Ефимовичу мы поклонимся. Он с Чижовым не в ладах, а потому, может, и примет нашу сторону.
– Да еще у меня поклониться-то нечем, – тоскливо проговорил Гриша.
– Ну, на это я тебя ссужу, на это немного надо, – сказал Набатов. – Сегодня у тебя день свободный?
– Свободный, – ответил Гриша, несколько приободрившись. – До вечера свободен буду.
– Вот и ладно, – оказал Набатов, вставая. – Дам я тебе целковый, и ступай ты сию минуту на Усть-Кумор, спроси там старика Пантелея, он рыбак, у него в садке завсегда живая рыба сидит. Скажи ты ему, что послал, мол, меня мастер Набатов и велел-де тебе самолучших стерлядей отвесить – на целковый сколько причтется. Он мне старинный приятель и по приятству уступит. Этой рыбой мы и поклонимся Ермакову.
С этими словами Набатов ушел в избу и вскоре вынес оттуда засаленную рублевую бумажку и подал ее Грише. Тот завернул ее в обрывок платка и засунул за пазуху.
– Спасибо, дядя, – проговорил он повеселевшим голосом. – Даст бог, доживем до страды, так я отслужу за все это.
– Ладно, ладно, мне твоя служба не надобна, – ответил на это Набатов. – Ступай-ка лучше скорей на Усть-Куморку, а я тем временем лягу сосну.
Гриша стал спускаться с лестницы.
– Смотри же, чтобы рыба была хорошая, живая, а не дохлая, – наказывал вслед ему Набатов, – потому я с тобой сам пойду, так чтобы не стыдно было.
Гриша ушел, а Набатов, спустившись вслед за ним с крыльца, лег в сани, стоявшие на дворе под навесом, но не мог заснуть вплоть до прихода Гриши – так сильно расходился в нем гнев на Чижова.
– Чтобы ему ни дна, ни покрышки, кровопивец! – мысленно ругался Набатов, ворочаясь в санях. – Не во всяком же разе ему уступать, найдем и на него управу.
И сильно кипела кровь в Набатове, и сжимались его здоровые мускулистые кулаки.
До Усть-Кумора было всего версты две, и Гриша скоро воротился, неся на лычке трех больших и еще живых стерлядей. Услышав, что стукнули ворота, Набатов поднял голову и, увидев племянника, подозвал его к себе. Гриша подошел и показал рыбу.
– Ну, брат, рыба важная, экую рыбу не стыдно и управляющему поднести, – похвалил Набатов, вылезая из саней. – Садись отдохни, а я пойду накину кафтан, да и пойдем, благословись.
И Набатов ушел в избу, а Гриша сел на нижней ступеньке лестницы и ждал. Скоро Набатов вышел в нанковом кафтане и шапке. Гриша, перехватив рыбу из правой руки в левую, перекрестился, и они вышли. Придя к Ермакову, Набатов и Гриша прошли прямо в переднюю, не заходя в кухню, и остановились у дверей. Ермаков, мужчина высокий, плотный и красный, как рак, только что встал от послеобеденного сна и, сидя перед своей красной конторкой, допивал уж вторую кружку холодной браги. Услышав, что скрипнула дверь в передней, он громко спросил:
– Кто тут?
Набатов сделал несколько шагов вперед и, остановившись у дверей в кабинет, поклонился.
– До вашей милости, Степан Ефимович, – заговорил он, – с покорной просьбой.
– Что надо? – пробурчал Ермаков, опять принимаясь за недопитую кружку и не глядя на Набатова.
– Да вот племянника охота бы в кричную перевести, – заговорил Набатов, опять кланяясь. – Покорно прошу, Степан Ефимович, нельзя как-нибудь, не будет ли вашей милости, потому парень-то сирота, охота бы при себе к работе приспособить.
– Какого племянника? – спросил Ермаков.
– Да вот Гришу Косаткина, сына Андрея Косаткина, которого деревом-то в лесу зашибло, может, изволите помнить.
– Забыл я, – пробурчал Ермаков, отдуваясь. – Где он?
– Здесь, со мной пришел, – ответил Набатов. – Гриша, покажись.
Гриша несмело выступил вперед и неловко поклонился, причем стерляди махнули хвостами по полу.
– А, знаю, – на этот раз внятно протянул Ермаков и встал со стула.
– Примите, батюшка Степан Ефимович, – заговорил Набатов, взяв стерлядей из рук Гриши и подавая их Ермакову. – Не побрезгуйте: чем богаты, тем и рады.
Тот не спеша взял стерлядей за лычко и, взвесив их на руке, с довольной улыбкой спросил у Набатова:
– Сам заловил?
– Нет, батюшка Степан Ефимович, я не рыбак, купил у приятеля.
– Хозяйка, а хозяйка! – крикнул Ермаков. – Степанида Матвеевна!
– Иду, – послышалось из других комнат, и маленькая, сутулая и некрасивая женщина в пестром платье и коленкоровом чепчике на голове вошла в переднюю.
– Возьми-ка вот, мужик стерлядок принес да вели заколоть поскорее, а ему, – Ермаков указал на Набатова, – подай водки рюмку.
– Ладно, – ответила Ермачиха, взяла стерлядей и ушла.
– Так в кричную тебя перевести? – спросил Ермаков у Гриши.
– Уж сделайте милость, – заговорил тот, кланяясь, – заставьте за себя бога молить.
– Да ведь ты уж начинал в кричной робить, зачем перестал? – спросил Ермаков.








