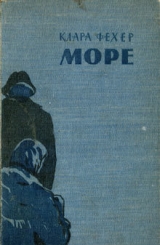
Текст книги "Море"
Автор книги: Клара Фехер
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
– Спасибо, право… – и в знак согласия Агнеш кивнула головой.
– А со мной не будете прощаться? – задержался парень.
Агнеш протянула ему обе руки.
– Будьте счастливы, Тамаш, и возвращайтесь живым и здоровым домой.
– А если я очень-очень попрошу, вы позволите вас поцеловать?
Агнеш оторопела. Но в больших, голубых глазах Тамаша увидела одну просьбу, одну тоску.
– Ладно… в щеку…
Тамаш взял лицо девушки в свои ладони, пригладил волосы и поцеловал в обе щеки, как брат при прощании.
– Да хранит вас бог, Агнеш, следите за собой… Минуточку, я сейчас пришлю Тибора.
И Тамаш побежал через рельсы. Боже мой, какой же долгой казалась эта минута! Вот он подошел к компании, объяснил что-то, Тибор кивнул в ответ, оглянулся и пристально посмотрел в ее сторону. Сердце Агнеш сжимается от волнения и счастья. Значит, она еще раз обнимет его на прощанье. Отец и мать целуют Тибора. Теперь они наверняка обидятся на нее за то, что она оторвала от них сына. Тибор прикладывается к руке дамы в зеленом костюме, потом они целуются, и вот он уже идет быстрым шагом, прямо через рельсы к ней; Агнеш, широко расставив руки, устремляется вперед. Тибор еще издали машет ей рукой и улыбается, но в этот момент…
Паровоз вдруг громко загудел, и состав резко тронулся с места. Со всех сторон к поезду бросились солдаты, вскакивая на подножки уже двигавшихся вагонов. Тамаш Перц одной рукой ухватился за поручни лестницы, а другой принялся размахивать платком. Тибор круто повернулся, побежал назад и скрылся с глаз Агнеш. Какой-то молодой солдат пил воду, оставил кран открытым и с бранью кинулся вслед за эшелоном. Немецкие патрули хмуро смотрели на суматоху. Громко ревел репродуктор, призывая гражданских лиц немедленно покинуть территорию вокзала: в городе была объявлена воздушная тревога.
– Тибор! Тибор! – кричала Агнеш.
– Надо ухо-дить, надо ухо-дить! – безжалостно отстукивали колеса поезда.
Визжали сирены. Какой-то железнодорожник предложил Агнеш следовать за ним. Они вбежали в какой-то склад, а оттуда в полный пыли, грязи и просмоленных бочек подвал, где уже пряталось человек восемь или десять.
Начала содрогаться земля. Где-то грохотали орудия, загудели самолеты, раздались глухие взрывы. Прошло два часа, наконец сирены оповестили «отбой». Близ вокзала взволнованные люди показывали на юг. Над Кишпештом, Пештэржебетом к небу вздымался черный дым. На Будапешт упали первые бомбы.
– Вот и боевое крещение, – сказал кто-то в толпе.
– Первый урок страданий.
Татар с сожалением сообщает…
Жена Миклоша Кета вот уже в четвертый раз пришла в в контору завода. Хотела поговорить с Ремером о делах мужа, но все не удавалось. Доктор то заседал на совещании дирекции, то был на самом заводе, а в третий раз госпожу Кет остановил в дверях Татар и сообщил, что господин доктор разговаривает с Лондоном и после этого поедет в министерство, так что приходите, дескать, завтра. Впрочем, напрасно она сюда ходила, все было предрешено, в помощи ей отказали. Выходное пособие ей уже выдано, чем же она недовольна?
– Вам легко говорить, а мне платить за квартиру и ребенка кормить… Я в конце концов прошу не подачки, Миклош как-никак родственник Ремеров…
Придя в четвертый раз, госпожа Кет решила во что бы то ни стало дождаться доктора, потребовать отмены распоряжения и добиться, чтобы ей регулярно выплачивали жалованье Миклоша. Еще с восьми часов утра она засела в опустевшей комнате госпожи Геренчер, достала свое вязанье и терпеливо стала ждать.
Ремер пришел около половины девятого. Татар, разумеется, следовал за ним по пятам, неся под мышкой почтовую книгу, и, заметив госпожу Кет, еще издали неодобрительно покачал головой.
– Почтеннейшая сударыня, очень некстати беспокоите господина доктора.
– Но, позвольте, это, наконец, возмутительно – так обращаться с женщиной, я уже четвертый день не могу к вам попасть.
– Входите, пожалуйста, сударыня. – и Ремер пропустил госпожу Кет впереди себя, однако сесть ей не предложил. – Чем могу служить?
– Чем можете служить? Простите, но это неслыханно… Мой муж на фронте, а его жалованье…
– Насколько мне известно, господин Кет получил расчет и выходное пособие.
– Но скажите мне, на каком основании вы увольняете ушедших на фронт? Вы обещали ему…
– К сожалению, сие от нас не зависит, сударыня. Вы должны понять, что нам, дирекции завода, выполняющего военные заказы, необходимо прежде всего думать об обеспечении тотальной войны.
– Короче говоря, вы не дадите денег?
– К сожалению, я, право, бессилен. Вы ставите меня в весьма трудное положение. Я не многих так люблю и ценю, как Миклоша, и был бы счастлив опять приветствовать его здесь, но существующее положение…
– Не может этого быть, чтобы у вас не нашлось способа… Что мне делать с ребенком, я беременна… Меня нигде не берут на работу…
– Позвольте, – торжественно произнес Император, взявшись указательными пальцами за вырез жилета и став на цыпочки, – поскольку я являюсь распорядителем собственности Ремера и Хофхаузера, то, согласно правилам Национального банка, имею возможность за счет их частного капитала выдать вам единовременное пособие, я подчеркиваю, единовременное пособие в сумме трехсот пенге.
– Триста пенге? За счет частного капитала? И это когда вы сами переехали на Швабскую гору в виллу Ремера? Наворовали себе ковров на многие тысячи пенге? Нет уж, оставьте себе эти триста пенге и купите на них веревку, бездушный… старый хрыч!
И госпожа Кет не стала продолжать. Достав носовой платок, она громко высморкалась и направилась к выходу, но столкнулась в дверях с двумя мужчинами в гражданской одежде. Те не поздоровались и не уступили ей дорогу, а подошли прямо к Ремеру. Госпожа Кет обернулась и увидела, как один из них, ростом пониже, показал свое удостоверение. Ремер побледнел, бросил на Татара продолжительный, удивленный взгляд, затем, не говоря ни слова, засеменил к вешалке и, надев шляпу, покорно последовал за мужчинами. Все это произошло без единого звука, без какого бы то ни было объяснения. Татар остался стоять посреди комнаты, не выражая при этом ни малейшего признака удивления или злорадства. Госпожа Кет, немного придя в себя, вышла из конторы. Ремера и двух мужчин ни на лестнице, ни на улице уже не было. Казалось, будто их поглотила земля.
Карлсдорфер по своему обыкновению пришел на работу примерно в десять часов. Управляющий Татар тотчас же сообщил ему страшную новость – сегодня утром два сыщика гестапо забрали Ремера из конторы.
– Что? За что? Как? Когда?
Лицо Татара было торжественно-опечаленным, как у устроителя похорон.
– Они ничего не сказали, ваше превосходительство. Пришли, показали приказ об аресте или что-то в этом роде и увели господина доктора.
Карлсдорфер, словно громом пораженный, неподвижно сидел на своем месте.
Только раз в жизни он чувствовал себя так скверно. Это было пять лет назад, когда Геза Ремер, ничего не сказав, внезапно уехал в Лондон. Накануне они еще болтали с молодым Ремером об охоте. Он отчетливо помнит, что Геза твердил, будто в лесу за Шомошбаней можно устроить облаву на кабанов. А на следующий день ни он, ни Андриш Хофхаузер не пришли в контору. Вместо них приплелся в полдень старый Аладар Ремер, которого он раньше знал лишь по заседаниям дирекции, и сказал, что хочет поговорить с ним один на один. Затем достал кипу бумаг, разложил их на столе и пояснил, что Геза Ремер и Андриш Хофхаузер ночью вместе со своими семьями на неопределенный срок покинули Венгрию. Национальный банк поручил ему, доктору Ремеру, управление имуществом. В случае же какого-либо несчастья с ним эта обязанность переходит к его превосходительству господину Карлсдорферу. Карлсдорфер стал хватать воздух и, выпучив глаза, смотрел на бумаги, на подробные, многочисленные указания обоих директоров: об увеличении экспорта в Швецию, о том, что надлежит делать в случае разрыва дипломатических отношений между Англией и Венгрией, что следует предпринимать, если между Швецией и Венгрией возникнет состояние войны… Планы, статистические выкладки, в которых он почти не разбирался, но за которые с этого дня будет нести ответственность. Кончилась привольная жизнь, теперь придется с лихвой расплачиваться за жалованье генерал-директора в две тысячи пенге. Но до сих пор при любых затруднениях рядом был доктор Ремер, юрисконсульт, который благодаря своей изворотливости умело вел корабль между Сциллой и Харибдой, оставляя его превосходительству обязанности по возможности громче сигналить и размахивать флагом.
Ну уж нет, довольно с него этих волнений! Пусть распоряжается имуществом Татар, или сам папа римский, или герцог уэльский. Они с женой, затянув пояски потуже, проживут и на пенсию, как другие.
– Подпишите почту, господин управляющий, я сегодня занят, – сказал он молча стоявшему возле него Татару. – Завтра обсудим это дело.
Карлсдорфер пошел домой, позвонил в министерство внутренних дел и попросил позвать к телефону своего зятя Бардоци. Он хотел поговорить с ним, притом немедленно.
Встретившись вскоре в пивной «Карпатия», они сели в самый тихий угол. Дердь Бардоци поглощал одну порцию сардин за другой и, запивая пивом, со снисходительной улыбкой поглядывал на своего тестя, потерявшего всякий аппетит.
– Ну, что нового, папа?
– Сынок, я не могу больше руководить Заводом сельскохозяйственных машин.
– А что, разве вы руководили им? – нагло спросил Бардоци, поднося ко рту кусок рыбы.
На лбу Карлсдорфера забилась жилка, но он сдержался.
– Сынок, Ремера сегодня увели твои дружки, неизвестно куда и за что.
– Кто увел, тот наверняка знает, за что.
– Но послушай, сынок…
– Почему вы интересуетесь, за что увели этого еврея?
Наверное, была причина. Он воровал, мошенничал, прятал золото, спекулировал валютой. Теперь по крайней мере вы сами будете хозяином и, может быть, что-нибудь приобретете. Шесть лет, как вы стали генерал-директором, а все ходите в одних и тех же залоснившихся брюках.
– Но позволь, сынок…
– Что вы заладили: сынок да сынок? – окрысился Бардоци, вытирая платком капельку масла, блестевшую на его черных усах. – Просто диву даешься. Другой из сил выбивается, чтобы войти в дирекцию какого-нибудь предприятия, а вам на блюдечке принесли, в рот положили, деньги в карман пихали, и вы прошляпили… Знаете, что надо было делать? Уже давно следовало уговорить Ремера, чтобы он передал вам на хранение семейные драгоценности, давно пора согласиться на выполнение военных заказов для Германии и, вместо того чтобы контрабандой вывозить товары в Швецию, обратить все в валюту и сплавить в Швейцарию… А вы все сидите да зеваете. Другой тесть давно бы устроил зятя директором или главным инженером! Не подумайте только, что я претендую на эту должность, просто к слову пришлось. А выходит наоборот, вы сами бегаете ко мне за помощью. Когда я женился на вашей дочери, то взял в приданое два пододеяльника да три полотенца и не просил у вас ни ренты, ни передачи мне фруктового сада в Геди. Так вы по крайней мере не рассчитывайте, что я вас буду содержать, у меня и без того хлопот полон рот, два сына…
– Я никогда не напрашивался к тебе в нахлебники, – побледнел Карлсдорфер. – Хотел только посоветоваться с тобой, но раз так, обойдусь без твоих советов.
Карлсдорфер потянулся за палкой, прислоненной к углу стола, по-стариковски встал и вышел из пивной. Продолжая сидеть, Бардоци искоса проводил взглядом его превосходительство, а затем попросил у официанта еще кружку пива.
Старик дошел до Музейного кольца и сел на трамвай. У проспекта Андраши он спустился в метро. На перроне ожидала поезда шумная ватага гитлерюгендцев в бархатных штанах; от нечего делать они состязались в том, кто дальше плюнет. Публика неодобрительно, молча следила за этой игрой. Когда подошел поезд, юные представители высшей расы, поощряемые их предводителем, работая локтями, бросились в вагон. Они заняли все сидячие места и принялись отпускать наглые замечания по адресу Будапешта и «трусливых венгров». Кое-кто из пассажиров понимал по-немецки. Одни снисходительно улыбались «милым мальчикам», другие, кусая губы, с негодованием смотрели на них.
Карлсдорфер тоже молчал, но его сердитый взгляд и багровое лицо предвещали взрыв. На площади Муссолини молодчики до того разошлись, что загородили выход и никто не мог войти в вагон. А застрявшим в вагоне пассажирам они показывали «ослинные уши». Один подросток пробубнил в нос:
– Wo von stammt Ungarns Name?[18]18
Откуда взялись эти венгры? (нем.)
[Закрыть]
В ответ на это другие захохотали и хором стали повторять:
– Унгарн-хунгарн.
– Maul halten![19]19
Заткнитесь! (нем.)
[Закрыть] – взревел побагровевший Карлсдорфер.
Юнцы опешили и тотчас же умолкли: их вожак подал знак рукой, призывая к порядку. До самой улицы Байза они вели себя мирно. На остановке банда гитлерюгендцев, толкаясь и шумно смеясь, вышла. Один из них уже на перроне выкрикнул бранное слово.
Карлсдорфер покраснел как рак. Он оттолкнул в сторону оторопевшего кондуктора, который в этот момент собирался закрыть дверь, выпрыгнул на площадку и своей тростью принялся избивать распоясавшихся молодых гитлеровцев. Кондуктор от изумления выпучил глаза, дождался, когда Карлсдорфер вернется в вагон, затем закрыл дверь, дал звонок, и поезд тронулся. За всю дорогу никто не сказал ни слова. Карлсдорфер, гневно ворча, вышел на площади Героев и побрел в сторону улицы Дамьянича.
Янош Хомок
Двадцатитрехлетний формовщик Янош Хомок слыл мастером своего дела. Подобно скульптору, который наперед знает, как будет выглядеть бронзовая скульптура всадника, Янош Хомок легко представлял себе, каким получится статор турбины или маховик из чугуна… Утрамбовывая в опоке песок, пробивая дырки для свободного отхода газов при остывании металла, он каждый раз испытывал такую же радость созидания, какую ощущал еще дома, в Шомошбане, когда строил вместе с ребятами на берегу ручья затейливые крепости или лепил красивые фигуры из мягкой глины.
Но умение лепить было не единственным достоинством Яни Хомока. Он был миловидным, как девушка, краснощеким, стройным, кареглазым мальчиком. Таких, как он, женщины любят погладить по остриженной головке, а учитель всегда вызывает к доске, когда приезжает инспектор. Правда, бывало и так, что он ни слова не знал из заданного урока, но зато держался смело, а смелость города берет.
Счастье привалило к нему случайно. Однажды Геза Ремер играл со своим шурином в теннис; мальчишки взобрались на садовую ограду, но лишь один из них осмелился подойти поближе и стал подавать мяч по просьбе игроков – это был Яни Хомок. В ту пору Гезе Ремеру было не больше тридцати лет. Он уже начал полнеть, но, по мнению многих, был еще довольно красив. Играя по утрам в теннис, он боролся с грозившей ему полнотой. Связанный сидячей работой, Геза Ремер неумеренно потреблял жирное жаркое и сметану со сладостями.
Яни Хомок отказался брать деньги за подачу мяча. Ремер удивился.
– А что же тебе дать?
– Ничего не надо.
– Почему?
– Потому что мне и самому было приятно.
– Что было приятно?
– Бегать за мячом. Он такой красивый.
– А у тебя какой мяч?
– Нет никакого.
– Кто твой отец?
– У меня нет отца.
– Он что, умер?
– Раз нет – значит, умер. Я его не помню.
– Ты живешь с матерью?
– И матери у меня нет. Я живу у старшего брата.
– А кто он, твой брат?
– Каменотес, Иштван Хомок.
– А сколько тебе лет?
– Тринадцать.
– Молитвы знаешь?
– Каждый вечер молюсь, а по воскресеньям и в церковь хожу.
– Хм. Кем же ты хочешь стать?
Мальчик пожал плечами.
– Никем. Пойду в каменотесы.
– А если бы тебе сказали: выбирай. На чем бы ты остановился?
– Пошел бы на завод.
– Почему на завод?
– Потому что там машины, – ответил мальчик, и глаза его заблестели.
– А брат отпустит?
– Конечно, отпустит.
– Ну, приходи ко мне на завод, – сказал Ремер и для памяти тут же сделал себе пометку в блокноте. Весь день у него было очень хорошее настроение. «Будь я сейчас бойскаутом, то мог бы повязать узелок на галстуке. Сегодня я совершил доброе дело», – подумал он и заказал обещанную сыну лошадку-пони. Ценой собственной жизни его уродливая жена произвела на свет сына Гезу, который, к сожалению, унаследовал от нее нервный характер.
Янош Хомок давно позабыл об обещании господина, когда-то игравшего в теннис, как вдруг пришло распоряжение: при первой возможности привезти мальчика со всеми его вещами на машине в Пешт; он будет учиться на формовщика в литейном цехе Завода сельскохозяйственных машин. Позаботились о его жилье – временно он поживет у литейщика Лайоша Чизмаша.
Чизмаш уже доживал пятый десяток своей жизни. Этот худой, низкорослый человек своим видом разочаровал мальчика. До сих пор литейщики представлялись ему сказочными великанами, которые разливают огромным черпаком расплавленный металл, придают ему форму паровоза, машины, автомобиля. Вторично он разочаровался, когда увидел Пешт. Учитель рассказывал им на уроках, что в Будапеште самые лучшие, самые высокие дома, красивые мосты, шикарные магазины, а между тем улица, куда его привезли на машине, ничем не отличалась от улиц в Шомошбане. Ветхие дощатые заборы, поникшие оштукатуренные домишки с развалившимися дымоходами казались усталыми путниками, которые ждут не дождутся, когда наконец им позволят сесть. На длинной улице стоит облупившаяся бакалейная лавка, а возле нее корчма с поблекшей вывеской. В конце улицы общая водонапорная колонка, вокруг нее вечно блестит лужа, грязь. По вечерам здесь зажигается один-единственный газовый фонарь. Дом Чизмашей отличается от остальных лишь тем, что его ворота выходят не на улицу Месеш, а прямо на заводской двор. Даже воду Чизмаши носят не из общей колонки, а из заводской. И только у них горит электричество. Яни Хомок частенько засматривался на отводку от магистрального провода, по которому шел ток к маленькой лампочке на кухне.
Дом Чизмашей принадлежал заводу, и поэтому жильцам запрещалось сажать яблони, выращивать в огороде картошку и разводить цыплят. Больше всего это огорчало болезненную, грустную тетушку Чизмаш, которая то и дело жаловалась на несправедливость господ своему сыну Яношу и Яни Хомоку. Но Яни Хомока не волновали ни картошка, ни цыплята – его пленил, очаровал гигантский завод.
Яни было, наверное, лет семь или восемь, когда он впервые увидел на шомошских холмах солдатскую муштру. Загремели трубы, и весь склон горы как-то сразу ожил, сверкая штыками, на вершину поползли солдаты в зеленой форме, поползли неуклюжие танки, загрохотали орудия. Мальчик раскрыл от изумления рот и смотрел на все это, как на чудо: вся эта сила повинуется воле какого-то невидимого человека, а какая четкость, какой порядок. С той поры мальчик полюбил играть в войну. Он был счастлив, когда учитель выстраивал их на узком школьном дворе, любил петь хором, любил вместе с другими пятью-десятью учениками с шумом выскакивать из-за парт и вытягиваться по команде «смирно», когда в классе появлялся господин учитель.
Выходя на рассвете к ограде и издали наблюдая, как на завод идут толпы людей, а в шесть прислушиваясь к реву гудков, Яни испытывал огромную гордость, что теперь и сам он принадлежит к этой могучей армии труда. Он любил строгий порядок в литейном цеху, штабели опок, любовался на брызжущий искрами раскаленный металл, который по воле укротителя течет в открытое горло формы и после трехдневного остыва принимает вид, приданный ему человеком. Особенно полюбился Яни главный инженер Чути, который зимой и летом, в жару и холод, в семь часов утра неизменно появлялся в дверях литейной. За пять минут до его прихода прибегал Дружок. Он просовывал в железные двери свою лохматую морду, тявкал несколько раз, как бы предупреждая всех о приближении хозяина и о том, что следовало бы навести порядок. И ровно через пять минут показывался Чути. Одетый в белый халат, словно какой-нибудь профессор медицины, он проходил через весь литейный цех; обычно его с важным видом сопровождали четыре-пять техников. Инженер осматривал печь, проверял работу чистильщиков, останавливался у какой-нибудь ямы, заглядывался на старания формовщиков, затем обменивался несколькими словами с дядюшкой Чизмашем, с мастером и уходил. Проходя, Чути каждый раз задерживался возле Яни Хомока. «Ну, приятель, есть брак?» «Нет», – отвечал Яни. «Я так и знал», – произносил Чути, и это ежедневное «я так и знал» было для Яни Хомока приятнее всего на свете. Он продолжал стоять, вытянувшись в струнку, даже тогда, когда главный инженер уже давным-давно проверял машинный цех… «Ты что, влюбился в него, а?» – спросил как-то у Яни совсем молоденький Лапушик. Поговаривали даже, будто Яни, пытаясь приударить за 1 еруш Такач из заготовительного цеха, пригласил ее в воскресенье на танцы и весь вечер только и рассказывал ей о главном инженере Чути, что тот уже дважды похвалил его, говорил, что ему, Яни, стоит учиться, спрашивал, какова его мнение об оздском чугуне… Теруш надоела его болтовня, и во время вальса она покраснела, опустила руки и сказала: «Слышишь, Яни, черт тебя возьми, если ты любишь инженера Чути, так и танцуй с ним». С этими словами девушка убежала прочь и до конца вечера танцевала с Пиштой Фаркашем, ни разу и не взглянув на Яни. Разумеется, это было не совсем так. Яни, правда, очень любил Лоранта Чути и часто ему хотелось спросить у него что-нибудь: о заводе или о чугуне. Но дальше этого желания дело не шло.
Яни Хомок так никогда и не узнал, каким образом он попал в семью именно Чизмаша. В свое время заботу об устройстве мальчика Геза Ремер возложил на Лоранта Чути. Тот ругался на чем свет стоит. «Да что я в конце концов, биржа труда или нянька!.. Что же, прикажете мне ходить по домам да спрашивать, не нуждается ли кто в нахлебнике? Скажите, Чизмаш, – обратился он к стоявшему рядом старому литейщику, – не могли бы вы взять к себе тринадцатилетнего мальчугана?» «Надо спросить у жены», – почесал затылок старик. «За его содержание вам бы убавили квартплату». «Ладно, – согласился Чизмаш. – Все будет в порядке. Я договорюсь с женой».
Тетушка Чизмаш не стала возражать. Она родила восьмерых детей, но семеро из них умерли, одни от кровавого поноса, другие от дифтерии, а двое от азиатского гриппа. Только самый младший, Яни, и выжил, хотя при рождении не весил и двух килограммов и вместо плача только пищал; мало было надежды, что он останется в живых. Худой тихий маленький Яни, похожий на отца, как две капли воды, вырос здоровым, добродушным, но упрямым пареньком. Ну что ж, пусть в доме прибавится еще один сын, к тому же не надо будет платить двадцать четыре пенге за квартиру, а со временем и он станет зарабатывать.
Если бы Яни Хомок тоже был бледным, хилым мальчиком и донашивал одежду Яни Чизмаша, – как бы полюбила его тетушка Чизмаш! Но он оказался плечистым гигантом, который, несмотря на свои четырнадцать лет, был на голову выше ее шестнадцатилетнего сына. И, к несчастью, даже в залатанных штанах, из которых он давно вырос, и застиранной до дыр трикотажной рубашке он выглядел настоящим красавцем. Или хотя бы звали его иначе! А как он быстро освоился на заводе. Будто кинжал поворачивали в сердце тетушки Чизмаш, когда после смены все трое мужчин одновременно возвращались домой и старик начинал хвалить: «Из этого мальчишки такой выйдет формовщик, что его работу на выставке будут показывать. Наш уже третий год возится с чугуном, но стоит ему взять в руки форму, как она рассыпается. А этот не успеет взяться за дело, вымесить песок как следует, и у него клеится, потому что он работает с чутьем, оно у него и в сердце и в кончиках пальцев…» «Ступайте ужинать, сколько раз приглашать», – гневно обрывает его старуха и с такой силой вертит супницу, что «чужому Яни» почти не достается гущи… Старик и «большой» Яни ничего этого не замечали. К тому же «большой» Яни был очень замкнутым и мечтательным пареньком. Если бы ему дали время, он бы не отрывался от книг. Ему страсть как хотелось знать, что делается на звездах. Как-то раз ему довелось читать одну книгу: в ней говорилось, будто земля – всего только крошечная точка, будто сотни миллионов подобных земель вращаются, рождаются и погибают во вселенной. Вот хорошо бы понаблюдать за ними через гигантский телескоп! Однажды Яни собрался было рассказать об этом, но потом вдруг передумал – побоялся, что Хомок высмеет его или сочтет все это за грех, который надо будет замаливать. Впрочем, оба Яни жили дружно, и «большой» без зависти и ревности замечал, что в заготовительном цехе девушки чаще улыбаются не ему, а «малышу».
По мере того как летели годы, тетушку Чизмаш все больше снедала ревность к чужому парню, но тем не менее она не осмеливалась сказать мужу, чтобы тот выгнал «малыша». Младший Яни так прижился у них в семье, будто здесь родился и вырос. На рассвете вставал, приносил воду, рубил дрова, чтобы «мамаша» не утруждала больное сердце и опухшие ноги. Если иногда портился замок, он тотчас, достав напильник, щипцы, принимался за ремонт; если уходил на праздники к своему брату в Шомошбаню, то возвращался домой с десятком яиц, буханкой хлеба. Как-то в сорок втором году на пятнадцатилетием юбилее завода прибывшие из муниципалитета и министерства господа попросили показать им, как производится формовка. Чути подвел гостей к Яни Хомоку. Приехавший фотограф уже собирался было поджечь магний, но тут Яни подбежал к старому Чизмашу и сказал: «Вот мой отец, это он научил меня». Придя домой, «малыш» положил на кухонный стол свою премию – сто пенге в конверте. Тетушка Чизмаш не произнесла ни единого слова, убежала в комнату и горько заплакала. Ее родной Яни не получил ни гроша…
В сорок третьем году зазод стал военным предприятием. Яни Чизмаш к тому времени уже шестой месяц воевал на фронте. Яни Хомока тоже призывали, но сразу же отпустили домой. Мамаша на этот раз окончательно слегла в постель. Старый Чизмаш и «малыш» сами варили обед, убирали квартиру, стирали белье. Тетушка целый день лежала, отвернувшись к стене, плакала и молилась. Ее единственный, дорогой сынок, может быть, валяется где-нибудь, коченея от холода и истекая кровью… а этот, чужой, живет здесь и в ус не дует… Яни Хомок чувствовал ненависть убитой горем женщины и боялся сделать лишнее движение. Он больше не насвистывал, почти не разговаривал, а придя домой, прятался у себя в каморке. Заводские парни не раз звали его на футбол, в кино, братья Боршош проходу не давали, приглашая сходить с ними в клуб партии «Скрещенные стрелы», но, почувствовав, что он сторонится их, отстали. Яни Хомок все чаще подумывал о переезде на другую квартиру, но это, разумеется, было не так-то легко. Брат Иштван тоже ушел на фронт, и приходилось помогать его семье, да и тетушке Чизмаш надо было давать деньги; не мог же он оставить их в беде, ведь они вырастили его… Только бы вернулся с фронта их сын Яни, он сразу покинул бы их.
И рядовой Янош Чизмаш в ноябре сорок четвертого года действительно вернулся домой, но боже праведный, каким он вернулся! До того худым, что, казалось, остались только кожа да кости, а на месте левой ноги болталась пустая штанина. Ногу заменяли теперь два костыля, на которых он с трудом добирался от одного угла кухни до другого. Впрочем, несчастье произошло с ним уже давно, еще весной, но до сих пор его таскали по разным госпиталям.
Яни Хомок был сам не свой, когда увидел вернувшегося домой солдата. И хотя повторял он про себя, что не его в этом вина, все же чувствовал, что только из-за него пострадал «большой» Яни. Не попади он на завод, может быть, Чизмашу дали бы броню…
Как только домой пришел сын, тетушка Чизмаш тотчас же встала с постели. Она устроила своего Яни на кухне, укрыла полосатой периной и, усевшись рядом, принялась его ласкать. Яни несколько недель провалялся в постели с высокой температурой. Он жаловался на боль в ноге и на то, что не видит звезд. В таких случаях мать со слезами бросалась к нему: раз говорит о звездах, значит, собирается умирать…
Но под Новый год парню стало немного лучше. Он нет-нет, да и присаживался к столу, когда отец и «малыш» возвращались с работы. Садился, но почти не разговаривал. Младший Яни смотрел на его осунувшееся, худое лицо, на длинные, взлохмаченные светлые волосы, на усталый, старческий взгляд, и ему хотелось подойти и сказать: «Бей меня, оторви и мне ногу, скажи, чтобы я убирался отсюда…» Но он не находил в себе смелости нарушить молчание. Только старик изредка заговаривал о заводе. Хорошо еще, что в ту пору участились шестнадцатичасовые смены и надо было работать по воскресеньям. «Малыш» радовался, что ему почти не приходится бывать дома.
Как-то в конце января Яни Хомок вернулся с работы в два часа дня. Тетушки Чизмаш дома не было, она, очевидно, стояла в очереди за хлебом или молилась в церкви. Старый Чизмаш тоже работал в вечерней смене. На кухне были только оба Яни. Солдат читал газету, а младший прибивал к ботинкам подковки.
– Послушай, малыш, а не прогуляться ли нам немного? – спросил Яни старший.
– С превеликой радостью, – несколько удивившись, ответил Хомок. Что это бедняге пришло на ум гулять в такую лютую стужу?
Они прошлись по холодной, покрытой снегом улице Месеш. Раненый Яни, опираясь о плечо Яни Хомока, шел с трудом, тяжело дыша.
– Зайдем в корчму.
Яни Чизмаш не был любителем выпивать, а «малыш» и подавно. Но сейчас, усевшись в углу на приставленную к стене скамейку и облокотясь на голый стол, они заказали по бутылке вина. По соседству с ними сидели трое знакомых парней, близнецы Лапушики и бывший шофер заводской машины Андраш Варро, которого недавно привезли с фронта. Они подсели к ним, чокнулись. По-видимому, те трое уже изрядно выпили. Меховая шапка Варро свалилась на пол, кожаное пальто расстегнуто, но ему, очевидно, и так было жарко. Раскрасневшись, он рассказывал грубым, хриплым голосом о своих фронтовых подвигах:
– Еду я как-то рано утром на грузовике. На дороге метровый снег, вернее, дороги вовсе нет. в тех краях их не строят, разве что телега проедет да оставит след. Одним словом, еду я по опушке леса, вдруг откуда ни возьмись выскакивают девять партизан. Все с автоматами, в маскхалатах, издали и не заметишь на снегу. Вижу, люди они не здешние, какие-то турки или татары, глаза раскосые, друг с другом не разговаривают, а как-то воют по-волчьи. Тут я останавливаюсь, открываю дверцу да как закричу: «Спаси, господи!» Они, как черти от ладана, врассыпную…
Варро обвел глазами компанию. Облокотясь на стол, против него сидел Яни Чизмаш. Его русые волосы выбились из-под шапки, а серые, как сталь, глаза, казалось, впились в мутные глаза Варро.
– Ты что, не веришь? Не веришь, что это были настоящие черти? Я видел и таких партизан, которые ели человеческое мясо…







