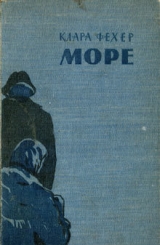
Текст книги "Море"
Автор книги: Клара Фехер
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)
– А что они там будут есть, несчастные?
– Что ж, я им буду носить кое-что…
– Шестерым? Да ведь они и приготовить ничего не смогут.
– Два-три дня можно поголодать.
– Я не возражаю. Пожалуйста, вот вам ключи. Марика даст немного сала. И будьте осторожны, дорогой господин Марьяи, чтобы, боже упаси, кто-нибудь из посторонних не заподозрил.
– Все будет в порядке. Да воздаст вам за это бог, – быстро произнес Марьяи и спрятал ключи в карман.
Вернувшись домой, Марьяи еще в коридоре услышал приглушенные голоса, раздраженный спор.
– Боже мой, да они с ума сошли, – подумал он и дрожащими от волнения руками повернул ключ в замке.
Все сразу умолкли.
Беженцы стояли возле дивана, на котором сидел пятнадцатилетии?! Чаба с пунцовым лицом.
– Чтобы я больше ни слова не слышал, – сказал Шпитц мальчику, затем простер руки в сторону вошедшего Марьяи.
– Наконец-то вы пришли, наш добрый спаситель.
– Что здесь происходит? – гневно спросил Марьяи. – По всей лестнице слышно. Вы что, и на складе собираетесь так орать?
– Я же говорил, чтобы ты заставил сына замолчать, – раздраженно повернулся Шпитц к Комору.
– Будьте спокойны, он будет молчать.
Чаба Комор, глядя на пол, упрямо повторил:
– А я не согласен. Или мы возьмем с собой и Пишту, или я тоже не пойду.
– Хотел бы я видеть… ты…
Чаба передернул плечами, сунул руки в карманы и подошел к окну. Некоторое время он смотрел на серый, мокрый от дождя тротуар, затем обернулся.
– Мы обязательно должны взять его с собой, потому что рассказал Пиште, где мы будем прятаться.
– Ты с ума спятил? Злодей!
Лицо Шпитца посинело от злости. Он поднял кулаки, как бы собираясь наброситься на племянника.
– Я убью его! – вскричал Комор.
– Оставь… Ой, что ты наделал, сынок? – заплакала госпожа Комор.
– Может быть, вы и мне расскажете, что здесь происходит?
Чаба повернулся к Марьяи.
– Иштван Бенедек, шестнадцатилетний парень, мой двоюродный брат…
– Троюродный! – воскликнул Шпитц.
– Прошу вас, господин Шпитц, говорите тише.
– Простите. Он совсем вывел меня из терпения.
– И к тому же самый лучший мой друг. Если вы не спрячете его, я тоже не пойду.
– Как прикажете. Хоть всю байскую общину, – сказал Марьяи. – Вместо шести придется кормить семь. Вместо шести семеро будут там горланить, пользоваться уборной, умывальником, ходить взад и вперед. Это госпоже Кинчеш не очень-то понравится. Она и так три раза подчеркивала в разговоре со мной, чтобы вы вели себя тихо, не стучали ногами…
– Ты все равно не сумеешь дать ему знать… отсюда мы прямо перейдем на склад, – сказала сыну госпожа Комор.
– Он ждет меня внизу, у соседских ворот.
– Боже милостивый!
– Вы идите себе на склад, а я с Пиштой или умру, или выживу…
– Прибавьте еще пять тысяч, и пусть идет и тот, – согласился Марьяи.
– Но скажите, бога ради, откуда нам их взять? – сложил руки Шпитц. – Ведь мы уплатили вам пятнадцать тысяч.
– Но в них не входил дружок вашего сына. Конечно, мне все равно, он и сам может уплатить за свое содержание.
– Он не заплатит… он сирота, работал у нас в магазине мальчиком на побегушках… Ну, пускай, я уступлю ему свою порцию, – настаивал Чаба.
– Да. А сами будете подыхать с голоду, мне не хватало еще возиться с вашим трупом! Не знаю, зачем я только связался с вами. Я бедный маленький чиновник, никогда не нарушал законов, а тут – на тебе, приходите вы. Заставляете идти и упрашивать госпожу Кинчеш, носить вам продукты, еще, чего доброго, сломаете водопроводный кран, засорите сточную трубу или, не приведи господь, начнете курить при незатемненных окнах, накличете на меня нилашистов или гестапо… Вы ведете себя так, будто эго для меня какая-то блестящая сделка.
– После войны отдадим и эти пять тысяч.
– Оставьте при себе эти сказки, сударь. Моя бедная матушка, да будет ей земля пухом, работала акушеркой. Она учила меня, что человек, попав в беду, многое обещает, но, как только проходит опасность, тут же забывает об этом. Когда женщины рожают, они причитают, стонут, кричат, клянутся. Дорогая, добрая тетушка Марьяи, бог вас не забудет, помогите мне – подарю вам чудный платок, красивое шерстяное платье, принесу голову сахара, золотую цепочку… Ой-ой, помогите только… Потом родится ребенок, и нет ни цепочки, ни платка, ни дорогой тетушки Марьяи.
– Даю еще две тысячи пенге, – произнес Комор и убийственным взглядом уставился на сына. – Две тысячи пенге – и можете хоть обыскать, вывернуть карманы, не найдете у меня больше ни гроша.
Марьяи задумался.
– Ну что ж… раз он сирота. Пусть будет по-вашему.
Семнадцать тысяч пенге он спрятал в коробку из-под кофе, затем сунул ее в маленький ларец, ларец перевязал шпагатом и отнес в другую комнату. Там открыл нижний ящик комода и тщательно замаскировал свою «копилку» среди кучи старых чулок и поношенных кальсон. Потом запер и ящик комода и комнату.
– Идемте на кухню, у меня найдется немного хлеба и сала, можно будет перекусить, и, кстати, решим, как нам перебраться на склад.
Голод
Вспоминая все пережитое, Агнеш подумала, что она сошла с ума. Произошло это утром. Она отмерила дневную порцию варенья и щепотку таргони, затем улеглась на меховую подстилку и посмотрела на часы. В одиннадцать можно съесть половину. В пять часов вторую половину.
Около десяти часов утра начался воздушный налет. Обычный утренний налег: опустела улица, грозно загудели самолеты, затрещали пулеметы, закашляли зенитные орудия, послышались взрывы бомб и жалобно заскрипели окна и двери. Агнеш, помертвев от ужаса, прижималась к стене. Ей хотелось есть. Она корчилась от мучительной боли в желудке, все надеясь, что через несколько минут боль пройдет, прекратятся колики и на пару часов забудется голод.
Но спазмы от голода становились все более мучительными. Сжавшись, Агнеш ухватилась рукой за живот. В этот момент послышался резкий треск, как будто в дом ударила молния. Затем раздался страшный грохот, посыпались кирпичи, щебень, с потолка отвалился кусок штукатурки и перекрытие в этом месте стало похоже на разорванный живот тряпичной куклы. Одна из запертых дверей распахнулась. Но стекла в окнах уцелели, словно ничего не произошло.
Где-то поблизости упала бомба.
Какое-то мгновение Агнеш сидела в оцепенении. Она испуганно смотрела расширившимися зрачками на валяющиеся повсюду куски штукатурки. Затем снова ощутила голодные боли. Жжение подступало к горлу. Хотелось есть. «Еще нет и одиннадцати часов, – робко подумала она. – Придется подождать. А зачем? Чтобы и сюда попала бомба и я погибла, так вдоволь и не поев? Нет, надо ждать». Но, вопреки решению, принялась запихивать в рот прямо пригоршнями сырую таргоню, глотать варенье, причем не только то, что полагалось на этот день, но и остальной запас. Она больше не чувствовала ни вкуса, ни сытости; выпучив глаза, торопливо уничтожала все, что только попадалось под руку. Спазмы в желудке сменились тяжестью, колотьем. И, когда, кроме пустых банок и опорожненных мешочков на полу, ничего не осталось, Агнеш оцепенела от ужаса. До чего довела ее жадность! Что она натворила? Что же теперь будет?
А между тем голод удалось унять только на несколько часов.
Агнеш уснула.
Проснулась она поздно ночью и сразу же почувствовала голод, но теперь уже не желудком, а каждой частицей своего тела.
И – в который раз! – принялась снова обыскивать склад.
Обшарила полки, выдвинула ящики письменного стола. Напрягая нервы, в надежде найти что-нибудь съедобное ощупывала и обнюхивала все.
Агнеш откусила немножко ванили. Рот наполнился едкой, приторно сладкой слюной. Словно пьяная, Агнеш вывернула все мешочки с пряностями, взяла в рот лавровый листок, сжевала крупинку черного перца, проглотила несколько зерен кофе и, обессиленная, снова легла на пол.
Все ее продовольственные запасы иссякли. Будь она предусмотрительна, экономна, то, пожалуй, могла бы протянуть еще недели две. Но какая разница? Все равно война так скоро не кончится. Этой войне вообще не будет конца. Ведь она вытерпела жажду. А жажду терпеть гораздо труднее. Но вода могла пойти снова, колбаса же и хлеб не свалятся ей в дымоход, она живет не в сказочной стране.
Три дня продолжались умопомрачительные голодные боли.
Агнеш казалось, будто внутренности ее судорожно сжались и наполнились жгучей, едкой кислотой. Она спала мало и тревожно вздрагивала через каждые пятнадцать минут. Погружаясь в забытье, видела один и тот же сон: стоит жаркий летний вечер, вместе со своими школьными подругами она совершает экскурсию в Будайские горы. Прежде чем вернуться домой, они расположились под мирным, звездным небом на отдых и на пылающем костре среди высокой травы жарят сало. На конце вертела румянится лук. Агнеш кладет кусок сала на большой ломоть белого хлеба, во рту у нее собирается слюна. Сало еще как следует не зажарилось, но ей уже хочется вцепиться в него зубами, и, забыв об осторожности, она неловким движением опрокидывает вертел в огонь.
На четвертый день наступает период «водопоя». Изнемогая от жажды, Агнеш набрасывается на водопроводный кран и, захлебываясь, с жадностью пьет прохладную влагу. У нее начинают пухнуть лодыжки, голени; стоит только прижаться к ножке стула, к косяку двери или просто нажать пальцем кожу, как на месте нажатия остается, словно в тесте, глубокая ямка. Дышать становится все труднее и труднее, будто и сердце и легкие гоже наполняются водой. А жажда тем не менее продолжает мучить.
На третий или четвертый день, когда она лежала в забытьи, дверь склада открылась.
Топот ног, хлопание дверей на какой-то миг привели ее в себя.
Кругом царила непроглядная тьма, но пришельцы не стали зажигать спички, очевидно, из опасения, что склад не затемнен.
В мозгу Агнеш молнией сверкнула мысль, что на склад проникли воры в расчете найти здесь залежи товаров, или нилашисты устроили облаву. Она подумала, что необходимо встать, спрятаться в нише за прилавками, укрыться мешками. Но на это у нее уже не было сил. С безразличием прислушивалась она к нарастающему шуму. Возня слышалась теперь где-то совсем рядом.
Вот голоса донеслись до нее справа, из отделения красителей. Да, они здесь, в соседней комнате. Но дверь заперта. Какое счастье… Но почему счастье? А вдруг именно запертая дверь вызовет подозрение?
Вот она уже слышит и обрывки разговора. Но странно, почему это они так тихо разговаривают, будто перешептываются друг с другом? Может быть, она оглохла? Ведь сколько недель подряд Агнеш не слышала ни единого человеческого голоса, одни только взрывы бомб… Может быть, ее контузило воздушной волной?
Но нет. Вот она совсем ясно слышит, как кто-то громко, совсем громко спрашивает: «А эта дверь куда ведет?» И тут же многие голоса зашикали. «Осторожно, тише!» «Ой, забыл». «Вы уж лучше не забывайте об этом, иначе я не отвечаю за последствия. И не выходите, пожалуйста, из красильного. Туалетной пользуйтесь осторожно и только на рассвете. Я буду наведываться ежедневно, но не знаю, в котором часу. Буду приносить вам еду и газеты и, если хоть раз застану кого-нибудь в переднем помещении или в другом отделении склада, немедленно лишу убежища. Я, как вы сами понимаете, не желаю рисковать своей шкурой». «Все будет в порядке, дорогой господин Марьяи, – ответил мужской голос. – Будьте совершенно спокойны». «А я далеко не спокоен. Прошу вас делать все, как я сказал. Господин Шпитц, вы отвечаете за соблюдение порядка. И, да благословит вас бог». «Надеемся, недолго пробудем у вас в гостях». На что какая-то женщина сказала: «Мы все во власти божьей».
Агнеш слушает, не смея даже пошевельнуться. Так вот в чем дело! И они останутся здесь взаперти? Сколько их? Кто они? Неужто крестной известно об этих людях? Может быть, и она будет заходить сюда?
«Я не одна! Боже мой, как хорошо, что я не одна!» Мысленно она уже устремляется к двери, поворачивает ключ в замке, бросается на шею незнакомым людям, расспрашивает их о том, что слышно на свободе. Где проходит фронт? Сколько будет еще продолжаться война? Не найдется ли у кого газет? А хлеб? Кусочек хлеба! А что, если они дадут кусочек хлеба! Только кусочек хлеба. Во время воздушного налета она сможет прижаться к другому живому существу, видеть человеческие лица! Люди на необитаемом острове!
Ока пытается встать, но у нее не хватает сил даже пошевельнуться. Боже, что это? Что с ней случилось?
Агнеш пробует сесть, но голова ее все тяжелеет, пол начинает раскачиваться из стороны в сторону. Надо бы открыть окна, какая страшная жара… Не окна, а двери… Зачем ей понадобилось открывать двери?..
В красильном отделении еще долго слышатся шаги, шепот и вздохи. Но Агнеш больше ничего не слышит.
Соседи
Первым проснулся Чаба Комор. Ничего не понимая, он посмотрел вокруг и сел. В просторном, полутемном помещении стояли пустые стеллажи, бочки из-под краски, ящики. На полу, подстелив одеяло, спали его родители, брат Иван и друг Пишта. В противоположном углу устроилась семья его дяди Шпитца.
Господин Шпитц тоже не спал.
Некоторое время он прислушивался, затем, убедившись, что никто не двигается, встал, подкрался на цыпочках к полке, отрезал два куска хлеба и колбасы и, набив себе полный рот, взялся подкармливать зашевелившуюся во сне жену.
– Ну-ка, быстро ешь.
Чаба Комор покраснел, закрыл глаза и сделал вид, будто спит.
Иожеф Шпитц посмотрел на часы. «Четверть восьмого. А между тем еще совсем темно. Да, нелегко здесь будет проводить дни!» – подумал он.
В восемь часов утра Шпитц устроил общий подъем.
Началась ссора.
Мальчикам не хотелось вставать. Им было холодно, да к тому же дел все равно никаких, почему бы еще не поспать?
– Зайдет кто-нибудь на склад, увидит одеяла…
– А если вместо одеял увидят нас, разве это лучше? – спросил Иван Комор младший, оставаясь в постели.
Затем начались неполадки в туалетной.
Вошел Шпитц и стал яростно кричать.
– Устроили возле умывальника такую лужу, что твой Атлантический океан. Только слепой не заметит, что здесь прячутся люди.
– Но, дядя Йожи, что вы говорите, ведь я же следила за порядком. Зачем постоянно дрожать от страха? Кто сюда зайдет?
– Кто зайдет? Откуда мне знать. Кто угодно. Госпожа Кинчеш, Марьяи, дворник, гестаповцы, нилашисты, жандармы. Ты думаешь, я зря плачу столько денег!..
– Что касается платы, то и мы внесли свой пай, – зашипела осмелевшая госпожа Комор.
– И ты еще защищаешь своих сынков, вместо того чтоб учить их уму-разуму!
– После дяди Йожи тоже надо вытирать в туалетной, он брызгает и расплескивает воду, как настоящая турбина…
– За собой следи, меня не учи, сопляк.
– Может быть, ты перестанешь грубить моему сыну.
– Попридержи язык. Я здесь начальник.
У него на все был один ответ: я здесь начальник. Он распределяет продовольствие, потому что он начальник. Приказывает немедленно приступить к молитве, потому что он начальник.
Обе женщины действительно молились с утра до вечера. А вот у господина Шпитца оказалась колода карт, и он играет со своим шурином в очко на спички – расчет после войны. Три мальчика, пользуясь затишьем, или отправлялись на разведку, или забивались куда-нибудь в угол, затевали спор о чем-нибудь.
Особенно их волновала запертая дверь конторы. Чаба пытался отпереть замок проволокой, заглянуть в скважину.
– Знаете, сегодня ночью я слышал в соседней комнате какой-то стон.
– А может, это был твой собственный храп?
– Не болтай. Даю голову на отсечение, что там кто-то скрывается.
– Ясное дело, скрывается. И через потолок ему приносят еду. А что, если там не человек, а привидение?
– Вот открою дверь, и посмотрим.
И Чаба, достав гвоздь, принялся отпирать замок.
Шпитц уже несколько минут с негодованием наблюдал за племянником. Наконец он не вытерпел и закричал:
– Сейчас же отойди от двери. Ты слышал, что господин Марьяи велел ни к чему не прикасаться? Не хватало еще, чтоб ты взломал дверь. Доставай свой молитвенник и проси у милосердного господа бога милости… Не перечь мне, я здесь начальник.
Чаба с недовольным видом убрал гвоздь, но тем не менее не отказался от своего твердого намерения когда-нибудь проникнуть в контору. Если даже ничего там и не найти, то можно хоть время скоротать.
– Ну что, почему вы не начинаете? – закричал через полчаса Шпитц.
– Мы молимся, дядя Йожи, – ответили они хором и продолжали спорить, сидя друг подле друга на бочке из-под краски.
– Это философия почтенных баранов и ослов, – произнес Иван. – А ты, Чаба, еще твердишь, что если в тебя бросят камень…
– Я говорил не так.
– Нет, так. Разве нет? Если меня ударят по правой щеке, я не стану подставлять левую. Заклеймили? Нацепили желтую звезду? Ну и пусть! Выгнали из школы, преследуют меня, первого ученика в классе? Ну и пусть! Я горжусь, что на меня плевали. Родился евреем? Я не отрицаю, не скрываю, это бесполезно, они все равно догадались бы. Я еврей? Ну и что из этого? У меня два уха, два глаза, нос, волосы, я такой же человек, как все другие. Тот – венгр, другой – поляк, третий – француз, а я – еврей. И я готов уехать к себе на родину, где никто не будет меня бить и издеваться над моей национальностью. Над китайцами издеваются в Нью-Йорке, но попробуйте глумиться над ними в Кантоне.
– И глумятся! – воскликнул Пишта. – Глумятся, избивают, обижают, если ты хочешь знать. Разве ты не читал «Шанхайский отель» или путевой дневник Эгона Эрвина Киша? Глумятся, и в европейский квартал Шанхая китайцам запрещают даже входить. Хозяйничают белокожие господа, а китайцы – кули.
– Не все.
– Но десятки тысяч. А им куда бежать? Ведь они же у себя дома, в Китае.
– Эх, чего тут толковать о китайцах да о колониалистах? Там положение иное. Их хоть можно отличить друг от друга. А поставь-ка меня рядом с моим одноклассником-христианином. У меня даже нет горбатого носа и курчавых черных волос, и кафтана на мне не увидишь. Во мне узнают еврея, только когда посмотрят метрическую справку деда. Я не еврей, я говорю по-венгерски, люблю стихи Петефи и при слове «родина» сразу же вспоминаю дома в Байе, набережную Дуная, сквер, памятник Андрашу Йелки. И, как я ни пытаюсь представить себе Тель-Авив, он для меня совершенно чужой.
– А если вышвырнут, скажут: уходи? Или даже убьют? И тогда останешься венгром?
– И тогда, – ответил раскрасневшийся Чаба. – Я страдаю потому, что мой отец родился евреем. Может быть, нашим детям тоже придется страдать из-за их дедушки. Но уж наши внуки страдать не будут. Я женюсь на венгерке.
– Вот именно, чтобы потом жена обзывала тебя паршивым евреем. А? И бросила тебя.
– Ну и пусть. Велика важность. В моем внуке будет только четвертая часть еврейской крови. А в правнуке…
– Что это, господин Чаба, вы начинаете делать так, как велят нюрнбергские законы?
– Ты что, не понимаешь? Считаешь, что Иван прав?
– Разумеется… Напрасно ты собираешься все это делать, ни твой внук, ни правнук, ни правнук твоего правнука не смоют с себя желтой звезды. Гейне уж как ни выдавал себя за немца, а все же и теперь его книги сжигают на кострах. Верно, Пишта? Надо вернуться на родину праотцев.
– Ваша беда в том, что вы все сводите к одному антисемитизму. Вопрос не только в нем, и не от него надо спасаться, вернее, не только против него надо бороться, а вообще против всякой расовой вражды.
– Превосходно! Сейчас? Сидя здесь, на проспекте Карой, в запертом складе, второй день голодая? На нас в любую минуту может обрушиться небо, а ты мне советуешь бороться за каких-то китайцев!
– Эх, что с вами спорить. Пока будут существовать буржуи, заинтересованные в том, чтоб разжигать грызню между, евреями, христианами, магометанами, венграми, словаками, немцами, французами, городами, деревнями, рабочими и служащими, ты напрасно будешь искать спасения в Палестине, потому что и там тебя ухлопают, напрасно будешь подделывать метрику, все равно прикончат.
– Вот как вы молитесь, свиньи? Вот о чем болтаете? И еще удивляетесь, что всемогущий бог обрушил на нас такое наказание, – со злостью произнес дядя Йожи.
Мальчики, ворча, достали молитвенники и притихли в ожидании момента, когда снова можно будет затеять горячий, пусть и бесплодный спор.
Два дня прошли без всяких событий. Под вечер явился Марьяи. Принес вечернюю газету, хлеб и сало. Он повторил свои обычные наставления: не стучать ногами, не разговаривать, не разбрызгивать воду в туалетной.
– Молитесь, чтобы поскорее выбраться отсюда, – сказал он. – Я впервые в жизни нарушил закон и с тех пор не знаю покоя ни днем, ни ночью.
На третий день Марьяи не пришел. Не пришел он и на четвертый и даже на пятый день.
Это, однако, не значит, что он не хотел прийти. В воскресенье после обеда, рассовав по карманам сало, рафинад, бутылку рома, взяв под мышку буханку хлеба, он начал осторожно пробираться в сторону проспекта Карой. Темная улица была полна опасностей. Повсюду зияли воронки от бомб, среди развалин торчали осколки стекла, куски кирпича, проволока. А по небу шныряли истребители, обдавая друг друга потоками огня. Но Марьяи пугало не только это. Охваченный ужасом, он мысленно боролся с другими возможными опасностями. Если тот нилашист, что стоит на углу улицы, подойдет к нему и потребует предъявить документы, а потом спросит, куда это он несет хлеб. «Домой». «Так. Домой. Стало быть, ты, одинокий холостяк, приобрел столько хлебных карточек. Значит, ты воруешь хлеб?» «Нет-нет… я несу одной знакомой семье». «Ага, евреев прячешь! А ты знаешь, что за это полагается?» И нилашист достанет свисток, засвистит, прибегут жандармы, свяжут его, два ружейных залпа…
Нет, это была настоящая стрельба. Марьяи, оцепенев от страха, прижался к дому. По мостовой, окруженные жандармами и нилашистами, молчаливо брели нескончаемой толпой еврейки, пятнадцати-шестнадцатилетние девушки с вещевыми мешками и чемоданами. После выстрелов какая-то девушка в коричневой шапке – в темноте нельзя было разглядеть черты ее лица – зашаталась и свалилась на землю. Кто-то вскрикнул, но толпа продолжала шествовать дальше, переступая и обходя окровавленное тело.
Марьяи почувствовал тошноту. Он не в силах был оторваться от стены. Колонна уже давно скрылась на улице Дохани, а он, тараща остекленевшие глаза, все еще не двигался с места, будто и его настигла пуля.
После этого он целых три дня даже и думать не решался о складе.
А заточенные там люди ломали голову в догадках, почему он не идет. Было около шести часов. Прежде он навещал их в более раннее время.
Шпитц нетерпеливо барабанил пальцами.
– Не надо было давать деньги вперед. И почему я не подумал об этом. Столько времени не показываться. А может, он совсем не придет? Его не волнует, что мы подохнем тут с голоду.
– Полно тебе. Наверное, не приходит из-за воздушных налетов.
– Да вчера и налета не было.
– А может быть, с ним случилось несчастье.
– Ну, тогда мы пропали.
Мальчики, съежившись, по-прежнему сидели молча. Спорить больше не было охоты. Обе женщины, стоя у окна, в полной темноте неразборчиво бормотали слова молитвы и плакали.
Шпитц расхаживал взад и вперед по складу. Сейчас он пошел бы с кулаками против всех на свете.
– Эх, и скотина же я… зачем было соваться в эту клетку, в эту камеру смертников… Даже покурить нечего. С ума можно сойти. Мы здесь подохнем с голоду. Погибнем от бомб. Повешусь… И почему я не потребовал от него гарантий… За такие деньги папскую охранную грамоту могли получить…
– Ты уговаривал нас идти сюда.
– А почему уговаривал? Потому что ты сказал, что гарантия ничего не стоит, что напрасно швейцарцы или шведы пытаются брать кого-то под свою защиту, раз немцы не признают гарантий. Ну, а если бы и нацисты подписали, разве изменилось бы от этого наше положение? Главное – не попадаться им в руки, главное – не попадаться… Вот мы и спрятались.
– Может быть, он не идет потому, что сегодня воскресенье.
– Конечно, в воскресенье сам бог отдыхал. Но в нашем договоре ни слова не было о том, что он будет устраивать себе выходные. К тому же сегодня не воскресенье, а понедельник. Осталось на семерых двести пятьдесят граммов сухарей и ничего больше.
Комор сидел на пустой банке из-под краски и, протирая очки, пожимал плечами.
– Изменить положение уже не в наших силах. Придется сидеть и ждать прихода Марьяи. Если он не придет сегодня, то придет завтра. Как-нибудь вытерпим, – сказал он.
– А как добыть газеты?.. Я с ума сойду, если не буду знать, где проходит фронт. Ты заметил, какую глупую рожу он скорчил в субботу, когда я спросил у него, что нового. Какое ему дело до войны. Он же здесь не прячется.
– Нашелся добрый человек, а ты его ругаешь.
– За двадцать тысяч пенге и я могу быть добрым. Кстати, это из-за тебя мы не эмигрировали в Палестину.
– Из-за меня?
– Ну, конечно. Если бы ты не возился с шотландкой, а продал сразу одной партией… Эх, да что толковать.
Шпитц отошел в дальний конец помещения, повязался молитвенным ремешком и, расхаживая взад и вперед, забормотал слова молитвы. Вскоре он снова обратился к шурину:
– Послушай, я уйду отсюда.
– Что?
– Если господин Марьяи еще изволит явиться… но если нет, тогда будь что будет, а я уйду. Достану швейцарский паспорт. Уедем. Уеду к людям, где я смогу открывать дверь, когда захочу. Я не в силах больше терпеть. Я задохнусь. Покончу с собой. Как подумаю, что здесь придется провести еще ночь, или две, или десять… И кругом тревога…
– Тсс, помолчи…
– Что еще?
– Не слышишь? Кажется, кто-то… ходит.
– Ничего не слышу.
– Как же, только не со стороны переднего помещения… шум донесся вот отсюда, будто даже ключ щелкнул.
Оба они подошли к запертой конторе и прислушались. Но за дверью царила полная тишина.
– Пойдем в переднее помещение.
Там никого не оказалось. Замки снаружи висели на своем месте. В туалетной тоже было пусто.
– А между тем здесь кто-то был. Посмотри. Мокрый умывальник.
Комор пожал плечами.
– Он мог остаться мокрым с утра.
– Как бы не так.
– Может быть, дворник приходил.
Шпитц подошел к конторе и дернул дверь. Но и она была заперта.
– Эх, как видно, нервы сдают… Говорю же тебе, что я не могу больше. Если придет Марьяи. я уйду отсюда.
Комор молча пожал плечами. Все равно в этой войне не уцелеть, как ни поступай, ничего от этого не изменится.







