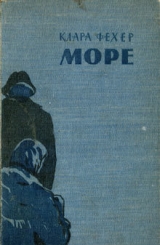
Текст книги "Море"
Автор книги: Клара Фехер
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)
– Я вас не узнаю, вы стали поэтом, философом, а главное – коммунистом.
– Нет, я не коммунист, – серьезно возразил Чути. – Но и не считал бы это звание для себя оскорбительным. Я не могу быть коммунистом из-за своей инертности. Я только размышляю, гадаю, дескать, действительно бывают такие часы, когда нельзя останавливаться на полпути, надо примкнуть к тем или другим, но…
– Вредно терзать себя подобными мыслями. Судьбы мира сего вершатся без нас, не наше это дело. Спрятаться. Ждать. Ибо чего стоит победа самой священной идеи, если человек отдал богу душу? Кого зарыли в землю, тот уже не проснется. Нет ни загробного мира, ни страшного суда, ни воскресения. В бесконечном времени нам предоставлена возможность только родиться. Повторения нет. Извольте же разумно распорядиться своей жизнью.
– Не могу согласиться с вашим суждением, Тибор. Оно эгоистично.
– Возможно. Но это, вопреки всем иным доводам, – единственная искренняя позиция. Я могу поверить, что материалисты правы. Материя объективна, извечна и вечна, могу ли я ее ощущать своим мозгом, этой крошечной частицей бесконечной материи, или нет? Белок синтезируется и распадается, атомы взрываются, и возникают солнечные системы, но моя жизнь есть нечто закрытое в самом себе. Вселенная мне не дает больше того, что я могу ощутить своими органами чувств. Если через пять минут после смерти у меня начнет разлагаться мозг, я больше уже не буду ощущать рек, неба, вкуса хлеба и сладости объятий. Перестану помнить о тех, кого я больше всего любил, забуду самое любимое свое стихотворение. Бесконечная материя будет продолжать свое существование, распадающиеся частицы моего тела будут пребывать в целом, в бесконечном. Но преходящая, слабая жизнь, мое сознание, мое «я» погибнет. Я должен защищать его всеми средствами сам.
– Мед потечет!
– О, простите, ведь это дорогой клад, – ответил Тибор и быстро подставил язык под стекающий с хлеба мед.
– Ваша логика может сделать человека только несчастным.
– Нет-нет, я поистине счастливый человек. Я довольствуюсь хорошей книгой, красивой картиной.
– А когда всего этого нет? Когда идет война?
– Память о прекрасном…
– А если и памяти нет? Если бы вы случайно оказались поденщиком, барским холуем? Если бы вы никогда не знали Одиссеи, никогда не слыхали о Леонардо да Винчи или Микеланджело?
– Тогда природа, ее красоты, цвета…
– Природа? А если бы вы родились в шахтерском районе? Я имею в виду не сибирские свинцовые рудники или сицилийские серные шахты. А Татабаню или Мечексаболч, где одиннадцати-двенадцатилетние ребятишки работают в сортировочном отделении за четыре филлера в день и через год отцы прибавляют сыновьям по пять-шесть лет, только бы их взяли в вагонетчики… Приходилось вам, Тибор, бывать в наших шахтерских городах? Дым, туман, копоть, немощеные, грязные улицы, в шахтах ручной труд, устройств по охране труда почти не существует, жара, заработки нищенские. Дети горняков даже двух классов не кончают.
«Я говорил вам о своей жизни, а не о жизни вообще», – собрался было ответить Тибор, но только свистнул, так как у него от меда заныл зуб.
– Знаете, Тибор, счастье начинается с того момента, когда человек впервые приносит обществу пользу, – сказал Чути, – И если вы инженер, то плавьте металл не только ради того, чтобы вам за это заплатили, а служите этим человеку…
– Служить человеку? Кто знает, когда делаешь добро своему собрату? Моя бабушка родилась в Трансильвании, она очень любила мамалыгу. А я терпеть не мог. Но тем не менее бабушка каждый день запихивала мне ее в рот, утверждая, что мамалыга полезна.
– Добро и зло, польза и вред – это не только вопросы вкуса. Туберкулез, несомненно, плохая вещь, а рабочее помещение с хорошей вентиляцией весьма хорошее дело. Сырая, грязная квартира – плохо, современная, солнечная квартира с ванной – хорошо.
– А как же иначе? Взрывчатка в шахте – полезная вещь, в снаряде – вредная. Мечта, вознесшая Икара к небесам, – хорошо, «Мессершмидт» – плохо. Чугун – хорошо, если из него делают печки и колеса паровоза, но если гранатные кожухи…
– Да, если гранатные кожухи… – пробормотал Чути. вздыхая. – Ну, попытайтесь разбудить вашего друга. Через полчаса поедем. Я подвезу вас на своей машине. Куда вас доставить? К родителям?
– Нет, ни в коем случае. Дома мне нельзя появляться из-за соседей. Есть у меня друг в больнице Святой Каталины, – ответил Тибор. – Если бы вы не отказали подбросить нас туда, я был бы вам благодарен.
– С большим удовольствием. Если только по дороге в нас не угодит какая-нибудь бомба.
Золотое дно
Кати Андраш работала в шляпном салоне «Милочка» на улице Шандора Петефи. Когда участились бомбежки, полковник Гуидо Галфаи прислал своей жене письмо:
«Я всегда полагался на твою расторопность и практичность, дорогая. Но сейчас умоляю больше не рисковать. Садись на первую попавшуюся машину и поезжай следом за мной в Шопрон. Брось к черту шляпы, сейчас не до них». Госпожа Галфаи показала письмо своей подруге Амалии и гордо засмеялась. Он опасается за нее! Вздумал советовать, чтобы она бросила это золотое дно! Она, конечно, поедет, но поедет, когда сочтет нужным, с полной шляпой золота!
В шляпном салоне не прекращалась работа ни днем, ни ночью. И хотя в момент, когда в дом попали две мины, потолок примерочного зала обвалился, огромное венецианское зеркало, журналы мод, мебель погибли и телефон с тех пор безмолвствовал, тем не менее от заказчиков не было отбоя. Графини, баронессы, жены министерских советников, генералов, даже несмотря на самые яростные обстрелы, или приходили сами, или, чаще, присылали своих слуг со всякого рода просьбами. Они дюжинами заказывали теплые меховые шапки, модные тюрбаны, муфты – вещи, необходимые для поездки на запад в нетопленых загонах, по холодным шоссе, с вынужденными стоянками из-за бомбежек. И платили за шляпы, почти не считаясь с расходами. Железная кассета госпожи Галфаи изо дня в день пополнялась новыми пачками стопенговых ассигнаций, драгоценностями, золотым ломом.
Из прежнего, выходившего во двор, темного и сырого помещения мастерская перебралась в настоящий подвал. Сначала под нее заняли опустевший дровяной склад. Сюда перенесли швейные машины, болванки, утюги, ценные колпаки, меха, материю, Шелк и гнули спины с раннего утра до полуночи при желтом свете стосвечовой лампочки. В крошечной каморке восемь девушек влажными от сырости руками, корчась от боли в пояснице, шили красные, синие, розовые тюрбаны. Они не успевали выполнять даже четвертой доли заказов. В середине ноября госпожа Галфаи решила расширить свое предприятие. Она дала начальнику ПВО и дворнику по пять тысяч пенге и за это получила в свое распоряжение весь дровяной подвал под фронтоном огромного дома, выходящим на улицу Шандора Петефи. Это, правда, означало, что дрова сорока семей надо было перенести в конец подвального коридора. К счастью госпожи Галфаи, топлива оказалось очень мало: часть семей – одни по собственной воле, другие по воле нацистов – скиталась где-то в Задунайском краю или в Германии.
Госпожа Галфаи, расширив свое предприятие, дюжинами принимала модисток. На единственное объявление сразу явилось не менее семидесяти молоденьких девушек и пожилых женщин. Они предъявляли уйму документов, метрические выписки, дорожные удостоверения, свидетельства о прописке, справки с места жительства, рассказывали путаные истории о бегстве из Трансильвании, о родственниках, у которых якобы собирались погостить, но не застали их дома, о воздушных налетах, о том, будто они опоздали на поезд, потеряли чемоданы и не смогли уехать. И, что удивительно, все они за гроши соглашались на любую работу, все готовы были отказаться от жалованья, только бы остаться здесь и получить тарелку горячей пищи.
– Смотри, это все еврейки… Ты когда-нибудь с ними влипнешь, – предупреждала госпожу Галфаи ее подруга, сорокапятилетняя старая дева Амалия, которой по фигуре можно было дать двадцать лет, а по морщинам на шее и все шестьдесят.
Амалия, между прочим, не интересовалась политикой и ненавидела войну исключительно из-за того, что у парикмахеров не стало перекиси водорода и хны, а ее пышные соломенно-желтые волосы успели отрасти на целых два пальца и были у корней совершенно седые.
– Ну и пусть, какое мне до этого дело, – отвечала госпожа Галфаи. – Работают хорошо, а остальное меня не касается. – После непродолжительного раздумья она добавляла: – Теперь столько кругом преступлений… не мешает иногда подумывать и о спасителе, о милости божьей…
В какой мере молодые беженки могли помочь хозяйке шляпного салона очиститься от земных грехов, не известно. Зато известно, что они помогли ей преуспеть в этом мире. Пятого ноября тысяча девятьсот сорок четвертого года госпожа Галфаи записала в своем зелененьком блокноте под графой «Состояние» тридцать четыре тысячи пенге наличными и сто граммов золота, а двадцать восьмого ноября – сто семьдесят пять тысяч пенге наличными и пятьсот граммов золота. «Что я, дура, прекращать сейчас… Поработаю еще хоть месяц».
В конце подвала лежали рядами соломенные матрацы. На них спали девушки, которые «не решались ходить домой из-за бомбежек». Как бы рано госпожа Галфаи ни приходила в мастерскую, эти работницы уже были за швейной машиной или у гладильной доски; они безупречно трудились до поздней ночи. Кому-то из них пришла в голову идея изготовлять, кроме шляп, непромокаемые дорожные саквояжи. Госпожа Галфаи показала своим заказчицам готовые образцы: клеенчатые и брезентовые сумки на молниях с потайными внутренними карманами. В первую же неделю она продала восемьдесят штук, и в ее кассете сумма возросла до двухсот тысяч.
У госпожи Галфаи разгорелись глаза. Она навестила одного из лучших друзей своего мужа, нилашистского генерал-губернатора Карчи Мохаупта, и с его помощью добилась того, что ее шляпный салон был объявлен военным предприятием. Разумеется, отдельного военпреда не назначили, но салон присоединили к мастерской по изготовлению медицинского инвентаря и хлебозаводу. Девушки получили военные удостоверения с фотокарточками, каждую неделю для них отпускали два литра растительного масла, два килограмма кукурузной муки и четыре килограмма бобов. Этим кормилась вся компания. Теперь госпоже Галфаи продовольствие не стоило ни гроша.
Сначала знатным заказчицам шляпы доставляли девушки. Но с тех пор, как мина разнесла на куски пятнадцатилетнюю Терку и вместе с ней погибла меховая шапка стоимостью в тысячу двести пенге, госпожа Галфаи заявила, что впредь шляпы будут выдаваться только в салоне после уплаты денег. Пусть тогда падают бомбы, пусть погибает от пуль заказчик, ей до этого нет никакого дела.
Кати Андраш как-то сказала, что могла бы пригласить еще одну девушку. Зовут ее Агнеш Чаплар, она бежала из Секейудвархея. Прекрасная модистка.
– Одним словом, еврейка? – спросила госпожа Галфаи.
– Да что вы, госпожа, вовсе нет. Это моя подруга детства.
– Впрочем, мне безразлично, пусть она будет хоть магометанка. Если умеет хорошо шить, приводи.
Поэтому-то Кати Андраш и побежала домой в хорошем настроении. Ну, Агнеш, становись модисткой. И еда будет, и постель, и сможем жить вместе, пока кончится осада. Не вечно же ей длиться.
Тетушка Андраш, как водится, всплакнула. До сих пор она постоянно сокрушалась и охала: «Катика, не надо тебе каждый день приходить домой, ведь кругом бомбят, стреляют, я так боюсь за тебя». И она мысленно провожала дочь: вот она идет по проспекту Ракоци, вот сворачивает на улицу Ваш. Господи, только бы не было налета… Но, если Кати совсем перестанет приходить, ей будет в миллион раз тяжелее. Что она станет делать, если целую неделю не увидит Кати? А то и целый месяц или больше? Ну что ж, она уже старая, больная, не ходить же ей вместе с дочерью в шляпный салон. А Кати как-никак хорошо устроена. И не голодна и броню имеет, значит, на окопы не погонят.
Кати и Агнеш вышли из дому рано утром. Агнеш чувствовала себя совсем хорошо и хоть не очень бодро, но вполне уверенно шагала рядом с Кати по мокрой от растаявшего снега улице. Ее отросшие волосы были заплетены в косы и заколоты сзади пучком. Она была бледна и очень худа.
Вместо летнего хлопчатобумажного платья пришлось надеть юбку и джемпер Кати, а за неимением пальто прикрыться теплым платком тетушки Андраш. Возле больницы Рокуша они сели в трамвай. Агнеш стояла на площадке пятьдесят третьего трамвая, испытывая опасение, что сейчас войдет Паланкаи или Анна Декань и закричит: а, попалась, пойдем-ка в военную комендатуру! Но в переполненный вагон садились одни незнакомые. хмурые, сердитые люди.
Какая-то женщина громко рассказывала: «Захожу я на почту, хочу сдать заказное письмо. Барышня и говорит мне: «В Кишпешт уже не принимаем…» Все слушают молча, неподвижные лица пассажиров не выдают ни страха, ни радости.
– Ну, слава богу, – произнесла Кати, когда они вышли на площади Аппони. – Знаешь, я волновалась не меньше, чем ты. Сейчас лучше не встречаться со знакомыми.
– Ой…
– Что такое? – спросила Кати.
– Ничего… – ответила Агнеш. – Я кое-что забыла дома.
– Ну, что?
– Да… не важно, книга… забыла на столе.
– В ней что-нибудь есть?
– Нет, просто… я очень дорожу ею. Я ее так берегла.
И на душе у нее вдруг стало тревожно и муторно. Не следовало ли и ей остаться там, где осталась книга? Было бы гораздо безопаснее.
Но вот они у цели. Перед ними огромный дом с проходным двором. Одни его ворота выходят на улицу Шандора Петефи, а другие – на улицу Ратуши. Девушки пересекли выложенный керамическими плитами двор, и Кати пошла вперед, указывая путь в мрачном, сыром подвале.
Госпожи Галфаи в мастерской не было. В такую пору она еще спала крепким сном в своей отдельной, увешанной коврами и отделанной шелком спальне, переоборудованной из дровяного склада.
Барышня Амалия встретила новую модистку с подозрением.
– Значит, вы договорились с госпожой Галфаи? А ты действительно шляпница? Разумеется, было бы лучше, если бы вы имели при себе аттестат. Странные эти трансильванские беженцы. Забывают, что необходимо иметь при себе свидетельство о своей профессии. Ну, не беда, тут есть одна девушка из Секейудвархея, она и подтвердит, знает ли вас и работали ли вы шляпницей, милая барышня Чаплар. Мария, пригласите, пожалуйста, Гизеллу Лайтош.
Агнеш побледнела и бросила взгляд на Кати.
Кати сердито повернулась к барышне Амалии.
– Не понимаю, госпожа Амалия, что вы хотите, ведь мы уже обо всем договорились с хозяйкой.
– Не обижайтесь, барышня Андраш, и не думайте, что я вам не верю. Но именно мне, заместительнице госпожи Галфаи, и полагается быть начеку, если наша начальница поступает легкомысленно. Вы, надеюсь, понимаете, что я не обязана устраивать здесь убежище для евреев или притон для коммунистов. Кто действительно знает свое дело, того мы охотно принимаем…
– Агнеш! Агнеш! Чаплар! – послышался ликующий возглас девушки, и две руки обвились вокруг шеи Агнеш. – Вот это сюрприз… как я рада тебя видеть…
– Гизи! Это ты?
– Ну, конечно, я. Гизелла Лайтош, собственной персоной. Когда ты приехала? – И Гизи Керн с такой силой обняла Агнеш. что, казалось, собирается задушить ее.
Барышня Амалия скисла. Она уже две недели подозревала Гизи Керн и готова была поклясться, что сейчас все выяснится, что Гизи Лайтош еврейка, что Каталин Андраш тоже еврейка, что все здесь евреи и она сможет выдать их начальнику ПВО. Начальник ПВО – красавец мужчина, светловолосый, светлоусый, точь-в-точь такой, каким представляла себе барышня Амалия идеального мужчину вот уже сорок лет. У него широкие плечи, бездонные черные глаза, а он даже не замечает ее. Вот если бы удалось когда-нибудь совершить героический подвиг! О. если бы пришлось по приказу начальника ПВО взбегать на крышу, по цепочке передавать полные ведра воды и тушить горящие балки… если бы довелось откапывать среди развалин раненых, если бы дорогой начальник ПВО, белобрысый Вальдемар Цинеге, тоже был ранен и лежал без сознания… Но раз ничего такого нет, то хотя бы найти нескольких евреев, пять-шесть девушек, и пойти сообщить, что она вопреки материальным интересам, вопреки своему чуткому сердцу, только из чувства патриотизма доводит до сведения господина начальника ПВО… Боже, как было бы хорошо…
– Я очень рада, что вы знакомы, – сказала она разочарованно. – Барышня Лайтош, покажите, пожалуйста, новой работнице ее место и дайте работу. А вас, барышня Андраш, попрошу проверить, чем занимаются гладильщицы.
Гизи отвела Агнеш в самый дальний угол подвала. Там она снова бросилась ей на шею, обняла и поцеловала.
– Здесь мой угол. Этот матрац мы притащим тебе, одеяло Кати тоже перенесем сюда. Посмотришь, как мы хорошо устроимся. У меня есть своя лампа, стакан для воды, котелок, две простыни, одна будет твоей.
В сумраке подвала Агнеш продвигалась ощупью.
– Какое ужасное место.
Гизи засмеялась.
– Ужасное? Рай земной. Я. Агнеш, уже успела побывать и в аду. Сначала на кирпичном заводе. Двое суток подряд мы стояли, тесно прижавшись друг к другу. Шел дождь. А у меня даже платка не было. Не ели, не пили и не имели права выходить из строя. Вокруг вооруженные нилашисты. Садиться нельзя. Одни теряли сознание. Другие мочились, будучи не в силах больше терпеть… Оттуда удалось бежать. Ночью. Мне уже было абсолютно все равно. «В крайнем случае пристрелят, – думала я, – кончатся все страдания сразу…» Затем с месяц работала судомойкой в санатории «Пайор». Устроилась по объявлению в газете с фальшивыми документами. Но и оттуда пришлось бежать из-за госпожи Геренчер.
– Госпожи Геренчер? Как она туда попала?
– К сожалению, я сама, скотина, привезла ее туда. Сжалилась, видишь ли. Думала, у нее на фронте муж, она осталась одна с маленьким ребенком. Мне тоже помогла соседка бежать с кирпичного завода. Ко всем надо быть добрым. К тому же для санатория как раз подыскивали судомоек. Даже обрадовались, когда я привезла работницу. В «Пайоре», да будет тебе известно, сейчас расположился немецкий лазарет, и венгерский персонал, разумеется, находится под присмотром нилашистского командования. Госпожа Геренчер пошла работать с превеликой радостью. Первый день готова была целовать мне руки и ноги, не знала, как благодарить. Я, дескать, спасла ее от голодной смерти. Госпожа Геренчер явилась в санаторий под своей фамилией, только в девичьих документах кое-что подтерла и числилась женой христианина-фронтовика. На второй день она уже блеснула своими способностями. Предложила новый метод работы: не только вытирать приборы, но и чистить их. Нашему бригадиру – отвратительный тип по фамилии Шаркань – это понравилось. Он похвалил госпожу Геренчер, и нам ничего больше не осталось, как, высунув языки, драить ложки, вилки, ножи. На четвертый день Шаркань поставил госпожу Геренчер присматривать за нами. С этого момента она стала швырять нам обратно тарелки, ложки, обзывать, то мы саботажницы, то жидовки. Я пригрозила ей, хотелось стукнуть ее по ногам так, чтоб она на всю жизнь охромела. В ответ госпожа Геренчер сказала, что, если я еще хоть раз открою рот, она донесет на меня, что я скрываюсь с фальшивыми документами да еще подрываю интересы тотальной войны.
– Уму непостижимо.
– Вот именно. Шаркань достал ей из какого-то нилашистского благотворительного фонда, вернее из какой-то разграбленной квартиры, платье, а для ребенка пару ботинок. Если война затянется, наша Мальвинка забудет всех своих предков и вступит в нилашистскую партию. Поэтому-то, когда я прочла, что в шляпный салон госпожи Галфаи набирают девушек, сразу же явилась сюда. Я не знаю никакого ремесла, и мне все равно, чистить посуду или шить шляпы. Здесь по крайней мере можно спокойно поспать.
– А твои родители?
Гизи Керн побледнела, и на ее глазах показались слезы.
– Мать еще в июне забрали.
Агнеш не знала, что ответить.
– Ну, Агнеш, приступим к работе. Боюсь, как бы на нас не осерчала барышня Амалия. Скажи, Аги, тебе приходилось бывать когда-нибудь в Секейудвархее?
– Никогда в жизни.
– Ну что ж, пока не заявится сюда кто-нибудь из тех мест, нам действительно опасаться нечего. А шляпы шить умеешь?
– Откуда мне уметь. Единственно, что я могу делать, так это с горем пополам заштопать чулки – в восемь ниток и толстой иглой. Кроме того, умею, конечно, пришивать пуговицы и вышивать крестом салфетки…
– Не много. Но можешь быть спокойна, здесь все такие же мастерицы, как мы с тобой.
– Гизике, когда же кончатся эти ужасы?
– Иногда мне кажется, что через час, а иногда я думаю, что нам уже не дождаться конца этих бедствий.
И, как бы в подтверждение ее слов, где-то далеко загрохотали орудия.







