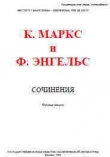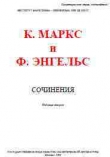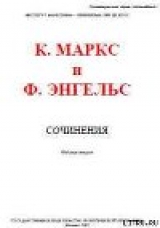
Текст книги "Собрание сочинений, том 15"
Автор книги: Карл Генрих Маркс
Соавторы: Фридрих Энгельс
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 61 страниц)
К. МАРКС
ХЛЕБНЫЕ ЦЕНЫ. – ЕВРОПЕЙСКИЕ ФИНАНСЫ И ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. – ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС
Лондон, 25 августа 1860 г.
Так как за эту неделю погода не улучшилась, то вчера на Марк-лейне цена муки городского производства поднялась на 6 шилл. за мешок, и в иностранные порты немедленно были направлены заказы на закупку около 1000000 квартеров хлеба. Почти все импортеры разделяют мнение, высказанное мною в одной из последних статей [См. настоящий том, стр. 138. Ред.], что цены на хлебном рынке неизбежно будут расти и дальше. Принятые недавно Францией меры в отношении хлебной торговли делают эту страну непосредственным конкурентом британских хлеботорговцев. Как известно, во Франции существует скользящая шкала, регулирующая импортные и экспортные пошлины на зерно, и эта скользящая шкала видоизменяется в восьми различных округах, на которые делится вся страна по хлебной торговле. Декретом, опубликованным в «Moniteur» от 23 августа, эта скользящая шкала на время отменяется полностью. Декрет устанавливает, что импортируемые сухопутным или морским путем на французских или иностранных судах зерно и мука, откуда бы они ни поступали, облагаются вплоть до 30 сентября 1861 г. лишь минимальной пошлиной, определенной законом от 15 апреля 1832 года; он устанавливает также, что суда, груженные зерном и мукой, должны освобождаться от корабельных сборов и, наконец, что суда с таким грузом, вышедшие из любого иностранного порта до указанной даты 30 сентября 1861 г., должны уплачивать только указанный выше минимум и освобождаться от корабельных сборов. Минимум, о котором идет речь, составляет 25 центов на гектолитр (около 23/4 бушелей). Итак, Франция, которая в 1858 и 1859 гг. отправила в Англию больше пшеницы (2014923 квартера) и больше муки (4326435 центнеров [Английский центнер = около 50 кг. Ред.]), чем какая бы то ни было другая страна, в настоящее время будет серьезно конкурировать с Англией по закупкам хлеба на иностранных рынках, причем временная отмена французской скользящей шкалы создает благоприятные условия для такой конкуренции.
Двумя главными экспортными рынками, которыми Англии и Франции приходится ограничиваться, являются Соединенные Штаты и Южная Россия. Что касается этой последней страны, то известия об урожае носят самый противоречивый характер. С одной стороны, утверждают, что урожай весьма обилен; с другой стороны, говорят, что проливные дожди и наводнения повредили урожаю во всех частях империи, что хлебные поля южных провинций подверглись большим опустошениям саранчой – бич, который впервые появился в Бессарабии и опустошительное действие которого власти напрасно старались ограничить определенным районом, окружая этот район армией в 20000 человек. Действительные размеры этого бедствия, конечно, нельзя точно определить, но во всяком случае оно ускорит процесс повышения продовольственных цен. Некоторые лондонские газеты высказывают предположение, что действие, которое обычно оказывает на денежный рынок утечка золота, непосредственно связанная с большим и внезапным импортом зерна, может быть уравновешено поступлением золота из Австралии. Ничто не может быть нелепее этого предположения. Мы были свидетелями того, как во время кризиса 1857 г. золотой запас сократился до размеров меньших, чем когда-либо в подобные периоды до открытия Австралии и Калифорнии. Ранее я доказывал на основании неопровержимых фактов и цифр, что необычайно большой импорт золота в Англию, наблюдавшийся после 1851 г., более чем нейтрализовался необычайно большим экспортом золота. Кроме того, следует отметить тот факт, что после 1857 г. золотой запас Английского банка не только не превысил средних размеров, но все время шел на убыль. В то время как в августе 1858 г. он достигал 17654506 ф. ст., в августе 1859 г. он уменьшился до 16877255 ф. ст., а в августе 1860 г. – до 15680840 фунтов стерлингов. Если утечка золота еще не наступила, то это явление можно объяснить тем обстоятельством, что перспектива неурожая только теперь начинает оказывать свое влияние, в то время как процентная ставка была до сих пор в Лондоне выше, чем на прочих главных биржах европейского континента, то есть в Амстердаме, Франкфурте, Гамбурге и Париже.
Континентальная Европа представляет в настоящий момент весьма странное зрелище. Франция, как известно, испытывает тяжелые финансовые затруднения, но, тем не менее, она вооружается в столь гигантских масштабах и с такой неутомимой энергией, как если бы она владела лампой Аладина. Австрия на краю банкротства, но теми или иными путями она находит средства на содержание огромной армии и на снабжение четырехугольника своих крепостей нарезными пушками. А Россия, где все финансовые операции правительства кончились неудачей, где говорят о национальном банкротстве как о вероятном событии, где армия ропщет из-за невыплаты жалованья и где даже верность императорской гвардии подвергается суровому испытанию, так как жалованье гвардейцам не выплачивалось в течение последних пяти месяцев, – Россия, тем не менее, отправляет массу войск к Черному морю и держит в Николаеве наготове 200 кораблей для отправки войск в Турцию. Неспособность русского правительства разрешить проблему крепостного права, финансовую проблему, а также новое обострение польского вопроса, по-видимому, побуждают его стремиться к войне как к последнему средству усыпления нации. Поэтому жалобы, раздающиеся во всех частях империи и во всех слоях русского общества, заглушаются по приказу правительства фанатическими криками об отмщении за обиды бедных попираемых христиан Турции. Изо дня в день русская пресса изобилует иллюстрациями и доказательствами необходимости интервенции в Турции. Следующее извлечение из «Инвалида» может служить хорошим образчиком[105]105
«Инвалид» – сокращенное название органа военного министерства царской России, газеты «Русский инвалид», которая выходила с 1813 по 1917 г. в Санкт-Петербурге, с 1816 г. – ежедневно.
Ниже Маркс цитирует статью «Восточный вопрос», опубликованную в «Русском инвалиде» №№ 164 и 165, 31 июля и 2 августа 1860 года. Цитируемые Марксом места воспроизводятся по русскому тексту газеты.
[Закрыть]:
«Этот вопрос долго еще будет предметом суждения всех европейских газет. Нельзя не говорить о нем, потому что он один обратил теперь на себя внимание всей Европы. Только равнодушным ко всему человечеству читателям может он надоесть. Мы же не только обязаны представлять ежедневно его подробности нашим читателям, но и излагать как прошедшие события, так и будущие случайности, чтобы общественное мнение видело, какие средства принимаются и должны быть приняты к прекращению этого неестественного положения дел, составляющего стыд нашего века и цивилизации.
Но видя варварство и зверский фанатизм турок, мы не менее того, по исторической справедливости, должны прибавить, что сама Европа виновата в этом и должна сама себе приписать причины и последствия этих убийств. Будем теперь говорить откровенно. Для чего Европа предприняла несправедливую войну против России в 1853–1854 годах? Она объявила гласно двойную цель. Она хотела остановить мнимое честолюбие и преобладание России, а с другой стороны, хотела прекратить всякое угнетение христиан, страдавших под игом турок. Следственно, Европа сознавалась в этих угнетениях и страданиях, но она хотела, чтобы, прекратив их общим посредничеством своим, оставить Турцию во всей ее целости и неприкосновенности, почитая это будто бы необходимым для своего равновесия. Когда война кончилась, то дипломаты занялись средствами к достижению этой двойной цели и к управлению ее. Прежде всего условились принять Турцию в семейство европейских держав и оградить ее от всякого отдельного посредничества. Это легко было сделать, и одна из двух целей была достигнута. Но вторая? Достигнута ли она? Приняты ли гарантии, чтобы спасти христиан от тягостного рабства и угнетения? Увы! В этом отношении Европа поверила словам, бумаге, без всякого ручательства. Еще в первых нотах 8 августа 1854 г., когда стали думать о прекращении войны и составили знаменитые четыре пункта гарантий, положено было потребовать от Порты сохранения религиозных прав всех христиан. То же выражено было и в мемории 28 декабря 1854 г., представленной санкт-петербургскому кабинету. Наконец, в прелиминарном проекте 1 февраля 1856 г., составленном в Вене и приложенном к протоколу первого заседания Парижского конгресса, сказано было в 4-й статье: «Права райя будут сохранены, не нарушая независимости и достоинства султана. Австрия, Франция, Великобритания и Порта согласны между собой в обеспечении политических и религиозных прав христианских подданных Турции, пригласив к этому соглашению и Россию при заключении мира».
Долго обсуждал этот предмет Парижский конгресс со второго своего заседания. Это видно из протоколов 28 февраля, 24 и 25 марта. Хотели согласить две невозможные вещи, верховные права султана и права его подданных, принимая и те, и другие под общее покровительство и посредничество всей Европы. Конгресс забыл, что права райя, которые он хотел сохранить, были утверждены прежними трактатами с Портой, вынужденными у нее силой и уже нарушившими права верховной власти султана, которые теперь тоже хотели сохранить. Для соглашения этих двух несогласных пунктов придумали знаменитый хатт-и-хумаюн, как бы собственно волею султана составленный и обнародованный. В нем обещано сохранение и улучшение всех прав христианских подданных, а чтобы иметь гарантии в исполнении этого обещания, упомянули об этом хатт-и-хумаюне в мирном трактате. За это исполнение конгресс в 9-м пункте договора отказался от всякого вмешательства во внутренние дела Турции.
Что же сделал конгресс? Обеспечил ли он исполнение обещания хатт-и-хумаюна? Обязательны ли они для султана? Вовсе нет. О нем упомянули в трактате, расхвалили мудрость этих обещаний, но не предусмотрели (что вся Европа заранее знала и говорила), что этот документ будет мертвой буквой. И теперь, когда после слишком четырехлетнего невыполнения его произошли ужаснейшие убийства в Сирии, имеет ли Европа право по трактату на посредничество? Нет! Она должна сознаться, что была слишком снисходительна и доверчива, с одной стороны, и слишком несправедлива – с другой. Еще недавно Россия предупреждала все кабинеты, что фанатизм мусульман нисколько не ослаб, не охладел, что готовятся новые вспышки, а прежние угнетения и насильства продолжаются; но Европа довольствовалась обещанием Порты, что она производит следствие и накажет виновных. Надобно было для всеобщего убеждения, чтобы изуверы перерезали несколько тысяч невинных жертв. Только теперь приступили к посредничеству, да и то с какими затруднениями, оговорками, медленностью, как будто для того, чтобы дать возможность к безнаказанности. Все заботятся о буквальном уважении трактата 30 марта 1856 г., точно так же как в делах Италии 1859 г. забывали положение народов, а думали о букве Венских трактатов. Человечество, вера, цивилизация – вот общий трактат Европы с Турцией. Если она нарушает его, то сама вызывает посредничество и последствия его.
До 1856 г. европейские державы имели с Портой трактаты, по которым могли всегда делать ей представления об участи христиан. Теперь спрашивается, уничтожено ли это право трактатом 30 марта 1856 года? Отказалась ли Европа от права защищать своих единоверцев? Отказалась, если рассчитывала, что хатт-и-хумаюн 18 февраля будет выполнен; если поверила, что обещанные реформы будут приведены в исполнение; отказалась, если думала, что нравы, обычаи, страсти и закон корана могут измениться. Но этого не было и быть не могло. Европа, увлеченная своей политической идеей, что Турция необходима для ее равновесия, вздумала принять ее в семейство европейских держав, но, разумеется, с мыслью, что она будет вполне европейской, отбросив древние мусульманские идеи, что меч составляет единственный закон между кораном и подвластными ему народами, что побежденный – значит раб, т. е. вещь, принадлежащая победителю, и что жизнь его, имущество и семейство зависят от воли господина. Вот основная мысль, руководствовавшая Европой в 1856 году. При всем своем враждебном пристрастии против России, порожденном несправедливой и кровопролитной войной, Европа не освобождала Порту от всех прежних ее обязательств, а напротив того, требовала еще большего, вернейшего и обеспеченного улучшения участи христиан. Истинная цель общего протекторства Европы именно в том и состояла. Только за эту цену гарантировала она Турции ее целость и неприкосновенность. Иначе ни война, ни мир не были бы оправданы; иначе за что же было бы принять Турцию в христианское семейство, за что было бы обеспечивать ей будущую политическую безопасность? Одно условие с другим так тесно, нераздельно связано, что очевидно для каждого – без первого не может быть и второго.
Форма условия, правда, имеет некоторые недостатки. Буквально судя, Европа по 9-му пункту Парижского трактата формально отказалась от посредничества во внутренние дела Порты, но самый этот пункт упоминает, что это делается на основании хатт-и-хумаюна 18 февраля, которым христиане уравнены в правах с мусульманами. Здравая логика говорит, что если это не выполнено, то и 9-й пункт не имеет значения.
Напрасно Турция с таким жаром восстала ныне против посредничества в Сирии. Оно было неизбежно, если положение христиан не изменилось, если даже сделалось худшим. Напрасно и Англия противилась этому посредничеству. Она могла иметь свои собственные политические и торговые к этому причины, которых важность и справедливость мы не обсуждаем, но и не должна была ссылаться на 9-й пункт Парижского трактата. Он нарушен не посредничеством, а невыполнением хатт-и-хумаюна. Напрасно и теперь Европа, решаясь на необходимое посредничество, приняла опять те же дипломатические формы, которых недостаток могла она видеть по Парижскому трактату. И теперь опять сказано, что посредничество принимается по желанию Порты… Не известен еще результат этого требования, но если оно и устранено до времени, то сделается необходимым. Пророчествам Кассандры не верил Илион – и погиб».
Написано К. Марксом 25 августа 1860 г.
Напечатано в газете «New-York Daily Tribune» № 6046, 10 сентября 1860 г.
Печатается по тексту газеты
Перевод с английского
Ф. ЭНГЕЛЬС
ПРОДВИЖЕНИЕ ГАРИБАЛЬДИ

По мере развития событий мы начинаем понимать тот план освобождения Южной Италии, который разработал Гарибальди, и чем ближе мы знакомимся с этим планом, тем более восхищаемся его грандиозностью. Задумать подобный план или пытаться его осуществить можно было только в такой стране, как Италия, где национальная партия столь прекрасно организована и всецело находится под контролем человека, с таким блестящим успехом обнажившего свой меч за дело итальянского единства и независимости.
Этот план не ограничивался освобождением Неаполитанского королевства; одновременно должно было начаться наступление на Папскую область, чтобы таким образом задать работу не только войскам короля-бомбы [Фердинанда II. Ред.], но также армии Ламорисьера и находящимся в Риме французам[106]106
Со времени падения Римской республики в 1849 г. в результате французской интервенции французские войска продолжали находиться в Риме до 1870 года.
[Закрыть]. Предполагалось, что примерно 15 августа 6000 волонтеров, постепенно переправившихся из Генуи в Апельсинный залив (Гольфодельи-Аранчи) – северо-восточное побережье острова Сардинии, – будут переброшены на побережье Папской области, в то время как в различных провинциях континентальной части Неаполитанского королевства начнется восстание, а Гарибальди переправится через Мессинскнй пролив и высадится в Калабрии. Некоторые дошедшие до нас замечания Гарибальди о трусости неаполитанцев и полученные с последним пароходом сообщения, что он вступил в Неаполь и был с восторгом встречен населением, говорят о том, что восстание на улицах этого города, оказавшееся излишним вследствие бегства короля, было, возможно, предусмотрено планом.
Высадка в Папской области, как уже известно, не состоялась, отчасти вследствие настояний Виктора-Эммануила, отчасти же и главным образом потому, что сам Гарибальди пришел к убеждению о неподготовленности волонтеров к ведению самостоятельной кампании. Поэтому он переправил их в Сицилию, часть из них оставил в Палермо, а остальных направил вокруг острова на двух пароходах в Таормину, где они и находятся в настоящее время. Тем временем в провинциальных городах Неаполитанского королевства, как было решено заранее, начались выступления, которые показали, насколько хорошо была организована революционная партия и насколько страна созрела для восстания. 17 августа восстание вспыхнуло в Фодже, в Апулии. Драгуны, входившие в состав городского гарнизона, присоединились к народу. Генерал Флорес, командовавший округом, послал две роты 13-го полка, которые по прибытии на место последовали примеру драгун. "Тогда генерал Флорес сам прибыл в Фоджу в сопровождении своего штаба; но он ничего не смог сделать и вынужден был удалиться. Его образ действий ясно показывает, что и сам Флорес не намеревался оказывать серьезное сопротивление революционной партии. Если бы он собирался действовать всерьез, он послал бы не две роты, а два батальона и, выезжая на место лично, захватил бы с собой не нескольких адъютантов и ординарцев, а возможно более сильный отряд. В самом деле, уже одно то обстоятельство, что повстанцы позволили ему снова покинуть город, достаточно ясно показывает, что между ним и повстанцами существовало по меньшей мере какое-то молчаливое соглашение. Другое восстание вспыхнуло в провинции Базиликата. Здесь повстанцы собрали свои силы в Корлето-Пертикара, деревушке на берегу реки Ланьи (по всей вероятности, это то самое место, которое в телеграммах именуется Корлето).
Из этого гористого и отдаленного округа они двинулись на главный город провинции – Потенцу, куда прибыли 17 августа в составе 6000 человек. Сопротивление им оказали только жандармы, в количестве около 400 человек, которые после кратковременной схватки были рассеяны, а затем один за другим сдались. От имени Гарибальди было сформировано провинциальное правительство и назначен временный диктатор. Сообщают, что этот пост занял королевский интендант (губернатор провинции), – еще один признак того, сколь безнадежным считают дело Бурбонов даже их собственные чиновники. Из Салерно были посланы четыре роты 6-го линейного полка для подавления этого восстания, но по прибытии в Аулетту, расположенную примерно в 23 милях от Потенцы, солдаты отказались идти дальше и стали кричать; «Viva Garibaldi!» [ «Да здравствует Гарибальди!» Ред.]. Это единственные выступления, о которых нам известны некоторые подробности. Но кроме того получены сообщения, что к восстанию присоединились и другие города, как, например, Авеллино, город, расположенный менее чем в 30 милях от Неаполя, Кампо-бассо в провинции Молизе (на Адриатическом побережье) и Челенца в Апулии – вероятно, тот самый город, который в телеграммах именуется Чилента; он расположен почти на полпути между Кампобассо и Фоджей. В настоящее время к числу этих городов присоединился и сам Неаполь.
Пока провинциальные города Неаполитанского королевства выполняли таким образом предназначенную им роль в общем деле, Гарибальди не сидел сложа руки. Сразу же по возвращении из своей поездки в Сардинию он закончил приготовления к высадке на континент. Его армия состояла теперь из трех дивизий под командованием Тюрра, Козенца и Медичи. Две последние, сосредоточенные близ Мессины и Фаро, были направлены к северному побережью Сицилии между Милаццо и Фаро, создавая впечатление, будто предполагается погрузить их там на суда и высадить на Калабрийском побережье, к северу от пролива, где-нибудь неподалеку от Пальми или Никотеры. Что касается дивизии Тюрра, то одна из ее бригад – бригада Эбера – расположилась лагерем около Мессины, а другая – бригада Биксио – была отправлена в глубь острова, в Бронте, для ликвидации некоторых беспорядков. Обе получили приказ о немедленном выступлении в Таормину, где вечером 18 августа бригада Биксио вместе с доставленными из Сардинии волонтерами была погружена на два парохода, «Торино» и «Франклин», и на несколько транспортных судов, взятых на буксир.
За десять дней до этого майор Миссори с отрядом в 300 человек переправился через пролив и благополучно пробрался через расположение неаполитанских войск в гористую и пересеченную область Аспромонте. Здесь к нему присоединились другие небольшие отряды, переправлявшиеся время от времени через пролив, а также калабрийские повстанцы, так что к 18 августа он командовал отрядом, насчитывавшим около 2000 человек. Как только высадился этот небольшой отряд, неаполитанцы послали в погоню за ним около 1800 солдат, но эти 1800 героев действовали так, чтобы никогда не встретиться с гарибальдийцами.
19 августа на рассвете экспедиция Гарибальди (на борту парохода находился он сам) высадилась между Мелито и мысом Спартивенто, на крайней южной оконечности Калабрии.
Они не встретили никакого сопротивления. Неаполитанцы были настолько обмануты передвижениями, угрожавшими высадкой десанта к северу от пролива, что полностью игнорировали районы к югу от него. Таким образом, кроме 2000 человек, собранных Миссори, удалось перебросить на континент еще 9000 человек.
Когда к нему присоединились эти отряды, Гарибальди немедленно двинулся на Реджо, где находились четыре роты линейных войск и четыре роты стрелков. Но гарнизон этот, по всей вероятности, получил некоторые подкрепления, ибо, как сообщают, 21 августа в самом Реджо или около него произошло весьма ожесточенное сражение. После того как Гарибальди взял штурмом несколько передовых укреплений, артиллерия форта Реджо перестала поддерживать огонь, и генерал Виале капитулировал. В этом сражении был убит полковник Де-флотт (республиканский депутат от Парижа во французском Законодательном собрании 1851 года).
Неаполитанская флотилия, стоявшая в проливе, отличалась тем, что ровно ничего не предпринимала. После того как Гарибальди произвел высадку, командующий морскими силами телеграфировал в Реджо, что его корабли не могли оказать никакого сопротивления, так как в распоряжении Гарибальди было 8 больших военных кораблей и 7 транспортных судов! Флотилия эта не оказала никакого противодействия и переправе дивизии генерала Козенца, которая состоялась, по-видимому, 20-го или 21-го в самом узком месте пролива, между Шиллой и Виллой-Сан-Джованни, в том самом месте, где было сосредоточено наибольшее количество неаполитанских судок и войск. Высадка Козенца сопровождалась необычайным успехом. Две бригады Мелендеса и Бриганти (неаполитанцы называют бригады батальонами) и форт Пеццо (а не Пиццо, как указывается в некоторых телеграммах; это местечко расположено значительно севернее, за Монтелеоне) сдались ему, по-видимому, без единого выстрела. Как сообщают, это произошло 21-го; в тот же день после непродолжительной стычки была взята Вилла-Сан-Джованни.
Таким образом, Гарибальди за три дня овладел всем побережьем пролива, в том числе некоторыми укрепленными пунктами; несколько фортов, остававшиеся еще в руках неаполитанцев, стали теперь для них бесполезными.
В последующие два дня, по-видимому, происходила переброска остальных войск и материальной части – по крайней мере, мы не располагаем сообщениями о каких-либо дальнейших сражениях вплоть до 24-го, когда, как сообщают, произошла ожесточенная стычка в пункте, который в телеграммах именуется Пьяле, но который не значится на картах. Быть может, этим именем называют какой-нибудь горный поток, а образуемое им ущелье послужило оборонительной позицией для неаполитанцев. Согласно сообщениям, это сражение не привело к решающим результатам. Через некоторое время гарибальдийцы предложили перемирие, и неаполитанский командующий передал это предложение своему главнокомандующему в Монтелеоне. Но прежде чем мог быть получен ответ, неаполитанские солдаты, по-видимому, пришли к заключению, что они достаточно послужили своему королю, и рассеялись, бросив свои батареи.
Главные силы неаполитанцев под командой Боско в течение всего этого времени пребывали, по-видимому, в бездействии в Монтелеоне, милях в тридцати от пролива. Должно быть, эти войска не проявляли особого желания сражаться с вторгшимися отрядами, и потому генерал Боско направился в Неаполь, чтобы доставить оттуда шесть батальонов стрелков, которые, после гвардейцев и отрядов иностранных войск, являются самыми надежными частями армии. Пока неизвестно, были ли и эти шесть батальонов деморализованы и охвачены тем же духом подавленности, который господствует в неаполитанской армии. Достоверно одно – что до сих пор ни этим, ни каким-либо другим войскам еще не удалось воспрепятствовать победоносному, а возможно, и беспрепятственному маршу Гарибальди к Неаполю, где окажется, что королевская семья бежала, а город откроет свои ворота, устроив ему триумфальную встречу.
Написано Ф. Энгельсом около 1 сентября 1860 г.
Напечатано в газете «New-York Daily Tribune» № 6056, 21 сентября 1860 г. в качестве передовой
Печатается по тексту газеты
Перевод с английского