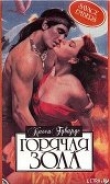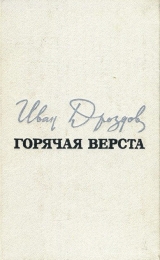
Текст книги "Горячая верста"
Автор книги: Иван Дроздов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Савушкин виновато развел руками, словно бы извиняясь за все, что у него приключилось в жизни, за то время, пока они не виделись с Фоминым. Потом Савушкин словно бы спохватился, заговорил:
– Медовая сыта?.. Вы, Федор Акимович, спросили медовую сыту? Не слыхал. Не знаю, что такое медовая сыта.
– Сыта – хорошо! Ею русские воины коней поили перед битвой. От нее сила!..
Фомин подошел к Савушкину, тряхнул его за плечи.
– Ишь, пасечник! Окопался тут, как сурок, а фильтры?.. Кто же фильтры металлургам будет поставлять?..
Савушкин ввел академика в дом, он то забегал наперед гостя, то брал его за рукав и ничего толком не говорил, а только охал и восклицал, и поддерживал академика на приступках, и суетно открывал перед ним двери.
Внутренность дома поразила академика, собственно, это был не жилой дом, не жилье, а мастерская пчеловода. Кругом на полках, в шкафах, на тумбочке—рамки, рамки... Желтые, точно облитые яичным желтком, соты. Соты в рамках. Соты без рамок. На столе микроскоп и ещё какие-то инструменты.
– Узнаю, узнаю... Савушкина. Если уж полез в дело – до дна доберется. Не иначе, как решил нос утереть пчеловодам. Тут, поди, тоже свои рекорды есть? – оглядел ряд книг на самодельных полках.
Пестрели названия: «Основы пчеловодства», «Человек и пчелы», «Содержание пчел в зимних условиях», «Крылатые фармацевты»... Вспоминал академик, как ещё в двадцатых годах начинали они с Савушкиным работать в прокатной экспериментальной мастерской.
Не было у него образования – даже среднего. Один во всех лицах – и слесарь, и токарь, и столяр, и строитель. Тогда же он, по заказу Фомина – молодого тогда инженера – сделал первый фильтр. И с тех пор фильтры стали его судьбой. Он читал все о фильтрах – доставал книги, журналы, выписывал литературу из многих стран. В год или два изучил английский, немецкий, а спустя ещё несколько лет, овладел французским. Когда кого-нибудь из ученых припекало, он приходил к Савушкину, просил: «Переведи, пожалуйста, что тут эти французы о прокатных делах пишут». Что же до фильтров, тут Савушкин держал монополию. Скоро стал первейшим специалистом и консультировал всех, кто к нему обращался: металлургов, химиков, авиаторов...
В доме Савушкина была лишь одна-единственная, большая, просторная комната. На стенах висели картины – много картин: с изображением леса, полян, рощиц – картины светлые. В простенках и между картинами отсвечивали миниатюры с чеканкой по медным листам, по серебряной фольге – и каждый сюжет, едва заметная миниатюра, были вправлены в рамки, имели дорогой вид.
– Да тут у тебя целая галерея!..
– В часы досуга, Федор Акимович. Утеха!..
На большом полотне костер. Вокруг костра хоровод обнаженных девушек и парней.
– О-о-о! – остановил на них взгляд академик.
– У предков наших заведено было: в ночь под Ивана Купала девушки и парни у костра танцевали.
Савушкин объяснял смущенный, покрасневший до корней волос. Как бы оправдываясь, он проговорил:
– Обнаженных не люблю рисовать. И не умею. Не даются, Федор Акимович.
– Натура нужна, натура, – заметил академик и лукаво взглянул на Савушкина, чем окончательно смутил живописца.
Потом они сидели за большим круглым столом посреди комнаты и пили чай с вареньем, и с медом, и даже с маточкиным молочком, которое Савушкин научился брать у пчел; сидели по-домашнему, как любят чаевничать в деревне, в долгие унылые осенние вечера. Савушкин рассказал, что после прихода в институт Бродова группу фильтровиков распустили, вместо нее был создан отдел, начальником его сделали физика-экспериментатора Папа. «При чём же тут физик?» – всплеснул руками Фомин, на что Савушкин спокойно, как и начал он рассказывать, ответил: «Пап – кандидат наук, ученый». И дальше поведал, как затем он удалился к себе в домик, занялся вот этим... – он обвел рукой стены... – рисованием. И ещё купил пчелок. Так и сказал «пчелок». – И кивнул на книжный шкаф, где на видном месте стояли книги о пчелах. «Ну ладно, – начинал сердиться академик, – а на какие шиши живешь, голубчик?..» На что Савушкин так же отвечал спокойно и даже с ноткой некоторого удовольствия судьбой и своими делами: «Да вон... у композитора за садом присматриваю». Академик посмотрел в окно, из которого был виден двухэтажный с колоннами у парадного входа дом Бродовых – собственный дом, не казенный, хотя в дачном поселке ученых директору института Вадиму Бродову полагалась дача государственная. По слухам, дом Бродовых принадлежал отцу, композитору Михаилу Михайловичу, но дом большой, в нем три отдельных входа и множество комнат – и в огромном мезонине, где теперь ярко горел свет и видны были силуэты людей, располагалась биллиардная с большим столом и шарами из слоновой кости. Фомин в глубокой задумчивости смотрел на сверкающий огнями мезонин, щурил посуровевшие глаза и не знал, что же сказать человеку, умевшему, когда от него потребовалось, встать на пути вражеских танков и одолеть их силой своего духа и потом, двадцать лет спустя, покорно сдать свои жизненные позиции, да ещё при этом и не выражать возмущения, а считать все случившееся с ним нормальным, обыкновенным и даже, может быть, закономерным. И Фомин, не поворачиваясь к Савушкину, глухим голосом проговорил:
– Как же это вы, сударь...
Академик хотел сказать: «докатились», но удержался от этого резкого обидного слова. И ждал, что же ему ответит Савушкин. А Савушкин отставил чашку с чаем, для чего-то тронул пальцами поставленную в вазу для дорогого гостя свеже-золотистую соту с медом и, смущенно суетясь, проговорил:
– Вроде бы, конечно, и неловко, и не пристало... Я ведь не такой и старый, но кому теперь нужен?.. Кто примет на службу?.. И кем?.. Вы знаете, Федор Акимович... Диплома у меня нет. Званий никаких не имею – куда теперь?..
– А тут близко, удобно, – заговорил в тон академик,– и платят, наверное, хорошо. Как же – композитор!..– закончил он резко и голос возвысил до крика. И затем поднялся решительно, стал крупным, нестариковским шагом ходить вокруг стола. И каждый раз, проходя мимо Савушкина, взглядывал сзади на его склоненный в виноватой позе затылок, вздыхал и мысленно повторял одну и ту же фразу: «Эх, человек!» Гнев и обида поднимались в душе академика; ему хотелось тотчас поехать в Москву, разыскать Бродова и сказать ему в глаза все самые резкие, ядовитые слова – все, что думал о нем в эту минуту Фомин. Впрочем, тотчас же Федор Акимович урезонивал свой пыл примерно следующим внутренним монологом: «Бродов непростой орешек, его с налету не разгрызешь – с ним борьба нужна, борьба... Нужны факты и факты. Нужен момент, удобная, выгодная ситуация. Положим, ты пойдешь к министру. Ну и что? – скажет тебе министр. – Частный случай, недоразумение. Устраним и – делу конец. Стоит ли из этого делать далеко идущие выводы?..»
Фомин опустился на стул и, как бы подводя итог своим размышлениям, стукнул кулаком по столу, сказал:
– Да, не стоит!
– Что вы?.. – вздрогнул Савушкин.
– Ах, да так это я. Чайком, что ли, ещё угостите.
– Да, да – пожалуйста! – засуетился Савушкин. – У меня в печке стоит, горячий. Я в один момент.
Он метнулся к голландской печурке, что стояла в углу у дверей, а Фомин, наблюдая за ним, думал: «Выжить из института человека, знания которого и опыт, и редчайшая научная интуиция были у всех на виду! Да ведь пока фильтрами занимался Олесь... – Академик силился припомнить отчество Савушкина и не мог, не мог потому, что звал его всегда по имени – Олесь... Олесь Савушкин. – Мы не знали горя с фильтрами. Савушкин знаток, авторитет был в мире фильтров. И его-то. Наконец, хоть постыдились бы заслуг его фронтовых!»
Савушкин во время войны служил в саперных войсках и слыл там тоже за редкого знатока дела; он сообразно обстоятельствам умел на ходу изобрести нужные мины; изобретал их во множестве, и они срабатывали именно так, как нужно было в тех обстоятельствах. Он за это свое редкое искусство был назначен командиром какой-то подвижной саперной группы, и этой-то группе выпала доля проявить себя особо в боях на Курской дуге. И, конечно, академик никогда бы не узнал об этом, но ему случайно встретился генерал из школьных товарищей и рассказал эпопею о подвигах Савушкина и его боевых друзей-саперов. Где-то под Курском есть небольшая железнодорожная станция, а перед ней поле, на котором в решающий момент Курской битвы появились триста немецких танков, имевших своей целью пробить брешь в нашей обороне. Тут-то и выступила против них рота подвижных саперов и группа Савушкина в авангарде – она приняла на себя удар головных машин. Немцы поливали саперов пулеметным огнем, били из пушек по каждому человеку, но саперы ставили перед танками мины, и они не прошли. Половина «тигров» и «пантер» замерли в огне минных взрывов, другие повернули вспять, но и саперы, все как есть, остались лежать на поле. Вся рота полегла под танками, и только несколько тяжело раненных человек были потом спасены санитарами. Среди них и командир авангардной группы Олесь Савушкин. Академик Фомин, вспоминая рассказ генерала, качал головой и чувствовал, как крепнет его желание отомстить Бродову за Савушкина, примерно наказать его, а может быть, если это, конечно, удастся, и отлучить от руководства институтом, потому что Бродов – сейчас академик был почти уверен в этом – не только с Савушкиным поступил несправедливо, но и других редких специалистов вытеснит из института и тем нанесет великий урон металлургии. «Завтра же пойду к министру. Пойду, пойду...»
– Как же это вышло, что вы из института уволились? – спросил Фомин, не поднимая головы и продолжая размышлять о своем.
– А так... очень просто, Федор Акимович. Вроде бы никто не трогал и не теснил, а оставаться мне без дела нельзя было, совесть начинала заедать – пришлось уйти. А и как же иначе!.. – заторопился объяснять Савушкин. И грудью навалился на край стола, весь подался к собеседнику. Глаза его выражали мольбу о прощении, страстное желание объяснить, оправдать свой поступок. – Сами посудите, Федор Акимович. Мог ли я оставаться на месте и получать зарплату, если работу мне давать перестали и совсем даже не стали меня замечать, а делали вид, будто я совсем не существую.
Академик поднял на собеседника взгляд и смотрел на него со смешанным чувством досады и сожаления. Он и всегда был какой-то робкий, – думал о Савушкине, – не по-мужски стеснительный, а тут и вовсе оробел. И говорит так, словно он из прошлого века, из тех жалких и забитых чиновников, которых изображал Чехов. Да что это он, в самом деле!..
А Савушкин продолжал:
– Литературу, что я собрал по фильтрам, засекретили, книги штампом пометили... Я как бы ни при чём остался. А на совещаниях разных, на собраниях директор говорит: «У нас ещё кое-где места ученых занимают люди без высшего образования». И на меня при этом смотрит. Долго так смотрит...
– Довольно! – поднялся вдруг из-за стола Фомин. И метнул на Савушкина такой взгляд, от которого тот съежился и опустил над столом голову. – Тоже мне – герой!
И, постояв минуту у стола:
– На старое место вернетесь, а не то – ко мне в институт! Академик взял в углу палку, надел шляпу и, не простившись, вышел. Он слышал, как сзади шел Савушкин. Но, видя академика рассерженным, Савушкин не решился сказать что-нибудь на прощанье и отстал. А Фомин слышал, когда он отстал, и чутким своим сердцем уловил шум вызванной им бури в душе бывшего солдата и верил: солдат вернется в строй, он ещё довершит добрые деяния, назначенные ему от рода. Довершит!..
Возвращался Фомин другой дорогой – шел мимо дачи Бродовых, по дорожке, устланной черной лентой асфальта. Синева вечера сгущалась в темень осенней ночи, и свет в окнах горел веселее. Мезонин дачи Бродовых летел над поселком, как ярко освещенный корабль. Проходя мимо, академик видел за кисейной вязью гардин силуэты мужчин с поднятыми над головами киями. «Развлекаются», – подумал академик. И ускорил шаг, чтобы быстрее миновать раздражавший его свет из мезонина. Он не хотел бы о Бродовых думать – и все больше прибавлял шагу, удаляясь от ярко горевшего мезонина, но мысленно вновь и вновь возвращался к силуэтам мужчин с поднятыми над головами киями. «Они развлекаются», – сказал он себе вслух, глубоко вздохнул и громче застучал палкой по влажной от вечерней росы дорожке асфальта.
3
НИИавтоматики располагался на окраине столицы в новом районе на берегу канала. Белокаменный четырехколонный фасад десятиэтажного здания был обращен к лесу. В летние дни на огромный балкон-террасу, вписанный архитектором по всей линии второго этажа, выходили сотрудники института, и тогда казалось, что по широкому шоссе, бежавшему вдоль канала и у самого здания института, вот-вот начнется демонстрация или военный парад, а люди, стоящие на балконе, торжественно поднимут руки и будут приветствовать проходящие колонны.
Институт огромен. Лабораториям нет числа, и все они оснащены сложнейшей дорогой аппаратурой, уникальными приборами; учет им ведется в такой толстой книге, что её прочесть невозможно. Здесь почитается за необходимость во всем применять электронно-вычислительную технику, потому и счетные машины установлены едва ли не на каждом этаже. А весь первый этаж отдан под вычислительный центр, где электронные машины так велики, так могучи и таинственно непонятны, что понимать их может лишь небольшое число людей, принадлежащих к элите институтских ученых.
Если в институт попадает человек из провинции или столичный, но из тех, что редко бывает в учреждениях, он входит в дубовые скоростные лифты робко и кнопки нажимает так, будто они имеют способность взрываться от неосторожного с ними обращения. А затем по коридору идет не спеша, и на каждую таблицу смотрит подолгу, и каждую фамилию непременно прочитывает. А фамилий на таблицах много, – пожалуй, людей тут гораздо больше, чем машин и приборов.
Прежде тут был союзный институт по проектированию прокатных станов, но теперь этот институт и его директор Фомин, вместе со всем персоналом, влились в институт Металла. Фомин сбросил со своих плеч заботы по финансам и хозяйству, он занят теперь одной наукой и проектированием. И хотя должность его звучит не так громко – начальник прокатного отдела! – но старик доволен, и вес его в научных кругах не убавился. Между прочим, по его докладной записке создан НИИавтоматики. Большой институт. Нет никакой возможности разобраться заезжему человеку в лабиринте коридоров, холлов, залов заседаний, кабинетов, комнат... Может быть, тут всех отсеков и не больше, чем сот в пчелином улье, но там, по крайней мере, без особого труда разгадаешь порядок расположения пчелиных домиков, поймешь целесообразность их устройства, – здесь же так все перепутано-переплетено, что и сам черт сломает себе голову.
Но директор института Вадим Михайлович Бродов ориентируется без малейших затруднений. Он знает: три первых этажа – домны; три средних – мартены; три верхних – прокатные станы. Вадим Михайлович руководит институтом через начальников отделов. Выслушивает их доклады, с них спрашивает за состояние дел. Руководителей секторов, групп он знает лишь отчасти. Их слишком много. Впрочем, одного из них – руководителя группы фильтров Спартака Папа, он знает очень хорошо. Пап – умница, дипломат. Пап для особых поручений.
С таким поручением он отправился в Железногорск. Но обстоятельства вынудили директора прервать миссию Папа. Бродов послал ему телеграмму, в каждом слове которой звучала тревога: «Прервите дела, выезжайте немедленно». И Пап, не любивший торопиться, на этот раз явился в кабинет директора прямо с вокзала. И по землисто-серому цвету лица Бродова, по тому, как Вадим Михайлович поздоровался с ним, – протягивая ему руку, продолжал читать лежавшую перед ним кипу бумаг, – по всем этим признакам Пап сделал вывод: разговор предстоит невеселый. По давно усвоенной привычке замирать в подобных случаях, не делать лишних кругов в сосуде, переполненном через край, он неслышными шагами подошел к кожаному креслу перед столом директора, опустился в него. Смотрел, как директор, продолжая читать бумаги, нервно пощипывал темно-бурую лопату-бороду, – её в институте зовут «курчатовка» – и как он время от времени брал её в кулак и тянул книзу. Потом Пап от нечего делать принялся вспоминать другие ситуации, когда директор точно таким же манером брал в кулак бороду и начинал развивать какие-нибудь мысли. Когда у него хорошее настроение, он заводит разговор о физике, и нередко с томной грустью замечает: «Я же физик, что вы хотите?..» И затем последуют жалобы на судьбу. Ученый есть ученый и незачем ему директорское кресло. Вон академик Фомин! Он хоть и поздновато, но вынул из хомута шею, а я, как видите, влез в хомут.
– Где Савушкин? – спросил директор, поднимая на Папа серые с зеленым отливом глаза. И в глазах этих, обычно сиявших для Папа лаской и доверием, сейчас стоял холод.
– Савушкин? – Откуда я знаю... Под Москвой где-то. А что, Вадим Михайлович?.. Случилось что-нибудь?
– Да, случилось! Мне звонил министр, приказал написать объяснение, на каком основании уволили из института большого специалиста.
– Он сам ушел! – невозмутимо сказал Пап.
– Не валяй дурака! Ты лучше, чем кто-либо, знаешь, кто «уходил» Савушкина, и ради кого его «уходили».
Бродов, казалось, испытывал удовольствие при виде растерянного, сделавшегося совсем круглым Папа; Бродов вымещал на нем злобу за причиненную боль, за те унизительные объяснения, которые он давал по телефону министру по поводу увольнения Савушкина из института и назначения на его место Папа – человека, не знающего не только фильтры, но даже и азы металлургии. Отдел Фомина подготовил министру доклад о дефектах автоматических систем на железногорском стане; и там сотрудники его отдела яркими красками расписали новые фильтры, созданные институтом. Не преминули задеть и «Видеоруки», подсчитали экономический урон, понесенный государством от их внедрения на вновь строящихся станах страны. Фомин, конечно же, упомянул, что «Видеоруки»– творение Бродова, тема его кандидатской диссертации. И, может быть, в устной беседе, между делом, сказал о родстве Папа с женой Бродова.
– Цинизм и пошлость я бы тебе простил, – продолжал Бродов, обжигая Папа презрительным взглядом, – но ты ещё и дурак, а это, как говорят французы, надолго. Зачем тебе понадобилось рекламировать свое родство с Ниоли?..
Бродов вспомнил, как министр без всяких церемоний спросил по телефону:
– Правда ли, что Пап – родственник вашей жены?..
Бродов не помнит, как отвечал министру, он только помнит, как горели щеки и уши, молотками стучало в висках.
«А все этот Пап, все Пап проклятый!..» – думал он тогда. И точно о том же думал он сейчас, глядя на Папа полными бессильной злобы глазами.
Министр был нетерпелив в разговоре, не скрывал возмущения. Не дослушав объяснений, приказал лично поехать к Савушкину, извиниться перед ним, вернуть его в институт, – да так, чтобы не ставить Савушкина в зависимость от случайных людей. Таких, как ваш...
Он забыл фамилию и, напрягая память, проворчал нечто вроде «А, черт!..» Потом почти выкрикнул: – Папа!..
Он, конечно же, нарочно сказал: «Ваш Папа», а не Пап. Бродов не стал поправлять, а только склонил к трубке голову да так, что борода его прижалась к верхней пуговице однобортного, недавно сшитого по заказу Ниоли костюму.
Сейчас, вспоминая подробности беседы с министром, он слышал, как по всему телу его бежит озноб. Что теперь думает о нем министр?.. Как ему работать?..
Бродов оперся грудью на стол, задумался. Он излил на Папа всю желчь, выплеснул на него все самые обидные слова и теперь мысленно перенесся домой, представил диалог с Ниоли. Он знал: как только он выпустит из кабинета Папа, так тут же этот прохиндей доложит Ниоли обо всем случившемся. Они станут вырабатывать план действий, и он, Бродов, окажется в жерновах их закулисных махинаций. А по опыту он знал, их козни имеют не меньшую силу, чем доклад Фомина министру о дефектах автоматики. – Ладно, Пап, – заговорил Бродов тоном, в котором слышалось примирение. – Бранью делу не поможешь. Вам придется уходить. В другой институт. Я устрою.
– Не пойду, – выдохнул Пап. Он вскинул на Бродова птичьи, заплывшие жиром глаза, метнул в него искры вспыхнувшей внезапно ненависти. Его огромный живот дрожал под полами дорогого костюма, и шея, малиново покраснев, вздувалась от прерывистого тяжкого дыхания. – Закон на моей стороне: я получаю премии, был отмечен в приказе... У вас плохи дела, вы и уходите. А у меня, слава богу, ничего... дела идут.
Бродов откинулся на спинку кресла, вцепился в мягкие подлокотни. Он понял: свалял дурака! Надо бы с ним по-хорошему, а он... разъярил... Обидные слова, которые он только что выплескивал на голову Папа, – все отошло в сторону... Теперь в разгоряченном мозгу билась одна мысль: ты сам глуп и примитивен, ты сам дурак, сам дурак!.. Бродов вдруг, в одно мгновение, осадил себя, но было поздно: отношения с Папом были испорчены. Пап теперь встал на дыбы и, чего доброго, пойдет на своего обидчика в атаку.
– Поймите меня, Спартак... – заговорил Бродов, и в голосе его послышалась мольба.
– И понимать не хочу! Институт не вотчина Бродова, учреждение государственное. Вы напортачили в заказах по железногорскому стану, вы и убирайтесь.
Группа фильтров, слава богу, ничего! Наш труд недавно в приказе отмечен.
– В приказ-то я вашу фамилию вставил, – растерянно парировал Бродов.
Но инициатива от него перешла в руки Папа; теперь директор не наступал, а оборонялся. И Пап заметил это и усилил натиск.
– Приказ подписал директор, лицо официальное. А кто он такой и что за человек – не мое дело. Сегодня вы, завтра другой.
Пап снова метнул на Бродова огонек птичьих глаз и, видя, что противник растерян, продолжал наносить удары.
– «Видеоруки» выбросили на слом, рабочие написали письмо в Высшую Аттестационную комиссию,– они требуют лишить вас ученой степени. Так-то, шеф! А там ещё комсомольцы бузу подымают. Я притушил костер, но мне не удалось погасить его совсем. Ваше дело плоховато, и не валите вы с больной головы на здоровую.
– Погоди, Пап, что ты городишь: ты же сказал, комсомольцы не станут. Как тебя понимать?..
Последние слова Бродов проговорил бессознательно,– он поверил Папу и уж представил, как его вызывают в министерство, как там, на коллегии, начнется обсуждение институтских дел, представил, как потом им лично, как ученым, займутся в Министерстве высшего образования, как председатель ВАК прочтет документ, лишающий его звания. И как потом он, Вадим Бродов, развенчанный кандидат, опозоренный, идет по Москве и не знает, куда ему следовать: домой или в институт. Потом ему стали рисоваться сцены объяснения: дома, в отделе кадров министерства, с друзьями...
Бродов отвернулся от Папа. Он смотрел в окно и призывал на помощь всю силу воли и здравый смысл, чтобы не делать больше глупостей, а как-нибудь выпутаться из этого положения.
И он решил: разговор с Папом надо перенести домой и там, за ужином, в семейной обстановке, обсудить сложившуюся ситуацию. Он верил в практический ум Ниоли, в её способность улаживать любые дела.
И Бродов сказал Папу:
– Мы сейчас возбуждены и говорим много глупостей К тому же...
Он взглянул на часы:
– ...у меня сейчас совещание. Приходи сегодня вечером к нам...
– Занят. Не могу! – отрезал Пап. И поднялся.
Шумно вздохнул.
– Приходи же. Я прошу. И Ниоли...
– Ладно,– кивнул Пап от двери,– Может, приду.
И вышел довольный собой, Его натура раскрылась сегодня с такой силой, какой он и не ожидал.
Конечно же, письмо рабочих он придумал на ходу, и придумал, как теперь мог заключить, к большой своей пользе и выгоде.
4
Давно наступило утро. Бродов уехал на работу, но Ниоли не хотела вставать: включила над головой бра и долго ещё лежала на высоких подушках, сладко и шумно зевала, прогоняя сонную истому. Потом она разглядывала свои руки – в воображении вызывала картину, как бы эти руки красиво могли быть представлены в сцене умирающего лебедя, если бы Ниоли пошла в балерины. Но Нёличка, как называла её мать, пренебрегла искусством, она пошла в модный и труднодоступный институт международных отношений, и хоть с горем пополам, но закончила его и получила диплом,– теперь он составляет главный источник её гордости. Она нередко, в кругу друзей, когда, конечно, заходит речь о призвании и общественных задачах, нет-нет да скажет: «Я по образованию дипломат, мое дело темное». И все непременно рассмеются такой шутке, одарят молодую женщину взглядами, в которых она прочтет то зависть, то искренний восторг, но чаще и то, и другое.
Друзья её называют Нёлькой, муж говорит просто Нёль, – она благосклонно принимает все эти варианты, но бывает уязвлена в своих лучших чувствах, если человек не близко знакомый и по делу официальному обратится к ней без должного почтения, позволит себе фамильярность. Ниоли не занимает никаких постов, но не считает себя вправе стоять в стороне от мужниных дел, – особенно когда речь идет о подборе кадров, расстановке людей, в которых муж её, по её глубокому убеждению, как и всякий мужчина, ничего не смыслит. Тонко, деликатно, скрытыми от мужа путями она взяла под контроль отдел кадров института, и никто на свете, даже муж её, не смог бы обнаружить нити, за которые она дергает. А ниточек этих всего три: начальник отдела кадров, секретарша директора, она же дочка старой приятельницы, и дальний родственник Ниоли Спартак Пап. Между прочим, она с ним училась в одном классе и ещё девочкой была в него влюблена.
С этими людьми она встречается или говорит по телефону. Они её слушают: сообщают ей о движении сотрудников, всяких упразднениях, назначениях – и если не получат от нее санкции, не дают делу хода, а тем более, окончательного завершения.
«Как удивительно просто устроено все на свете!»– думает Ниоли, расправляя зеленое атласное одеяло и бросая взгляды на белые, как парное молоко, руки.
Она притушила яркий свет и включила ночник над туалетной тумбочкой,– в спальне разлился усыпляющий полумрак, и она закрыла глаза в надежде, что поспит ещё часок; но сон к ней не приходил, его не пускали веселые приятные думы, лениво ходившие в полусонном тумане: – да, конечно, в жизни все устроено так просто и так хорошо, так ясно... Зачем это люди прилагают столько сил, чтобы все усложнить, запутать, надеть на себя тяжелые, как кандалы, правила, выработать законы и затем принуждать людей к их исполнению. Ведь все равно на свете есть и всегда будет много людей, которые заняты тем, как бы все устроить ко своей собственной выгоде.
Она вновь открыла глаза. Сквозь тяжелые оконные шторы просвечивался хмурый зимний день; с улицы доносился шум автомобилей, во дворе дома по обледенелому асфальту шаркал метлой дворник. Здесь же, в спальне, ничто не напоминало о суете жизни, людских тревогах. На паркетном полу лежал во всю комнату китайский ковер – безвестный художник изобразил на нем купол ночного неба с месяцем и крупными звездами; Ниоли любит вставать на «небо» босыми ногами, она любит затем сесть в темно-красное кресло, что поставлено у окна, и некоторое время посидеть в нейлоновом халате. Он точно облако окутывает её тело, просвечивая голые плечи, ноги, спину. Кажется, ещё вчера в квартире было шумно – сын и дочь, студенты, наполняли все вокруг книгами, иностранными журналами – с утра до ночи гремели магнитофоны, транзисторы. Потом вдруг, словно сговорившись, сын женился, а дочь вышла замуж; им купили кооперативные квартиры, отселили, и в квартире Бродовых наступил рай. Никого нет, все четыре комнаты раскрыты, все хранят тишину и ждут, когда хозяйка выйдет и начнет неспешный обход своих владений. Недавно из Польши по особому заказу на их имя пришел комплект мебели для кухни, столовой и гостиной. Столы, стулья, кресла, софы и диваны в современном стиле – рассчитаны на эффектные позы «полулежа»; полировка настолько идеальна, что во все деревянные части можно смотреться, как в зеркало, и что особенно важно: мебель исполнена прочно, не в стиле модерна, где все стоит на куриных ножках. Нравилась Ниоли и обстановка в спальне, её собственном кабинете и в кабинете мужа. Мебель здесь исполнялась по индивидуальным чертежам, по спецзаказу. Словом, все в квартире нравилось молодой женщине, и она любила в ней побыть одна, любила поваляться в кровати столько, сколько ей захочется, и даже не всегда отвечала на телефонные звонки, раздававшиеся в эти, так любимые ею, утренние часы.
Неожиданно раздался звонок в коридоре. Сунув ноги в тапочки, она метнулась к теплому халату, но тотчас услышала знакомое лязганье дверных замков и успокоилась: пришел Вадим. Только он имеет ключи от квартиры,– больше открывать некому. И Ниоли сбросила вязаный халат, накинула нейлоновый. И вышла навстречу мужу. Он уже раздевался в коридоре и чего-то говорил ей через все комнаты.
– Не слышу тебя! – вышла она в гостиную.
Вадим заключил жену в объятия, поцеловал в шею, поочередно прикоснулся настывшими на морозе губами к её теплым розовым щечкам. Внутренне Ниоли поежилась: ей не нравились бездушно-холодные поцелуи мужа, словно он выполнял давно заведенный и устаревший ритуал. Неприятный озноб пробежал по телу и от его холодных и тоже будто механических рук; и она, как это часто бывало в последнее время, подумала, что муж её хоть и здоровый, красивый – он хоть и нравится женщинам, но годы свое берут. Ему уж скоро будет пятьдесят, в нем нет и не может быть того тепла и трепета, которые бушуют в молодом организме,– и мысль о какой-то другой жизни скользнула в голове, но только скользнула, потому что опытный взгляд уловил тревогу в глазах мужа, и она, усаживаясь на диван под большим белым торшером, спросила:
– Ты чем-то взволнован?
– А ты читаешь мои мысли?
– Плохая жена, если она в глазах мужа не видит его душу.
Бродов прошел на кухню, достал из холодильника кувшин с компотом, наполнил хрустальный фужер.
Ниоли следовала за ним, была у него за спиной.
– Люди, которых ты мне рекомендуешь в институт, подводят меня,– начал он. Ему трудно было держать себя на тормозах.– Ты думаешь только об одном: как бы пристроить человека, а между тем, существует ещё и деловая сторона вопроса – есть работа, за которую спросят с меня.
Бродов хотел сказать: «а не с тебя!», но удержался, решил не доводить дела до скандала. Ниоли, в свою очередь, хоть и уязвлена была грубостью тона своего супруга, но как и всегда в подобных случаях, решила выждать, когда гнев спадет у него и ей легче будет переубедить мужа. Она вообще придерживалась тактики убеждения. Знала, криком ничего не возьмешь: чего доброго, он закусит удила и начнет разрушать её планы. А планы у нее были всегда. Исполняла их Ниоли с великим тщанием, готовила исподволь. На этот раз её занимал новый план, по которому из седла должен вылететь один ведущий ученый института и на его место посажен другой.