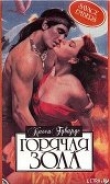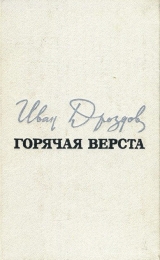
Текст книги "Горячая верста"
Автор книги: Иван Дроздов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Феликс сел в кресло, вскинул ногу на ногу, надул свои малиновые пухлые губы.
Потом вдруг порывисто встал.
– Пойдем гулять! А? Настя обрадовалась возможности уйти из комнаты, очутиться на улице, развеять невеселые думы. Она переживала за ансамбль, за Егора, за его первое и неудачное выступление на сцене.
Через минуту они шли по мокрому снегу прибрежной полосы, по ребристому тугому песку, отливавшему в свете луны темной и сырой синевой. Настя шла, почти не слушая болтовню Феликса.
А он то и дело возвращался к артистам, хвалил концерт.
– Певица была хороша. И вид у нее эффектный, этакий античный бюст и расклешенный казакин, – повернется, а полы казакина, точно крылья бабочки, вспорхнут и опустятся. Туфельки сверкают в лучах огней, – нет, что бы там ни говорили, а папахен знает психологию людей. Он знает, что оттенить в женщине и чем поразить толпу.
– А по-моему, они провалились.
– Чепуха! – возвысил он голос. – Этот старик, Павел Павлович, гнусную клевету распространяет, а вы ему верите. Провалились, провалились!.. И артисты носы повесили. Да мне на их постные морды смотреть противно. Ну – да, уходил зритель во время концерта. Что ж с этого! Ты бы посмотрела, кто уходил. К буфетной стойке тянулись. Они везде одинаковы, эти доживающие век мастодонты. Они от всего, что нам молодым, нравится, нос воротят. То не так, это не по ихнему. Им бы «шумел камыш» только петь да «бродягу» байкальского. А молодежь хлопала. Я же видел – хлопала! На песчаной косе остановились. Настя стояла, закинув назад голову, зажмурив глаза. С моря тугой волной шел влажный южный воздух. Где-то совсем рядом, у самых ног, шуршали под водой песчинки – будто бы запоздалые чайки кричали в небе или то в совхозном порту раздавался лязг железа; Насте было хорошо стоять и приятно слушать Феликса. Положим, стариков он честит понапрасну, но что-то есть в его словах и от правды. Слушая его, она успокаивалась.
Феликс взял её за талию. Привлек к себе. Настя уперлась ему локтями в грудь, но совсем не отстранялась, В голове её шумело только что выпитое на ужине у директора вино, прохладная свежесть ночи и умиротворяющий, навевающий сон плеск волн – все томило и расслабляло.
– Настя!.. Не кажется ли тебе... Ну что мы с тобой... созданы друг для друга?..
– Нет,– качнула она головой, —не кажется.
– Почему?
– Потому что между нами нет любви.
Настя с усилием высвободилась из его рук и подошла ближе к берегу. Она поняла ответственность момента и почувствовала, как Феликс чужд ей, как он ей не нужен и неприятен. Пожалела, что пошла с ним на прогулку и подумала: «Надо быстрее возвращаться».
И сказала:
– Мы, кажется, далеко зашли.
– Настя! – удержал её Феликс. – Я не умею говорить слова любви, – ты их от меня не требуй. Но знай раз и навсегда: я без тебя не могу жить. Мы должны быть вместе!..
Девушка подошла к воде, задумалась. У ног её покорно ворчало море.
Если волна была больше обыкновенной, то шумливая галька отбивала глухую барабанную дробь, напоминая Насте только что отгремевший концерт и жидкие хлопки зрителей. Даль моря светилась серебряной рябью. Ветер внезапно стих, словно испугавшись происходящей тут сцены.
К ней сзади неожиданно подошел Феликс и крепким, сильным объятием сжал её талию, стал целовать шею, щеки... Девушка попыталась высвободиться, но Феликс сдавил её ещё сильнее, прижался щекой к уху. И тогда Настя, что было мочи, толкнула его. И рванулась так, что Феликс, потянувшись за ней, припал на колено, протянул к ней руки. Как раз в этот момент из темноты выступил Егор Лаптев.
– Репетируете сцену любви? – сказал он, оглядывая то Настю, то Феликса, стоявшего перед ней на коленях.
Молодые люди молчали. И тогда Егор, свернув на свою тропинку, глухо проговорил:
– Я помешал. Извините.
И исчез в темноте.
Феликс и Настя возвращались берегом моря, держась поодаль друг от друга и молчали. Феликс молчал, удрученный смутным предчувствием крушения своих планов. Настя пыталась разобраться во всем, что с ней произошло. Во всем она винила прежде всего себя, свою бесшабашность и простоту. Незачем было идти на прогулку.
И ещё она подумала, что в их отношениях с Феликсом произошла какая-то перемена. «Уж не забрал ли он в голову серьезные виды на меня?..»
Потом она мысленно себя оправдывала. С Феликсом они давно приятели. Прежде их отношения с ним были просты и естественны: возраст у них один, он красив, умен, с ним всегда интересно. Бывало, когда они вместе идут по городу или катаются на коньках, все смотрят и завидуют им. Феликс был иногда развязен сверх меры, циничен,– он однажды показал ей шариковую ручку – в ней была миниатюрная кинолента со стриптизом: Настя бросила ручку на камень и разбила её. Феликс сказал: «Ты не современна». И Настя потом долго думала над смыслом этих слов. Он все время говорил о глупости традиций и условностей, повторял, как афоризм: «Все естественное не стыдно». «Так, может, прав Феликс?..» – думала не однажды Настя.
На стане его часто видел дедушка. Заметил неравнодушие к Насте. Присмотрелся к нему повнимательнее. Однажды сказал:
– Попрыгунчик.
Настя тогда смеялась: дедову неприязнь к парню объяснила случайным и нелепым выпадом Феликса против станов-гигантов. И ещё подумала: старики не терпят инакомыслящих. Не терпят. Тогда её симпатии склонялись к Феликсу...
Порой возникали смутные тревожные вопросы: Что же в нем дурного – где кроется зло?.. Уж не вольность ли выражений надо принимать за порок? Не цинизм ли?.. Может, та ручка с пикантным сюжетом?.. Или его напускная небрежность, демонстративный бунт против стыдливости и совести, стремление к обнаженности отношений с женщиной?.. Его подчеркнутая резкость?..
И только сегодня Настя вполне оправдала дедушкину неприязнь к Феликсу. И ещё поняла: у них с Феликсом не только взаимной любви, но даже простой человеческой дружбы не может быть.
В мысленном диалоге с собой Настя подводила итог своих отношений с Феликсом и внутренним чутьем понимала, что настала пора это сделать. Она ещё не могла толком объяснить, но сердцем чувствовала наступление другого, важного, может быть, самого важного периода в своей жизни. Она ещё не могла себе признаться, что любит Егора, но знала: появление на горизонте Егора многое изменило в её жизни. У нее появилось стойкое, никогда не проходящее желание видеть его; она помимо своей воли и часто, не замечая того, стала тщательнее прибирать волосы, критически переоценивать всю свою одежду. Возникшее у нее вдруг желание пересмотреть отношения с Феликсом она тоже относила к факту появления Егора Лаптева.
Впрочем, если бы её спросили: любит ли она Егора, она бы искренне удивилась такому вопросу и, конечно же, ответила бы отрицательно.
7
Егор, свернувший на свою тропинку после неприятной, нелепой и, как ему казалось, унизившей его встречи с Феликсом и Настей, вскоре увидел впереди себя силуэт какого-то дерева, подошел к нему, обнял ствол руками, и так, прижавшись к шершавой коре щекой, стоял пять, десять минут, а может быть, целый час. Слышал, как гулко стучит сердце, – и не пытался себя утешить и как-нибудь сгладить, смягчить удар. Он этот удар получил по заслугам. У него не было даже малейшего повода для своих несбыточных притязаний. Именно несбыточных! Как же иначе можно назвать его посягательство на внимание, на дружбу и даже на любовь Насти?.. Забрал в голову черт знает какие мысли!.. Настя была в ссоре с Феликсом и раз-другой оказала Егору предпочтение, выказала чувства участия, уважения,– наконец, дела у них общие: забота о стане, идея письма в газету... Настя вела себя, как товарищ, как равный с равным. А когда на танцах сидела с ним и не хотела танцевать с Феликсом, и даже проводить себя позволила только Егору,– так этим Настя хотела уязвить Феликса. Гуляла с Егором, а думала о Феликсе. Как же он тогда не сообразил!
Вот этого последнего Егор не мог себе простить. Мысль о том, что Настя его не любила, не однажды являлась ему и ранее, но то, что его дурачили, водили за нос, как глупого мальчишку,– эта мысль была для него и новой и оскорбительной.
Хрустальный дворец, который он возводил в своих мечтах в последние дни – и уж возвел высоко, под самую крышу, вдруг рухнул в одно мгновение. В отчаянье он спрашивал себя: можно т вот так, одним ударом обезоружить человека?.. Можно ли в один миг лишить всего – интереса к делу, к людям?
Егор задавал себе эти вопросы и каким-то далеким, неземным и будто бы не своим чувством поднимал из глубин души силы, зовущие к жизни. «Ты должен не только жить, но и победить,– говорили эти силы.– Ты им докажешь, какой ты человек!..»
Вся прошлая жизнь казалась Егору ошибкой, дурным сном. Поделом смеялся над ним Феликс, говорил: «Егор кочергой шурует...» Именно шурует. Именно кочергой. Феликс не придумывал и не сочинял. Егор выполнял грубую, черную работу. Там ни ума не надо, ни искусства. «Круглое катай, квадратное таскай» – так и это. И как это могло случиться, что на такое попал он, а не кто-нибудь другой?..
Феликс и дружбу-то вел с ним как-то необычно, не по-людски, Он словно одаривал Егора своим вниманием. Как бы говорил: «Дружба дружбой, а ты свое место не забывай. Гусь свинье не товарищ». «А и в самом деле!– рассуждал Егор, стараясь быть объективным – Феликс человек иной среды, иного плана,– у него и путь в жизни иной, чем у Егора. Пройдет пять – десять лет, и Феликс сменит на посту директора института брата своего Вадима или здесь, на заводе, станет главным инженером, а Егор... оператор стана. У каждого своя жизнь, своя дорога! И Настин путь такой же, как у Феликса, Неужели Настя, выбирая себе спутника жизни, учитывает все это?»
Егор улыбнулся своим мыслям и оттолкнулся от дерева. Подошел к воде и носком туфли коснулся набежавшего пенного гребня волны. Настя теперь казалась ему обыкновенной, такой, как все. В одну минуту он сбросил с нее ореол чего-то большого и возвышенного. Он вновь подумал об Аленке – на этот раз серьезно с каким-то близким родным чувством. Вот бы её увидеть, найти её и подать ей руку, сказать: «Я долго искал тебя, Аленка. Вот тебе моя рука, я тоже романтик».
Казалось, ему удалось расправиться с Настей. Стал приходить в себя, успокаиваться. Он шел по берегу возле самой воды, гулко шлепая по мокрому песку. И думал о том, как он скоро начнет новую жизнь. Конечно же, «пику» он бросит. Перейдет на пульт. Если даже и новый прибор откажет, он все равно заявит отцу: «На пульт или совсем уйду». И бухать в барабан, и петь одну-единственную музыкальную фразу не станет. Он смутно представлял себя в новой яркой жизни, окруженным друзьями и почитателями. И невольно, сам того не желая, возвращался мысленно к Насте, рисовал в воображении картины счастливой иной жизни. И видел, как она идет к нему навстречу, и улыбается, и говорит, как тогда, во время их первой встречи.
Гостиница была далеко, огни её едва различались. Егор повернулся и скорым, уверенным шагом устремился к городу. Боль сердца утихала, и внутри образовывалась пустота. Шагалось Егору легко: он знал, как бы ни складывалась его жизнь в прошлом, к старому возврата нет. Он ещё не знал, что будет делать завтра, но крепко верил, что от него зависит, кем он станет и чего добьется.
Глава вторая
1
Три человека, знающих друг друга по фамилии, и по занимаемой должности, и по тому удельному весу, который каждый из них занимал в мире металлургической промышленности, но совершенно не знающих друг друга по линии человеческой – по характеру, наклонностям, психологическому складу, собрались в кабинете Главного специалиста, чтобы выработать рекомендацию для предстоящей в конце декабря коллегии министерства. Все они понимали важность своей миссии и потому, прежде чем начать деловую часть, критически оглядели свои ряды и задумались над одним и тем же вопросом: правомерно ли обсуждать вопрос о строительстве на «Молоте» автоматической линии производства металла наличным составом, то есть составом из трех человек, или им надо перенести совещание до того времени, когда соберется совет в полном составе?
– Очевидно,– заговорил хозяин кабинета Главный специалист, он же председатель совета,– в нынешнем году мы не сумеем собраться в полном составе, так как один член совета находится в служебной командировке и пробудет там два месяца, другой болен и, как вчера сообщили министру, надежд на выздоровление нет.
Главный специалист оглядел присутствующих в кабинете двух членов совета, людей, пользующихся большим авторитетом у металлургов, доверием у министра – академика Фомина и начальника ведущей лаборатории НИИавтоматики очень старого человека с немощным телом и круглой маленькой головкой, на которой аккуратным пробором лежали жидкие, покрашенные красновато-коричневые волосы.
– Слушаю ваше мнение, Михаил Лаврентьевич. – Главный специалист повернулся к нему на своем вращающемся кресле.
– Начнем. А что ж, начнем,– заторопился с ответом вспугнутый Михаил Лаврентьевич и зашуршал бумагами, которые перед ним лежали.
– Ваше мнение, Федор Акимович? – Главный специалист крутнулся с креслом к тому углу в кабинете, где глубоко утопал в кожаном кресле академик.
– Да, начнем,– Фомин вяло взмахнул рукой, как бы открывая совещание.
– Тогда будем слушать вас, Михаил Лаврентьевич. Вам начинать.
Маленький седенький человечек, имевший в науке много титулов и наград, весь напружинился, суетно зашуршал листами, извлекая на поверхность то один лист, то другой, откашливаясь, прикрывая рот трясущейся рукой, при этом говоря какие-то междометия, пытаясь шутить и тем самым создать атмосферу доверительную, дружескую, придать начинающемуся, важному для всей его жизни, разговору тон обыкновенной деловой беседы, каких бывает у него много в институте.
Ему было за семьдесят, он со дня на день собирался на пенсию, но прежде ему надо было добиться признания так называемой новой ступени автоматизации металлургических процессов, ступени, которой он и его лаборатория посвятили последние пятнадцать лет жизни. В свое время он здесь же, в министерстве, доказывал необходимость проектирования этой ступени, ему выделили деньги, людей, к созданию этой ступени подключили другие лаборатории НИИавтоматики, и теперь, когда она готова в чертежах и её надо строить, неожиданно, как айсберг, всплыл конвейер Фомина. Оказывается, он тоже работал над своим конвейером много лет, но не шумел, не привлекал к его созданию много людей и средств, все выполнял сам при помощи нескольких своих сотрудников, но, как всегда, идеи Фомина поражали своей новизной и смелостью, так и теперь его конвейер привлек внимание металлургов. Михаил Лаврентьевич в тайных мыслях своих считал идею Фомина абсурдной. На языке у него вертелись слова: «Прожектер, ретроград, маньяк...» Нетерпеливое желание разрушить фоминский айсберг, убрать его с дороги туманило разум, замедляло ход мысли, Михаил Лаврентьевич говорил вяло и несвязно. Он в руках вертел отснятую копию «Молнии», доставленную ему вчера вечером Папом, все порывался пустить в дело этот свой козырь, но откладывал его в конец речи и пока старался убедить Главного специалиста в разумности своего проекта и нереальности проекта Фомина.
– Техническая революция вступила в эпоху,– говорил Михаил Лаврентьевич,– когда надежность деталей и машин стала главным направлением конструкторской мысли. Это направление, или рубеж, или, как говорили в старой русской армии, редут выдвинула на первую линию автоматизация. Она подчас бросает механическую систему на произвол судьбы, и тогда спасти машину или агрегат может запас прочности, надежность конструкции...
Фомин слушал Михаила Лаврентьевича, но думал не о том, что говорил его противник,– все его доводы он знал наперед,– академик время от времени кидал зоркие взгляды на Главного специалиста и старался угадать ход его мыслей. Обстановка на совете сложилась невыгодно для Фомина. Было бы совсем другое, если бы совет заседал в полном составе, тогда бы все решилось просто и ясно: рекомендовать конвейерное звено Фомина, но теперь все оказалось в руках Главного специалиста, человека, по мнению Фомина, хорошего, умного, отлично знающего прокатное дело, но недостаточно компетентного в таких сложных научно-технических вопросах, какой поставлен сегодня на совете. А поскольку Фомин, как человек прямой, бесхитростный, никогда не стремился установить с Главным специалистом хороших отношений, частенько игнорировал его или попросту не замечал, то и сегодня он питал слабую надежду на его поддержку.
«Прямо он на меня не пойдет... вряд ли пойдет,– утешал себя академик Фомин,– но и поддержки от него ждать не приходится». В другой раз Фомин думал категоричнее: «Уйдет в кусты, станет вилять. Ну и черт с ним! Лишь бы не вынесли решения, отвергающего линию!» Фомину трудно было слушать и даже сидеть в одном положении было трудно, потому что сильно болела голова, и он боялся, как бы с ним не случился гипертонический криз. Он в последнее время болел и даже на «Молот» не выезжал, хотя знал, что там сейчас ученые из НИИавтоматики, и сам Бродов, и что там сейчас, как никогда прежде, нужны его консультации. Он бы не приехал и на совет, если бы для него он не имел такого большого значения. Он, все-таки, верил, что Главный специалист примет его сторону, и тогда облегчится его положение во время окончательного обсуждения его проекта на коллегии министерства.
Глубоко тревожил его стан «2000». К новому году он должен выходить на проектную мощность. Выйдет, тогда и конвейер его пойдет легче, его, конечно, примут и начнут строительство, но что если стан подведет?.. «Вот тогда они вскочат на коней, – подумал о своих противниках.– Понесут... с гиком, улюлюканьем...»
Затылок пекло, словно к нему прислонили раскаленное железо. Неудобно было дремать, а хорошо бы закрыть глаза, забыться...
– А вот свидетельства самих прокатчиков,– продолжал Михаил Лаврентьевич,– вот они, вы можете их посмотреть.
Он поднял большой лист фотографической бумаги с копией летучей газеты «Молния».
– Здесь со статьей выступает Лаптев, тот самый знаменитый Лаптев, которого все мы глубоко уважаем и к голосу которого, как нам известно, прислушивается и почтенный Федор Акимович.
«Паша, что же ты написал в этом листке?»– с горечью подумал Фомин.
– Слушайте. Я буду читать: «Стан могуч, спору нет, но пока идет с перебоями, то и дело останавливается, точно у него одышка. То лист начнет косить, то валки полетят, а то рольганги...» – Валки? – переспросил Фомин.– Никогда этого не было. Бог миловал.
– Не я говорю об этом, Федор Акимович, а Лаптев. Да, Лаптев! – Ладно. Читайте дальше,– махнул рукой Фомин. И подумал: «Сдурел, что ли, Паша!» Михаил Лаврентьевич читал: – «Мы хоть и рядовые прокатчики, но можем судить о смелости конструкторов, создававших стан. Они не боялись перегрузок, верили в потенциальные возможности современных материалов, но факт остается фактом: механические системы подводят прокатчиков, стан на проектную мощность не выходит. Кто тут виноват – сами судите!..» – Выйдет, выйдет стан на проектную мощность!– пообещал Фомин.
– Хорошо бы, Федор Акимович! Мы бы вместе с вами порадовались...
– Сомневаюсь...
Главный специалист поднял руку, призывая к порядку, и улыбнулся, давая понять, что реплику Фомина воспринимает как шутку. И Михаил Лаврентьевич, прервав свою речь, заулыбался. Он тоже воспринял реплику как шутку. И, конечно, не обижался на Фомина.
В заключение, обращаясь к Фомину и показывая ему то место, где под статьей стояла подпись, проговорил:
– Лаптев пишет. Лаптев!..
Фомин с горечью подумал о своем друге: «Эх, Паша, Паша, видно, не хотел ты мне зла, а ударил в самое сердце».
Академику и в голову не пришло спросить, а какой Лаптев написал статью? На «Молоте» два Лаптевых! Егор не в счет, он выпал из головы. Конечно же, Павел! Кто же другой?..
Главный специалист поблагодарил оратора за сообщение, зачем-то передвинул бумажки, лежавшие перед ним, и очень вежливым виновато-заискивающим голосом попросил Фомина высказаться.
– О чем же? – развел руками академик.– О своем проекте?.. Мне о нем неловко говорить. О проекте Михаила Лаврентьевича?.. Рекомендовать к строительству я его не могу... Критиковать его?.. Уж это, извините, совсем было бы нехорошо. Да, нехорошо-с!.. Потому как в сложившихся обстоятельствах, когда наши проекты конкурируют!.. – Фомин это слово сказал громко, врастяжку, почти прокричал. И строгим, укоряющим взглядом обвел Михаила Лаврентьевича, Главного специалиста...– Да, конкурируют!.. И что же, по-вашему?.. Я буду отшвыривать ваш проект и расчищать дорогу своему?.. Я ещё не совсем потерял стыд! Да!.. И совесть человека, и честь ученого... Не потерял-с, нет! Это уж вы, Михаил Лаврентьевич, потрясайте этой... как её... «Грозой»! То есть «Молнией». Она, может быть, вам поможет. А мне, что ж?.. Да и нет у меня её... И фотоаппарата нет. Чтобы по цехам ходить, фотографировать.
– Позвольте, Федор Акимович! Что вы такое говорите?.. Я в вашем цехе отродясь не бывал!..
– Тогда на расстоянии. Как-нибудь, из Москвы...
– Зачем же на расстоянии? Там только что был наш человек.
– Ваш человек?..
– Да, институтский. Он без злого умысла отснял стенную газету.
– Ради спортивного интереса?..
– Если хотите... Может быть!.. Зачем же делать такие обвинения?.. У вас нет на это никаких прав.
Извините, я теперь не знаю, что мне и думать.
Главный специалист растерялся, поднял обе руки, успокаивал то Фомина, то Михаила Лаврентьевича.
Он такую сцену не ожидал и не знал, как себя повести в разгоревшемся споре. Он сейчас поражен был раскрытием тайны со стенной газетой. В обвинениях Фомина не сомневался. Как же иначе могла появиться «Молния» в руках Михаила Лаврентьевича?.. Кто-то же отснял её?.. Кто-то и зачем-то доставил её в институт?
Главный специалист теперь думал о том, как бы эта история не дошла до министра, его заместителей, членов коллегии. Будучи наслышанным о прямоте Фомина, его умении драться с противниками, отстаивать свои идеи, наконец, о большом авторитете академика, он был почти убежден в неминуемости объяснения с министром. «Что, мол, за методы институтские товарищи применяют?..» А так как все знали неравнодушие Главного специалиста к НИИавтоматики, его дружеские отношения с директором, да и самим Михаилом Лаврентьевичем, то невольная тень неблаговидного поступка упадет и на него. А тут ещё жена его Лиза... Как пчела зудит на ухо, просит за Бродовых: тут помоги, там посоветуй... Главный специалист вспомнил все эти обстоятельства, взвесил, как на ладони взвешивают какой-нибудь предмет, и ему уже казалось, что отчасти эти обстоятельства известны академику Фомину, а завтра будут известны и министру... Словно бы очнувшись от своих мыслей, он заговорил торопливо, ни к кому не обращаясь:
– Понимаю вашу личную заинтересованность, но вы, Федор Акимович, и вы, Михаил Лаврентьевич, на протяжении многих лет являетесь бессменными членами консультативного совета. Ваше мнение всегда высоко ценилось министром, его заместителями, всеми членами коллегии. Наконец, и высшие правительственные инстанции– Госплан, Госстрой, Совет Министров нередко у нас спрашивают, а что думаете вы, Федор Акимович, вы, Михаил Лаврентьевич. Согласитесь, что и теперь, когда через две-три недели будет обсуждаться наиважнейшая для судеб отечественной металлургии проблема,– разве мы можем обойтись без вашего мнения?..
Главный специалист ещё долго высказывался в подобном роде, говорил общие, приятные для обоих членов совета слова,—он при этом больше смотрел на Михаила Лаврентьевича, который кивал в такт его словам, высказывал всяческие знаки одобрения. Но в сердце закрадывалась тревога при взглядах на Фомина; тот, глубоко утопая в кресле, полулежал с закрытыми глазами, но, конечно, не дремал, а чутко внимал каждому слову. Главный специалист ждал, что академик прервет его и спросит: «Какой проект вы предлагаете в дело?» Главный специалист не мог принять чью-нибудь сторону. Он мог отказаться от путевки на курорт, поссориться с женой, разорвать отношения с другом, но принять сторону Фомина или Михаила Лаврентьевича он не мог. Он хорошо знал оба проекта. И если бы вокруг них не было борьбы и ему не надо было ущемлять ничьих интересов, он бы, не задумываясь, поддержал Фомина. Но тут подспудно кипела многолетняя борьба. К тому же Госплан неохотно отпускал деньги. Каждый дорогой проект проходил с трудом.
Фоминский проект очень дорог. Заново надо строить домну, мартен, установку непрерывной разливки стали, гигантский прокатный стан. И между ними автоматическая система транспортных коммуникаций. Фантастически дорого! Прикинут члены коллегии, покачают головой. И устремят насмешливые взгляды на него, главного специалиста. Мол, нет государственных понятий. Как был инженером заводского масштаба, так и остался.
Представляет он и другой вариант: примет он сторону института. А коллегия утвердит фоминское звено. Вот тогда над ним, как злой рок, повиснет тень непростительной ошибки. Все будут говорить: «Главный специалист был против строительства на «Молоте» фоминского конвейера».
И сейчас, рассыпая комплименты Фомину и Михаилу Лаврентьевичу, он преследовал одну цель: уверить их в своем высоком к ним уважении, в стремлении помогать обоим ровно в такой мере, в какой позволяет его служебное положение. По тому, как реагировали его слушатели, он со все возрастающим радостным чувством заключал, что роль свою сыграл хорошо. Михаил Лаврентьевич с благостной улыбкой смотрел на него и кивал головой, Фомин время от времени приоткрывал глаза и как бы спрашивал: «Вы ещё здесь?» Впрочем, зла и протеста в его взгляде главный специалист не видел, и это его воодушевляло.
Когда он закончил, Михаил Лаврентьевич вскочил и стал пожимать ему руку: старик благодарил за теплые слова, за то, видимо, что главный специалист не высказался против его проекта. Совсем по-другому реагировал академик Фомин. Он несколько минут сидел неподвижно, потом медленно поднялся, подошел к столу главного специалиста и, наклонившись над ним низко и тихо, как бы продолжая свои мысли, сказал:
– Вы, молодой человек, порядочный трус. И, как таковой, на этом вот вашем месте, представляете для государства большую опасность.
С минуту постоял, склонившись над столом, затем, ни к кому не обращаясь, добавил:
– Да-с, господа. Опасность!..
Повернулся, тяжелой походкой старого больного человека направился к двери.
2
Павел Лаптев давно звал Егора на рыбалку; наконец Егор согласился, и они двинулись под выходной за город, к деревушке, возле которой уснула подо льдом небольшая речка. Подошли к ней затемно, поставили ящики на снег. Оба были хорошими рыбаками, и потому делали все без суеты. Молча просверлили лунки, закинули удочки. Егор оглядел небо, деревню, задержал взгляд на церквушке. Она сиротливо стояла на холме в двухстах метрах от деревни и, казалось, падала в сторону речки. Не сразу сообразил Егор, что такое впечатление создают облака, низко летящие над землей. Восточный край облаков был светлее, да и вся восточная сторона озарилась синим трепетным сиянием; снег и небо отливали льдистой холодной голубизной, и редкие звезды на небе казались синими.
Егор подошел к отцу, присел с ним на угол ящика.
– Чего не ловишь? —спросил отец.
– Ночью не клюет,– авторитетно заявил Егор и привалился к отцу в надежде подремать у него на плече.
Скоро он пригрелся, и ему стало хорошо, покойно; он даже как будто задремал, и ему грезился теплый день, и солнце над рекой, и они с отцом идут по берегу в белых рубашках, с удилищами на плечах.
Егор ещё в детстве полюбил рыбалку; и, конечно, виной тому отец; может быть, рыбалка была для Павла Лаптева лучшим поводом побыть наедине со своим первенцем, забыться от житейских тревог, и здесь, в тиши природы, предаться воспоминаниям молодости,– тех лет, когда он сразу после войны женился и когда все впереди казалось таким бесконечным и безоблачным.
Жена умерла от родов. От нее остался Егор.
Павел мучился сознанием, что сын его не знает материнской ласки. Как мог, старался заменить ему мать. Ни упрека, ни грубого слова не слышал от него Егор.
Павел, пригревшись, тоже задремал над лункой.
Неожиданно удилище в его руке дернулось. Дрему как ветром сдуло. Сбросив рукавицу, Лаптев пальцами коснулся лески. Тянуть не торопился – может, рыба пробует насадку?.. Но нет – лесу повело к одному краю, к другому. Павел резко подсек и стал выбирать невидимую нить. Из лунки вылетел окунь. На снегу он трепыхнулся два-три раза и затих, скованный морозом.
– Началось!– поднялся Егор. И пошел к своей лунке.
Ловили часа четыре. Возле каждого на снегу, поблескивая заиндевелой чешуей, лежали окуньки, ерши, лещики и подлещики. Но по мере того, как неяркое солнце выкатывалось над горизонтом, и мороз под его лучами сдавал, и снег искрился веселее – царство рыбье подо льдом затихло, клев прекратился.
Егор проголодался. Поглядывал в сторону отца, ждал сигнала.
Павел не спеша поднялся с ящика, смотал удочку.
Егору крикнул:
– Не замерз?
Егор демонстративно кинул на снег рукавицы, выбрал из лунки леску.
Раскинули на снегу походную скатерку.
Разлили горячий чай из термоса. К ним подошел рыбак с деревянным ящиком за спиной.
– Как ловится? Приятного аппетита! Павел налил и ему чаю, предложил сесть.
– Да вы, никак, Павел Иванович Лаптев? —заговорил рыбак, сбрасывая с плеча ящик и усаживаясь на него.
– Извините, я вас вроде бы не знаю,—сказал Лаптев.
– Неважно. Я из министерства. Вас на трибуне видел. На совещании металлургов выступали.
– Было дело,– признался Лаптев,– Как там в министерстве? Здорово нас ругают?
– За что?
– Листа мало даем. Стан никак не отладим.
– А-а... За стан ничего не скажу. Не слышал, а вот новый проект Фомина забодали. Говорят, вы статью в стенгазету написали. Фоминский стан критиковали. Ну... будто бы это... сыграло роль. Словом, ваше мнение учли.
– Стенгазета?..– Павел вопросительно посмотрел на сына. Тот густо покраснел, признался: – Я писал... в «Молнии».
– Сын, что ли? – спросил рыбак. – Говорят, Лаптев. А какой – не знаю. Будто бы о вас шла речь.
Академик Фомин крепко осерчал. И слег, бедняга. Видно, от горя.
Павел Лаптев свесил над коленями голову, задумался. В истории со статьей чувствовал что-то неладное. Глухим спокойным голосом спросил Егора:
– Что ты писал... в «Молнии»?
– Феликс писал. Каюсь, отец, не читал статью.
– Как же подписывал?
– Сказал Феликс: «Подпишем твою фамилию». Я что ж, доверился. Подписывай, говорю. Мне и в голову не могло прийти, что против Фомина... могут использовать.