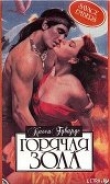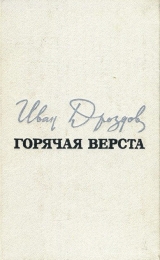
Текст книги "Горячая верста"
Автор книги: Иван Дроздов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
– Слышал я, скоро заводская конференция комсомола? Опять автоматиков будете молотить?
– А ты бы тоже выступил. Как-никак технолог на стане.
– Я беспартийный большевик, элемент, можно сказать, несознательный.
– Почему? А бюро?.. Мы же тебя избрали членом бюро.
– Был членом да весь вышел. На днях мне исполнилось двадцать восемь, – так сказать, по естественной причине выбыл из рядов... Теперь осталось как в стихах... «Задрав штаны, бежать за комсомолом». Сами уж вы, без меня как-нибудь.
Эти последние слова Феликса привели Настю в чувство. Вспомнила она кругленького нагловатого Папа, Вадима Михайловича – и то, как они подносили подарок деду, как затем вели за столом неспешную беседу; поняла тревогу Феликса за карьеру брата, за свое собственное будущее. И сразу он в её глазах упал, сделался маленьким, жалким. Она смерила его с ног до головы презрительным взглядом.
– Феликс! – сказала Настя, трогая его за рукав.—А ведь ты и есть тот самый груз, который висит у нас на ногах и мешает идти вперед.
Феликс хотел возразить Насте, но не нашелся. Решил дослушать её до конца и затем обратить все в шутку. «Сговорились они, что ли?» – вспомнил он откровения старого музыканта. И тут ему пришла догадка: Хуторков и ей наговорил на него. Внезапное открытие это бросило его в жар. Как-то неестественно осклабился, заговорил: – Знаем, чьи речи наизнанку лицуешь – старый музыкант напевает их тебе.
Засмеялся. А Настя ответила:
– Вот уж не думала: Феликс Бродов, стиль и модерн, законодатель мод, и вдруг – пережиток. Ты говоришь: Хуторков?.. Нет, старый музыкант многое видит, но до такого открытия он ещё не дошел. И Егор Лаптев тебя не знает. И никто в цехе. В этом сложность явления, и – если хочешь – тут ваша сила. Такие, как ты, хорошо замаскированы. Вас простому, невооруженному взгляду не увидеть. Всем вы недовольны, всех вы обвиняете, а для того только все это делаете, чтобы от себя вину отвести. А Хуторков тут ни при чём. Ты его не любишь – и это ещё раз подтверждает верность моих суждений о тебе. Плохие люди о хороших добрые слова не говорят.
Настя повернулась и ушла. Ушла, не простившись, не взглянув на Феликса. Феликс её не удерживал. Он не заметил, как пошел мокрый снег, как дежурный вахтер, погасив свет в вестибюле, подошел к двери и запер её изнутри. Он стоял ссутулившись, опустив низко голову, и напоминал человека, которого все покинули и забыли.
Феликс старался ни о чем не думать, но думы помимо воли его и желания все лезли и лезли в голову, – думы невеселые, безнадежные.
Настя легко отлетела от сердца – как только обнажила свою сущность, свою неприязнь к нему, —так и стала чужой, ненужной. Его не влечет карьера ученого, академик Фомин ему не понадобится. И хорошо, что Настя перед ним раскрылась, он знает теперь, какие они разные и чужие. Все это хорошо, хорошо... Но почему так ноет и болит сердце!.. Может, Настя незаслуженно оскорбила?.. Или сказала такое, что явилось открытием и неприятно поразило?.. Нет, нет и нет!.. Настины слова, как горох – стучали об стену и отлетали. Экая новость! – себялюбец! Как яблоко недалеко падает от яблони, так Настя насквозь заражена идеями деда о служении какому-то долгу. Она демагог и фразерка. И пусть катится подальше! Нет, Пап, ты не прав! Черт с ней, с внучкой академика. Такую можно обольстить, провести с ней ночку, – я однажды был близок к этому! – но жить с ней долгие годы и слушать дурацкие речи?.. – Уволь! Не желаю!.. Другое скверно: рушатся планы, навеянные отцом! Сегодня оттолкнула Настя, завтра плюнет на нашу затею Егор. Говорит же этот старый олух Хуторков: знай свое место и терпи. А я жить хочу, а не терпеть. Не повиноваться, а повелевать. Егор не учён, ничего не смыслит в технике, – и пусть повинуется. А что слепая природа снабдила его луженой глоткой, так и в этом его заслуги нет, И Хуторков должен повиноваться, потому как сам он, без поводыря, пропадет. И не сжалься над ним мой отец, лежать бы ему под забором...
Расправившись с Егором и Хуторковым, Феликс вновь обращался мыслью к Насте и вновь пытался её поносить, но, к удивлению своему, замечал, что зла у него к Насте становилось меньше, и слова обидные на ум не шли.
6
Егор проснулся поздно, часу в десятом; смотрел в окно и дивился снежной белизне, покрывшей дома и деревья на улице.
Снег и вчера принимался сыпать из низких холодных туч, но держался только в лесу да по балкам; в городе он таял, мешался с грязью и если задерживался, то лишь на крышах домов да на деревьях, с которых ещё не успела опасть листва. А сегодня зима переборола осень: крепко обняла землю холодными руками.
Снег валил густо.
Лаптев вздохнул всей грудью, потянулся.
В дверь постучали. И не успел он ответить, как к нему ворвалась Настя.
– Вставай, ленивец, зима пришла!..
Подбежала, сунула под бока ему руки в холодных варежках. Егор шарахнулся к стенке, Громко вскрикнул от неожиданности и так стукнулся об стену, что живший за стенкой Павел Павлович подал голос:
– Что там происходит?..
– Настя, не дури! – взмолился Егор, видя, как она поднимает шапочку и намеревается стряхнуть на него холодную влагу оттаявших снежинок. – Дай мне одеться.
– Одевайся, – сказала Настя и отвернулась к окну. И, слыша, как Егор сбросил с себя одеяло, начал одеваться, заговорила: – Егор, ты будешь скучать без меня. Я уезжаю.
– Так скоро? – Отгулы мои кончились, пора на работу. Вчера по радио про «Молот» говорили.
– Что же там говорили!
– А то, что на стан наш двадцать ученых приехало – молодых, комсомольцев. Автоматику отлаживают.
Выражение смеха и веселости слетело с Настиного лица. её щеки алели румянцем и в глазах ещё не остыл горячечно-задорный блеск, но она уже задумчиво смотрела куда-то в угол и тихо, точно речь шла о чём-то недозволенном, говорила: – Эх, Егор! Заварили мы с тобой кашу, а ты в кусты, в артисты подался, что я деду скажу и отцу твоему?..
Настя нарочно говорила об этом просто, словно дело это решенное и поправить ничего нельзя, а если она и говорит об этом, то только потому, что ей жалко Егора и придумать чего-нибудь для поправки дела она не может.
Она встала, подошла к Егору, положила ему на плечи руки. Смотрела в глаза – необычно смотрела.
– Ты чего?– спросил Егор, не в силах долго выдерживать её взгляда. И отвернулся, шевельнул плечами, пытаясь освободиться от Настиных рук, но она стояла возле него и неотрывно на него смотрела. Потом сказала: – Ты насовсем?..
– Что?.. Не понимаю.
– В артисты – насовсем?
– А-а-а... Не знаю. Откуда мне знать.
Егор снова отвернулся, давая понять, что разговор ему неприятен, и он не хочет его продолжать, и вообще, не знает он, чего от него хочет Настя, чего добивается.
– Ну, ладно, давай простимся. Желаю тебе бурных аплодисментов. Слышит мое сердце, что удерёшь на сцену. А жаль. Из тебя хороший бы оператор вышел. Как твой отец! Ну да ладно. Пусть тебе хорошо будет на сцене!
Она крепко, по-мужски пожала Егору руку.
И вышла. И тотчас же к Егору вошел Павел Павлович. Сел в кресло. Егор повернулся к нему и, не отвечая на приветствие старого артиста, сказал:
– Павел Павлович, а на больших сценах, в больших городах я смогу выступать с сольными концертами? – Сможешь, но я бы тебе не советовал. У тебя нет культуры пения.
– Как?..
– Очень просто. Искусству пения ты не учился, голос у тебя не поставлен – взыскательный зритель тебя не примет.
– Как это?..
– Опять—как! Да тут и удивляться нечему.
Данные у тебя есть, а певца из тебя надо ещё делать.
Учиться надо, Егор, учиться.
– Где?
– В консерватории. Хорошим певцом через пять лет только стать можешь. Так-то, Егор. Ну да ладно, мы об этом позже с тобой потолкуем, а сейчас давай обсудим создавшееся критическое положение: Феликс-то, наш бригадир, голову потерял. Ему, видно, Настя от ворот поворот дала. А может, с ним другая какая беда приключилась? Лежит у себя в номере в истерике.
Егор снова повернулся к окну. «Если певцом, так хорошим», вспомнил он слова отца. Отец как будто стоял здесь рядом, Егор слышал его голос: «Простых рабочих не бывает, есть рабочий плохой и есть хороший...»
И ещё он думал: «А Феликс в истерике. Странно: парень и – в истерике».
Егор вздохнул полной грудью, спросил:
– Пять лет, говорите, Павел Павлович?..
– Хорошо, если пять, а то и десять. Искусство, брат, требует от человека всей жизни. И если бы у человека было две жизни, три...
Егор вдруг чертыхнулся, точно его ужалила пчела.
– А, черт!– взмахнул он рукой. И кинулся к шкафу, выхватил оттуда чемодан, стал лихорадочно швырять в него вещи.
– Ты чего, Егор, чего надумал?
– А то и надумал, Павел Павлович!.. Спасибо вам за науку, за все хорошее, – я отбываю на завод...
Глава четвертая
1
С тяжелым и сложным чувством шел на этот раз Феликс Бродов в свой родной цех. Он шел по той же узенькой утоптанной до ледяной склизи тропинке, мимо тех же деревьев – сбросивших листву, почерневших, нехотя шевелящих на ветру голыми ветвями; и тот же знакомый вахтер, тысячу раз заглядывавший ему в глаза, стоит в проходной:– все то же и не то; у него в кармане трудовая книжка с пометкой: «уволен по собственному желанию», он теперь чужой здесь, лишний, отрешенный. Жизнь его покатится по другим дорогам,– может быть, лучшим, солнечным, веселым, но никогда он не вернется на «Молот», не вдохнет настоянный на горячих шлаках воздух, не войдет в это невысокое с виду, но длинное, как река, здание прокатного цеха, не окинет хозяйским взглядом ряды могучих клетей, сверкающие полосы рольгангов,– и нигде не скажет с гордостью: «Старший технолог стана «2000». А если, случалось, что собеседник оказывался человеком несведущим, то он, бывало, делал лукавую мину, улыбался снисходительно. И замечал: «Такой стан один в мире. Другого такого нет!»
«Впрочем...»– высек он из своего сознания надежду, но искра надежды оказалась слабой, озарила на миг и погасла. Правда, погасла она не совсем,– тлела, теплилась в затаенных уголках сердца, и это слабое тепло было для него сейчас единственным источником энергии; благодаря ему он жил, думал, стремился куда-то. Куда?.. Он пока не знал. Все должно решиться через час, два, может быть, через несколько минут. Он вызовет Настю и скажет ей последний раз. Она не может его отвергнуть. Не может, не должна.
По ровному дрожанию земли под ногами он знал: стан идет, работает, на нем все в порядке. Надолго ли?..
Вошел в цех в маленькую дверь со стороны градирни. В кабине черновых клетей в сиянии неоновых огней стояли у приборной панели оба Лаптева – отец и сын. Феликс скользнул под кабину, прошел незамеченным. Не хотел встречаться с Павлом Лаптевым и с сыном его, Егором, видеться не хотел. Егор бросил его в Костроме, предательски уехал. Он потянулся за Настей. Он любит Настю – вот что страшнее всего, и неприятно, и мутит сознание Феликса, гложет его сердце. «Выводить на проектную мощность стан»,– вспомнил он объяснение Павла Павловича. А раньше этих срочных дел не было?..
Подошел к тому месту, где до отъезда на гастроли орудовал клещами Егор. Теперь тут на специально сделанном высоком табурете сидел Шота Гогуадзе.
«И безногие в ход пошли!» – в сердцах подумал Феликс. Подошел к Шоте.
– Приветствую вас, Шота Георгиевич! Пожал инвалиду руку. Крепко пожал, дружески.
– Ба! Где же «Видеоруки»?.. – воскликнул Феликс, проводя пальцами по углу металлического каркаса, в котором был заключен телевизионный аппарат.
– Глазок поставили,– кивнул Гогуадзе на приборчик, устремивший стеклянный глаз на край летящего по рольгангам листа.
– Вон глаз, а вон рычаг,– разъяснял Шота бывшему технологу. – Пустяк механизм, а хорошо работает.
Шота при этом взглянул на кабину, за стеклами которой видел своего друга Павла и его сына Егора.
– А вы здесь зачем?– криво ухмыльнулся Феликс.
– Присматриваю. Вдруг перекос будет —поправить надо. Глазок-то молодой,– Шота кивнул на механизм.– Неопытный.
Не отрывая глаз от листа, Шота пододвинул к себе клещи– те же, которыми работал Егор,– добавил: – Случаются ещё перекосы. Махонькие, совсем малюсенькие, но... бывают.
Как раз в этот момент у торца рольгангов послышалось сухое шелестящее шипенье. Шота подставил к краю листа выгнутую часть своего нехитрого инструмента, и лист послушно вошел в колею.
– Ого! – приблизился к рольгангам Феликс.– Раньше во как косило, а теперь, смотри-ка – самую малость!..
Шота вынул из кармана никелированный молоточек, постучал по прибору с глазком, доворачивая его на кронштейне.
– Отладим прибор – совсем хорошо будет. И человека не надо, и клещи... долой. К нам из Москвы ученые приехали – вон они, посмотри...– Шота показал на линию стана – то там, то здесь маячили в белых халатах люди.
Шота торжествующе тронул пальцами свои усики, сверкнул черными веселыми глазами. И потом, словно его осенило, схватил Феликса за рукав, подтянул к себе.
– Вы помните, товарищ Бродов, я у вас на эстакаде сидел, рулоны считал? А?.. Хорошо считал?.. Нет, нет – вы скажите, пожалуйста, хорошо считал Шота рулоны или он спал на работе?..
– Хорошо, Шота Георгиевич, хорошо, – успокоил его Бродов, поглядывая то влево, то вправо по линии стана – боялся, не нагрянет ли внезапно Настя?
– А если Шота хорошо работал, – вновь нервно, беспокойно заговорил Гогуадзе, – то вы пойдите к моему фронтовому другу Лаптеву и скажите ему то же самое. И старшему вальцовщику... этой красивой девушке Насте Фоминой, и начальнику цеха, – сделайте добро человеку, скажите: Шота работал хорошо, Шота и здесь, на месте Егора Лаптева, тоже не дремлет: скажите им, и пусть они не боятся допустить меня к операторскому пульту. А?..
– Как? Вы хотите на пульт?..
– Да, подручным к оператору. Пока учиться, а потом, через полгода, год – подручным. Как Егор Лаптев!
Шота Гогуадзе, видя недоумение на лице Феликса и блуждающую ироническую улыбку, отстранился от него и сказал глухо, упавшим голосом:
– Маресьев без ног на самолете летал. И я бы смог. Не привелось.
Грузин сверкнул черными глазами, хрипловатым голосом проговорил: – Не хотите помочь мне – не надо! Просить не стану. Шота не любит просить. Нет, не любит!
И повернулся спиной к Феликсу.
Феликс отошел, встал за угол выступа у стены, снова оглядел линию стана и не увидел никого кроме трех-четырех человек в белых халатах да нескольких рабочих.
Феликс ещё вчера заготовил первую фразу, с которой обратится к Насте, и теперь повторял её, прибавляя к ней последующие слова и фразы, весь разговор, который должен у них произойти; и как бы ни складывалось в его воображении предстоящее объяснение, он все время выходил победителем, его сердечные, глубоко прочувствованные слова повергали Настю в растерянность, принуждали её потуплять глаза, а когда она вскидывала их на Феликса, он видел в них покорность и счастливую благодарность. «Ты, как твой дед, должна посвятить себя науке!»– скажет ей Феликс. А чтобы отсечь от нее Егора, заметит: «Ему на роду написано быть рабочим. Опомнись, Настя!» И потом, как бы между прочим, заметит: «Наконец, в Москве мы росли, это наша родина – надо возвращаться домой». Легко приходили на ум фразы, относящиеся к Москве, науке, заводу; Феликс часто говорил об этом с Настей, но ему трудно было даже в мысленной беседе заговорить с ней о любви, о желании на ней жениться; Феликс по-серьезному стал думать об этом ещё там, на Волге; в тот день, когда Настя пошла с Егором Лаптевым. Он никогда раньше не принимал всерьез Егора-«лапотника», как называл его отец; и, когда открылся в нем талант певца, он тоже ни во что не ставил Лаптева. И мысли не допускал, чтобы Настя, инженер, внучка академика, девушка с утонченным умом и вкусом, могла полюбить примитивного парня с плебейским именем «Егор». Натуре Феликса ещё с детства была свойственна самонадеянность. Ему со всех сторон напевали: «Ты красив, у тебя черные неотразимые глаза, у тебя отец композитор, ваша фамилия знаменита—стоит её произнести, как перед тобой раскрываются двери театров, концертных залов; ты можешь войти в любой дом и быть там желанным, твои сверстники ищут твоего расположения, а что до девушек – они без ума от одного только твоего вида. Ты будешь ученым – большим, знаменитым...»
И ещё ему говорили:
– Не торопись навешивать на себя семейный хомут; тебе при помощи женитьбы нужно ещё и упрочить свое положение, приобрести ещё больший вес.
И в голову его засела мысль: породниться с большими выдающимися людьми. Он вначале даже такую завидную партию, как Настя Фомина, готов был отвергнуть. «Вот буду работать в Москве, в институте,– говорил он себе,– там выловлю щуку покрупнее».
Со временем шуточные отношения с Настей переросли в серьезные, он стал искать её, тянуться к ней, забывая о своих дальних целях. А тут ещё Пап, нежданно явившийся из Москвы, подогрел в нем интерес к девушке. Когда же Настя высказала ему в глаза все, что о нем думала, он остыл, махнул на нее рукой, но... ненадолго. Влечение к ней вновь овладело им и, кажется, сильнее, чем прежде. Феликс теперь и подумать боялся, что Настя его отвергнет.
Насти не было, она не появлялась на линии стана, а стан работал, и лист шел ровной огненной рекой.
Феликс хорошо видел Егора Лаптева. Заслонив отца, Егор стоял у пульта, руки его, как руки пианиста, летали над кнопками и рычагами. «Дождался наконец своего дня»,– подумал Феликс, вспомнив, как Егор рвался на пульт, как он проклинал свои клещи и того, кто породил «увечный» прибор. И ещё Феликс вспомнил, как сказал ему Павел Павлович: «Егор на сцену не пойдет. На него не надейся. Выкинь это из головы». Феликс был ошеломлен: он не знал, что и сказать старому музыканту. Рушились все его планы. Он с ненавистью вспомнил Хуторкова: напел в уши, старый черт!..
Егор недолго простоит учеником на пульте, он скоро будет на равных с отцом, и как отец он, конечно, будет доволен судьбой, не пойдет учиться, и даже в консерваторию не поступит, хотя талант певца у него немалый.
На металлическом мостике, перекинутом с одной стороны стана на другую, над серединой текущего внизу листа, он увидел девушку. Не сразу признал в ней Настю. Она стояла в задумчивой позе.
Феликс позвал:
– Настя!..
Она повернулась к нему, приблизилась к краю мостика, но спускаться не собиралась.
– Иди сюда! – поманила рукой. Он поднялся на мостик, прошел за ней на середину.
– Чего ты тут?– спросил Феликс.
– Вон, посмотри: лист пучит. Тебе не кажется?..
Лист действительно в одном месте чуть заметно дыбился, точно сзади его толкали быстрее, чем он мог бежать.
– Лаптев скорость разогнал. Убавь метров на пять.
К перильцам мостика был прикреплен переговорный аппарат. Настя вызвала оператора. Ответил Лаптев-младший.
– Скорость велика!– сказала Настя.
– Отец гонит. Говорит, что стан идет, надо жать.
– Убавьте на пять метров. Тут на середине петля может взлететь.
Павел Лаптев стоял рядом с говорившим Егором и слышал предостережение старшего вальцовщика.
Он хотя и знал, что петля не взлетит – не те перегрузки, но для верности и для поддержания авторитета старшего вальцовщика скорость на пять метров в секунду убавил. И через минуту спросил Настю:
– Теперь пучит?
– Хорошо идет, Павел Васильевич, ровнехонько!..
Темное облачко тревоги слетело с лица Насти, она повернулась к Феликсу, весело спросила: – Что, артист! Наскучило искусство, снова на стан возвращаешься?..
– И не думаю,– обидчиво возразил Феликс.– Я в артистах оставаться не собирался; мне повод нужен был, чтобы с завода уволиться.
Феликс врал, и получалось у него нескладно. Неискренность его сразу была замечена; девушка как бы пожалела своей простодушной веселости, она вновь склонилась над листом, Феликс теперь видел лишь часть её щеки да её элегантную коричневую шапочку с пуговицей на боку.
– Настя!– подступился к ней Феликс.– Я шел сюда в надежде... Я хотел спросить: поедешь ты в Москву?..
– Нет!– сказала Настя.– Завтра приезжает дедушка. Зачем же мне ехать?
Она хотела показать Феликсу, что серьезного разговора между ними быть не может – и это она больше показывала тоном своего ответа, чем смыслом и содержанием слов.
– Я не то,– попытался заглянуть ей в лицо Феликс.– Я о другом. О работе в Москве. О жизни.
Настя повернулась к нему; в её темных, прищуренных глазах блеснула усмешка. С губ её готова была сорваться дерзость, но как раз в эту минуту по всей линии стана раздались сирены; клеть грубого проката пустила последнюю полосу и притормозила валки. Край листа пролетел под мостом, обнажая крутящиеся, блестевшие под лучами неоновых огней рольганги. И прежде чем Феликс успел что-либо сообразить, Настя сбежала с мостика, пошла в сторону грубых клетей. Над головой, громыхая колесами, пролетел рельсовый кран, он на могучем крючке своем, словно исполинскую рыбу, нес многотонный обжимной валок. «Менять будут»,– подумал Феликс. И хотел было сбежать с мостика, пойти вслед за Настей, но она скрылась из виду. Потом он увидел её далеко за кабиной Лаптевых. Она поднялась на помост нагревательных колодцев, махала рукой крановщику, а с другой стороны подходил к ней другой кран и ещё третий... Вновь истошно заголосили сирены. Под крышей цеха над головой Насти вспыхнули яркие фонари. Там появились другие люди – туда же пошел Лаптев-старший. Люди махали руками, они что-то делали, но что именно они делали, Феликс не знал и знать ему не хотелось. Он сошел с мостика и пошел к раскрытой двери, ведущей из цеха. Его ничто здесь не интересовало, и он тут никому был не нужен.
2
Настя не заметила, когда ушел Феликс, она знала, что Феликс взял расчет, что он теперь числился разъездным администратором Гастрольбюро, и каждый раз, когда вспоминала об этом, невольно улыбалась. Феликс своим уходом как бы освободил её от груза, и ей стало легче, веселее,– она невольно взглянула в сторону операторской кабины, где возвышалась фигура Егора. С тех пор, как они вернулись с Волги, она открыла в нем другого Егора, не прежнего, а другого. Простота и безыскусственность его речи располагала к откровенности, его улыбка вдруг окрасила мир в яркие краски и наполнила все вокруг музыкой, светом. Настя вдруг ощутила в себе силы, каких раньше и не подозревала.
Она ловила себя на мысли, что где бы ни была на стане, в какой бы уголок ни заходила, но нигде не задерживалась, а, едва покончив дела, спешила в тот конец стана, где был Главный пост, где она могла видеть силуэт Егора, стоявшего у пульта. Часто забывшись, она начинала думать о встрече с Егором, как он посмотрит на нее, что скажет. А сегодня Настя преподнесет сюрприз Егору. Она выйдет из цеха на полчаса раньше его, успеет переодеться в вагончике строителей и будет помогать им выкладывать новую градирню– невдалеке от дорожки, по которой ходит домой Егор. И как в тот день их первой встречи кликнет ему, попросит подать кирпич или какой-нибудь инструмент.
Вагончик строителей стоял в двадцати метрах от новой градирни. На зеленой глухой стене – аршинные буквы: СТС – Союзтеплострой. Буквы эти встретишь на многих промышленных сооружениях – особенно на тех, что вознеслись высоко, под облака. Союзтеплострой – трест, ставящий на земле гигантские печи, нагревательные сооружения, высоченные трубы.
Настя любит высоту. Высота манит её и тянет. Летом она на купальнях ищет самые высокие вышки и с упоением прыгает с них то ласточкой, то чайкиным крылом; если ей нужно побывать в другом городе, она непременно летит на самолете, – высота переносит её в другой мир. С высоты все земное кажется ненастоящим. Люди на улицах и машины, словно по мановению волшебника, превращаются в царство игрушек; синь неба и облака ударяют в глаза и кружатся в многоцветном калейдоскопе. И если смотреть только в небо, если подставить щеки облакам и протянуть к ним руки, то и сама ощутишь состояние полета, и сама, как птица, широко расправив крылья, устремишься в небо и будешь лететь вечно до самых звезд, до тех космических синих глубин, откуда по ночам и перед рассветом на землю чуть слышно льются звуки иных миров, хрустальные звоны вселенских галактик.
В вагончике строителей Настя никого не застала. Взяла брезентовую «ничейную» куртку, висевшую на стене, вышла на строительную площадку.
Егор шел с работы. У строящейся градирни замедлил шаг. Ему в лицо бил луч прожектора, он не отводил лица, а смотрел на стену и видел на самом верху девушку, но Настю, стоявшую на лестнице, на высоте шести – восьми метров, не видел. А когда он прошел площадку и стал удаляться, Настя его окликнула:
– Эй, парень! Поди-ка сюда!..
Егор остановился, точно в него ударила молния, и, ещё не веря своим ушам, смотрел в ту сторону, откуда донесся до него оклик девушки. Подошел к лестнице, увидел Настю. Она стояла на перильцах лестницы, одной рукой держалась за поручень, а другой манила его к себе и с лукавым озорным смехом говорила:
– Вон то ведро подай! Вон – у ящика с бетоном.
– А ты сама спустись и возьми ведро, – смотрел Егор снизу, улыбаясь, не в силах сдержать радости. В луче прожектора он видел силуэт девушки, но лицо её, точно крылом птицы, было прикрыто тенью.
– Я боюсь спускаться. Подай же!.. – доносится сверху. Девушка вот-вот рассмеется Егору в глаза. И видя, что он не движется с места, Настя спускается ниже. Она недоумевает: почему он стоит как изваяние. И ещё ниже опускается Настя. И когда она была уже почти на земле, Егор подошел к ней, взял её на руки.
Настя, как ребенок, прижалась к его груди. И чудилось ей, что она слышит, как гулко и могуче бьется Егорово сердце.
3
Год отсчитывал последние дни декабря; мороз развесил белые бороды на крышах домов, серебряной вязью покрыл градирни, усмирил ветер, и дым из труб повалил живыми волнами – высоко потянулся он к белесому небу, и там, вровень с облаками, растекаясь исполинскими пятнами, неспешно плыл над землей.
Жарко было в прокатном цехе. Здесь теперь днем и ночью «шел стан». Бригада ученых работала на стане, устраняла дефекты, отлаживала приборы, – и стан шел все ровнее и ровнее. Перерывы случались редко и ненадолго: «забурит» где-нибудь лента или нагревательные печи попросят десятиминутного роздыха, и тогда сирены тревожно заголосят по всей линии. «Что там ещё?» – нетерпеливо спросит один другого, но сирены вдруг раздадутся снова, нагревательные колодцы разверзнутся, и из них одна за другой выплывут огненные слябы.
А стан словно живое существо, – он точно человек, которому однажды сказали: «Ты до сих пор валял дурака, а теперь довольно, надо приниматься за дело». И он послушался. Он перестал «валять дурака» и показал свою богатырскую силу. Стан в эти последние дни года выдавал по одиннадцать – двенадцать тысяч тонн листа в сутки. На зеленом табло, вывешенном на середине цеха, в конце четвертой смены загоралась зеленая цифра: 10, 11, 12... Отметка приближалась к проектной: 15. И чем меньше оставался разрыв, тем суровее лица прокатчиков, тем напряженнее ожидание. Директор завода, начальник цеха редко поднимались на посты – не хотели мешать операторам, – но были на линии. Директор бывал в цехе и вечером, и ночью, – случалось, что и спал в кабинете начальника цеха. Старший оператор стана Павел Лаптев вот уже месяц, как работал по две смены; он все время стоял у пульта, он, может быть, более, чем кто-либо, понимал в эти дни важность происходящего на стане.
Одно беспокоило Лаптева: сердце его не выдерживало нагрузок. Приступы участились, и боль становилась нестерпимой.
Егор тоже работал по две смены, – уговаривал отца отдохнуть, посидеть день-другой дома, но отец не слушал. И Егор все с большей тревогой поглядывал на бледное лицо отца, на страдальческое выражение, когда сердце его «прижимало».
Отец не доверял ещё Егору стан, но однажды сын с необычной для него твердостью в голосе сказал:
– Отец, посиди. Я сам управлюсь. – И легонько отстранил от пульта. Отец отошел в сторону и вначале с опаской, но затем все с большей уверенностью наблюдал за тем, как руки Егора легко летают над пультом управления. А Егор смотрел на стрелки приборов, вслушивался в гул, катившийся эхом от где-то ударившего грома, и чувствовал, как и сам сливается со станом и каждой клеткой своего организма слышит его живое дыхание, его ритм.
Еще минуту назад, когда он включал и отключал лишь свою группу механизмов, он мельком поглядывал и на приборы, и на рычаги отцовой сферы, – смотрел, но не ощущал их, не пронизывал сознанием каждую цифру, каждый посторонний звук на линии, теперь же его слух и зрение обострились – он зорким взглядом впился в каждую цифру, и руки его механически доворачивали рычажки, снимали лишние шумы, регулировали температуру, одним ювелирным касанием прибавляли ход рольгангам или укрощали не в меру расходившуюся группу валков.
Он не видел, как на пост поднялась Настя, с ней секретарь комсомольской организации завода. Они вначале стояли рядом с Павлом Лаптевым и вместе со счастливым отцом наблюдали красивую работу Егора. Затем показали Павлу Лаптеву обращение инженеров и техников завода комсомольцам НИИавтоматики.
Конструкторы «Молота» предлагали молодым ученым института взять шефство над проектированием автоматизированной линии для «Молота»: конвертор – установка непрерывной разливки стали – прокатный стан; иными словами – фоминского звена. Это обращение недавно обсуждалось на бюро обкома; Лаптев там сказал:
– Комсомольцы написали письмо столичным ученым, – и смотрите, какие дела совершили на стане ученые, а почему бы и за линию Фомина комсомольцам не взяться? Пусть сообща действуют – заводские конструкторы и столичные.
И сейчас, прочитав обращение, Павел Лаптев радостно тряхнул листок, сказал Фоминой: – А вы, Настасья Юрьевна, не сказали о новой затее Федору Акимовичу?
– Что вы! Ни-ни!..
– Тогда отсылайте. Но не забудьте копию вручить директору завода и в редакцию заводской многотиражки.
Лицо его было усталым, но глаза светились. Беседуя вполголоса, чтобы не мешать Егору, они напоминали уличных мальчишек, замышлявших озорную операцию. Настя испытывала радостное волненье от близости отца Егора; ей было приятно, что отец Егора так горячо болеет за будущую фоминскую линию: Павел Лаптев и внешне ей казался красивым, благородным, в его синих открытых глазах она видела доброту и ласку; думала о том, что когда-то и Егор будет таким и тогда Настя будет любить Егора ещё больше. А Павел Лаптев склонился над ней и, показывая на Егора, тихо, с лукавой усмешкой проговорил:
– Скоро у нас новый старший оператор будет.
– Да. Только жаль, что в другую смену перейдет.
– Не перейдет, – утешил Павел Лаптев. – Останется в вашей.
Настя зарделась. Совладала с собой, спросила:
– А вы?
– Я на Урал поеду, новый стан пускать. А когда вернусь, там видно будет.