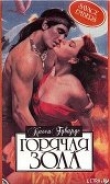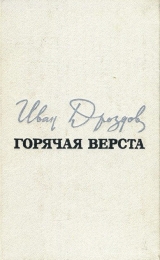
Текст книги "Горячая верста"
Автор книги: Иван Дроздов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 17 страниц)
Он сделал вид, что не замечает смущения Насти.
Провожая молодых людей к выходу, ещё раз предупредил:
– Не забудьте копию обращения директору и в многотиражку.
Вернувшись к пульту, отстранил Егора, сам взялся за рычаги. Стан шел хорошо, и старший оператор решил чуть прибавить скорости. Смена подходила к концу: уже было ясно, что сегодня, как вчера и несколько смен подряд, смена Лаптева выдаст пять тысяч тонн – много больше нормы, но стан только тогда выйдет на проектную мощность, когда и в другие смены будет бесперебоен. Сегодня выдался удачный день: не было заявок на остановку стана, и будто ничего не предвещало задержки – вот если бы и в остальное время суток стан шел хорошо, тогда бы, может быть, прокатчики дали проектную норму. «Надо постараться,– говорил себе Лаптев, зорко оглядывая стрелки приборов и доворачивая рычаги на нужные отметки. – Эх, вот бы...» Но тут он вдруг почувствовал резкую боль под сердцем. Приник к пульту, присел на стульчик. Достал из кармана валидол, бросил под язык. Глянул на Егора: тот увлечен работой, не видит... «Хорошо... Незачем его беспокоить». Сидел на стульчике, прислушиваясь к работе сердца. Боль не утихала. Он тогда положил под язык маленькую таблетку нитроглицерина. Боль почти тотчас же схлынула, но сердце гулко застучало – то часто, то редко, ударит и снова замрет, удары все реже и сильнее... Хотел позвать Егора, но боль вдруг сдавила грудь. Павел скользнул со стула, повис на рычаге... Последнею мыслью было: «Выпусти рычаг!», но пальцы не слушались...
Он упал у приборного пульта, повернув на весь диск рычаг скорости вращения рольгангов. И лист на участке чистого проката бешено рванулся вперед и вздыбился исполинской петлей, и он бы ударил по всем механизмам, если бы не сработала аварийная автоматика: стан остановился в тот самый миг, когда петля взлетела под сферу стеклянной крыши и озарила цех, но тотчас же опустилась и вошла в назначенные ей берега. Это был момент, когда никто ещё в цехе– и даже Егор – не знали о случившейся беде; момент, когда железное живое существо стана точно от горя встало на дыбы и раскаленный металл рванулся кверху, – казалось, гигантское скопление механизмов, так чутко понимавшее своего капитана, всей своей неземной мощью встало на пути смерти. Но смерть победила.
Врачи приехали быстро. Они принимали меры, делали уколы, но все видели: помочь Павлу Лаптеву уже никто не мог. Его положили на носилки и понесли. Егор пошел за носилками, но как раз в этот момент в переговорном устройстве послышался голос Насти Фоминой:
– Павел Васильевич, все вошло в норму, можно запускать стан.
Егор поднес к губам висящий над главным пультом белый микрофон. Не сразу и не своим голосом проговорил: «Да, включаю».
И повернул рычаг главного включения. Стан двинулся нехотя, с грохотом и шипеньем – и шеститонный раскаленный сляб с оглушительным гулом стукнулся о валки клети грубого обжима; и клеть обдала металл струями холодной воды, над линией закипели клубы пара, и раскатанный сляб нехотя вырвался на рольганги и тише обычного, покачиваясь из стороны в сторону, поплыл к другим клетям, и там громко ударял о валки, и клубы пара поднимались по всей линии...
Ворота цеха растворились, и в пролет, почти к самой клети грубого обжима, подкатила машина «скорой помощи». Носилки внесли в нее, и машина скрылась за воротами. Егор вдруг почувствовал, как силы его покидают, руки обмякли, как вата, пальцы едва касались рычагов и кнопок. «Нет, он не умер! Потерял сознание, он жив, жив!..» – кричало внутри.
Егор одинок, он с младенческих лет тосковал по матери, он часто по ночам звал её и плакал. Один у него близкий человек остался – отец. «Нет, не умер, не умер», – говорил он себе сквозь застилавший глаза туман.
Чудилось Егору, что железная громада рвется из его рук куда-то в сторону, и рычит, бунтует, и не хочет смириться с утратой хозяина, но Егор, собравшись с силами, посылал в моторы импульсы энергии, и стан усмирял свой бег, входил в привычный ритм. Гул его снова становился ровным, и огненный лист привычно летел в синеватую даль цеха. Егор не заметил, как на пост поднялись начальник цеха, директор завода, главный инженер. Сзади всех стояла и беззвучно плакала Настя. Она думала, что Егор остановит стан, повернется. Но Егор, задав стану те пределы, которые держал его отец, неотрывно следил за листом. Он до боли напрягал глаза и сквозь дрожащий туман различал шкалы приборов, цифры и стрелки. Его руки, как и руки отца, работали помимо его воли, они нажимали те рычаги и кнопки, которые и нужно было нажимать. Егор мог судить об этом по ровному гудению стана, по световым отблескам от клетей – по всем тем многочисленным звукам, шелестам, видеть и слышать которые научил его отец. Кто-то положил ему руку на плечо, сказал:
– Егор, останови стан. Пришла смена.
Он узнал голос директора. Не поворачиваясь, сказал:
– До смены ещё час.
Директор отошел. Он сделал знак всем толпившимся на площадке поста: «Уходите». И все пошли к выходу. А директор остался. Он отошел к стене, вынул платок и стал вытирать глаза. «Нервы, черт побери, нервы»,– корил он себя, а слезы текли все сильнее, и он не умел их сдержать. Казалось ему, что никого он в жизни не любил так сильно, как этого вот человека, чья спина маячит у него перед глазами, а руки легко и умно летают над панелью управления станом.
4
Дым из труб мартеновских печей валит белый, барашками. И идет он прямо в небо, ломаясь где-то высоко в поднебесных просторах. Ухает утробно черный конвертор, стонут прокатные станы, и главный из них, и самый большой – стан «2000» – нет-нет да озарится изнутри жарким пламенем, и загудит, загрохает на рольгангах клети грубого проката, но вслед за тем притихнет, присмиреет, и лишь глухой чуть слышный стон немолчно тревожит округу.
Поседелые от мороза высоковольтные опоры выстроились вдоль дороги почетным караулом.
Егор идет за гробом отца, а за спиной, круша стеклянную корку гололеда, льется поток рабочих, целая река людей.
А там, где-то впереди,– оркестр. И надрывно, пронзительно визжат трубы. «Зачем они?.. Уж замолчали бы!..»
Егор поднимает голову. Он хочет из-за плеч впереди идущих увидеть лицо отца. Но люди мешают. И больше всех этот... с широкими плечами и черной, как у грача, головой. Но что это?.. Он взмахивает руками, точно в пятки ему попадают гвозди...
Гогуадзе!.. Ведь это же он – Гогуадзе.
Шота шел без палочки, ему было трудно ступать протезами по скользкой снежно-ледяной дорожке, но он старался изо всех сил, и хоть слезы застилали ему глаза,– он не видел сквозь туман дороги, – но он ни на минуту не опускал голову и только время от времени покачивался, и тогда шедший с ним рядом Вадим Бродов поддерживал его за локоть. Время от времени, ни к кому не обращаясь, Шота говорил: «Как же это? А?.. Почему?..» И глотал слезы. Крепко сжимал сухими цепкими пальцами руку Вадима. И тут же её отпускал. Шел, как солдат на параде: голову держал высоко, руками, слегка балансируя, размахивал, словно боялся нарушить шеренгу.
У свежевырытой могилы стояли кругом. Смотрели, как опускают гроб, бросали землю.
Жена Лаптева не плакала, не причитала; казалось, была безучастна ко всему тут происходящему. Егор время от времени поворачивался к ней, хотел что-то сказать, но не знал, чем её утешить. Рукой он поддерживал Настю, но не говорил и с ней, не смотрел на нее. Оба они впервые за свою жизнь встретились лицом к лицу со смертью. И, может быть, им бы обоим было во сто крат тяжелее, не чувствуй они сейчас локоть друг друга. Юность не знает границ своим устремлениям, но зато и всякую беду воспринимает как катастрофу, как преграду, за которой кончается белый свет.
Небо над Железногорском вдруг наполнилось громом, в яркой и глубокой синеве появились истребители-ракетоносцы. Над заводом они сделали круг, вспахали на небе белые борозды. И скрылись. Смолкли. А потом над городом и заводом появились два самолета. На миг они показались Егору перьями, оброненными какой-то диковинной белой птицей. Дважды исчезли в синеве, дважды вновь появились... Взмыли вверх и там, в высоте, стали выписывать какие-то круги. Люди не могли их видеть,– с неба лишь доносился гром и могучее гудение, но по белым следам, по раздававшимся то в одной стороне, то в другой громоподобным взрывам люди могли судить об их стремительных перемещениях, о каких-то сложных, сменяющихся фигурах, подвластных только современным сверхзвуковым аппаратам. Все замерли и смотрели в небо. И Егор, как бы очнувшись от оцепенения, поднял голову, всматривался в то место, где неведомая сила раскалывала небо.
Егор посмотрел на Настю. И она повернулась к нему. Потом, словно по команде, они обратили взоры к небу и смотрели в сторону самолетов, и слушали их рукотворный, громоподобный гул. Они знали: то молодые летчики взмыли в небо, чтобы воздать почести Герою войны, Герою труда.
5
Вадим Бродов и директор «Молота» Брызгалов накануне Нового года встретились в Совете Министров, куда их и вместе с ними академика Фомина и министра черной металлургии пригласили для утверждения сроков строительства на «Молоте» первой очереди металлургического конвейера, или, как говорили близкие к делу люди, «фоминского звена». Бродов и Брызгалов шли по коридору с разных сторон и почти одновременно приблизились к медной массивной ручке двери приемной, сдержанно поклонились друг другу и какое-то мгновение застыли в выжидательных позах, предоставляя один другому первому взяться за ручку и растворить дверь. Дверь открыл Брызгалов и пропустил вперед себя Бродова, который, впрочем, тут же мысленно упрекнул себя в нерасторопности и в том, что при встрече не сумел скрыть обиды на лице и не взял с Брызгаловым нужного беспечного тона. Бродов несколько дней назад ознакомился в министерстве дефектным актом, составленным на «Молоте» и подписанным Брызгаловым: – в акте особое место отводилось «Видеорукам» и вообще институту, и Бродову, и его ближайшим сподвижникам крепко досталось, – все это так, и, конечно, у Бродова есть все основания обижаться на Брызгалова, и даже обвинять его в предвзятости, сгущении красок,– все так, все так, но надо же иметь голову на плечах,– бранил себя Вадим,– надо же быть дипломатом. Дело прежде всего! Если ты хочешь делать дело, то при чём же тут твои обиды? Кому они нужны?..
Так мысленно выговаривал себе Бродов, входя в приемную.
– Через десять минут вас примут,– сказал помощник, привстав и здороваясь.
Бродов замедлил шаг, пропустил мимо себя Брызгалова и, когда тот подошел к окну, решительно взял его за локоть и как ни в чем не бывало заговорил о фоминском звене и о том, какие меры он думает принять в случае, если будет указание строить её уже в этом году.
– Не знаю вашего мнения, Николай Иванович, но если звено Фомина включат в план, то основная тяжесть работ ляжет на нас с вами. Это уж как хотите, но от судьбы не уйдешь.
Вадим то поворачивался к окну, то становился к нему спиной; он суетился, бросал беглые взгляды на собеседника; его массивная гривастая голова плотно прижималась к плечам,– шеи совсем не было. Он располнел и заметно обрюзг в последнее время, глаза оплыли, в них поселилось настороженное беспокойство.
– Нас, Вадим Михайлович, работа не страшит,– сказал Брызгалов, привалившись плечом к простенку окна.– Вы знаете, как мы относимся ко всему, что исходит из института Металла.
Брызгалов нанес по Бродову удар смертельной силы. Он сказал «из института Металла», а Вадим за этими словами услышал: «Институт Металла – это Фомин, фоминские идеи, а не то, что ваши, товарищ Бродов...» И другое послышалось Бродову: «Вы нам со станом чуть дело не запороли, а уж фоминское звено вам, конечно, поручать нельзя. Тут нужны другие люди, другие головы».
Пробный диалог разъяснил Бродову все сомненья: он теперь знал, что возражать против фоминского звена нельзя,– решающее слово тут за Брызгаловым, его будут слушать, он и Фомин, а вместе с ними и министр будут распределять заказы институтам, называть имена, способные вершить дела. Но тут же явился обнадеживающий вопрос: «А зачем меня сюда вызвали?.. Значит, нужен. Значит, и со мной считаются...»
Бродов с надеждой взглянул на дубовую дверь кабинета. Потом взгляд его упал на круглого, мясистого, красного от волненья человека, стоявшего рядом с ним. Не сразу признал в нем Папа.
– Что тебе? – зло спросил его Бродов.
– Комсомольцы решение приняли: просить министерство поручить им проектирование фоминского звена.
– Какие комсомольцы? – Наши, институтские. У них собрание было... Будто телеграмму послали министру. Так чтоб вы там... – Пап кивнул на дверь кабинета, – впросак не попали.
– Ладно! А теперь идите. Идите, вам говорю!
Пап, ретируясь к двери, чуть не сбил входившего в приемную академика Фомина. Старик был весел и бодр, он заключил в объятья вышедшего ему навстречу помощника-референта, затем отечески тряхнул Брызгалова за плечо и тепло, по-свойски, здоровался с Бродовым. Вадим хотел ему что-то сказать, но тут открылась дверь кабинета, и хозяин его позвал:
– Федор Акимович!.. И вы, товарищи, проходите, пожалуйста!
Бродов шел в кабинет последним; из-за плеча Брызгалова он видел сидящего в глубоком кожаном кресле министра. Он уже был давно здесь и успел предварительно обсудить с заместителем председателя все важные стороны дела. Он поднялся и пошел навстречу академику. Они встретились дружески, и министр, будучи моложе академика на два десятка лет, пододвинул Фомину кресло, усадил его рядом с собой. Хозяин кабинета тоже подсел к ним и пригласил Брызгалова и Бродова садиться рядом. Вадим, как самый младший по возрасту и чину, сел не в кресло, а на стул и оказался в стороне от стихийно образовавшегося кружка.
– Ну так как же, Федор Акимович,– наклонился хозяин к академику.– Когда будут готовы рабочие чертежи? Кружок собеседников сузился, и Бродов почувствовал себя неуютно в этом большом, строго обставленном кабинете.