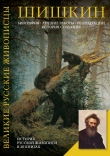Текст книги "Сосны, освещенные солнцем"
Автор книги: Иван Кудинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
– Однако ж! – сказал Шишкин. – Кое-что мы уже имеем и не с пустыми руками, не за милостыней идем в Европу. Вы же сами говорите…
– Да, отчасти это так, – согласился Крамской. – В милостыни мы не нуждаемся, подачек не ждем. Но вспомните, как греки и римляне воспроизводили своих великих мужей в портретах. Прошло больше двух тысяч лет, а Софокл не кажется мне смешным и сегодня. В то время как самые изощренные комбинации современных мастеров зачастую столь экстраординарны и недолговечны, что уже через какие-то десятки лет выглядят наивно… Вон даже гениальный «Петр» Фальконета смахивает скорее на римского императора, чем на Петра Великого… Не так ли?
– Нет, – возразил Савицкий. – Мне нравится Медный всадник. Без него я теперь и Петербурга не представляю.
– Мне тоже нравится «кумир на бронзовом коне», как назвал его Пушкин, – усмехнулся Крамской. – И я говорю: великое творение. Бога ради не уличайте меня в несуществующих грехах. Скажу лишь одно, дорогой Константин Аполлонович, к счастью или нет, но мы с вами не французы и не итальянцы, а русские. И об этом надо всегда помнить.
Иногда Шишкин замечал, как во время таких разговоров Евгения Александровна становилась скучной, в лице ее проступало какое-то брезгливо-болезненное выражение, в последнее время оно все чаще появлялось у нее, это странное, пугающее выражение, делающее Женю какой-то отчужденной и далекой. Может быть, ей надоели эти бесконечные разговоры о рубенсах и ван-дейках, о красках и холстах, а может, мучила ее, подтачивала исподтишка глубоко засевшая хворь… А тут еще тревожные мысли о брате, доживающем последние дни… Федор Васильев писал Шишкиным спокойные письма, а Крамскому еще весной с горьким отчаянием признался: «Если бы вы знали, мой дорогой, как худо вашему другу…» Боже мой, как худо!.. Евгения Александровна, кутаясь в шаль, уходила к себе в комнату и, уткнувшись лицом в подушку, беззвучно, придушенно плакала.
Иван Иванович укладывал жену, укрывал потеплее, успокаивал, как мог, но тревога и ему передавалась. Надо возвращаться в Петербург, не дожидаясь осени, говорил он, да и погода мало чему способствует, сыро и серо… Ну что ты, что ты, поспешно возражала Евгения Александровна, у тебя же столько было всяких планов! Если из-за меня, говорила она, то забудь и думать об этом. Работай. А это… мое состояние пройдет.
Она улыбалась сквозь слезы.
– Помнишь, когда родилась Лидочка, я вот так же себя чувствовала. Правда!.. Вот и сейчас такое… – Она подходила к кроватке, в которой спал четырехмесячный сын, поправляла одеяльце, и бледное лицо ее слегка розовело и становилось спокойным, словно в этом крохотном существе таилось нечто такое, что могло ее оградить от любой беды, вселяло в нее надежду. – Видишь? Он как две капли на тебя похож… Когда он вырастет, ты подаришь ему краски и кисти…
– И он измажет нам все стены.
– Пусть мажет. Скажи, Ваня, – вдруг она спросила, – у тебя какое к нему чувство… к сыну?
Шишкин внимательно посмотрел на жену.
– Знаешь, я пока не могу его отделять от тебя и все, что чувствую к тебе, как бы механически переносится на него. И наоборот: радуюсь его улыбке… и вдруг ловлю себя на том, что ищу отражение этой улыбки на твоем лице… Женечка, милая, ты успокойся, все будет хорошо, поверь мне.
Приходили Крамские. Софья Николаевна, медленно и плавно двигаясь по комнате (она была беременна), рассказывала какую-то веселую чепуху, желая отвлечь Женю от дурных мыслей. Федора Романовна, теща Крамского, делала какой-то сложный отвар и велела пить по полстакана перед едой. Снадобье было похоже на крепкий китайский чай с золотисто-коричневым отливом, полынно-горькое на вкус…
– Прошлую осень у меня вот так же было, – говорила Федора Романовна, – а попила этот отвар недели две – и все как рукой сняло. Дак мне уж, слава богу, за семьдесят, а ты, матушка моя, такая молоденькая… Скоко тебе? Поди и тридцати еще нет?..
– Двадцать четыре… Так ведь вот Федору нашему и того меньше, – тихо говорила Женя, опуская глаза. Ничто ее не могло успокоить. И только чуть забывалась она, когда была с детьми, наблюдала за их шумными играми – прятками, догонялками… Десятилетний Коля и восьмилетний Толя Крамские были во всем заводилами, выдумщиками, каких свет не видывал, а семилетняя их сестра Сонечка и трехлетняя дочь Шишкиных Лида, естественно, были у них «на подхвате». И во всем старались им подражать, копировали старших.
Наконец установилась ведренная погода. Евгении Александровне стало лучше – то ли снадобье Федоры Романовны оказало благотворное действие, то ли влияла перемена погоды. Шишкин тоже повеселел, ожил и каждое утро спешил в свои леса, ловил момент. Иногда ходили вдвоем с Крамским, и тот, посмеиваясь, шутил: «Боюсь, Иван Иванович, как бы вы меня в свою веру не обратили – сделаюсь пейзажистом». Но чаще он уходил в соседнее имение смотреть заброшенную барскую усадьбу. Задумал он что-то в этом духе… Нет, это скорее не приход нового хозяина в дом, а поминки по старому – все должно быть подчинено этой мысли, этому «идиллическому» настроению. Впрочем, только внешне «идиллическому», а внутри – созревший нарыв неизбежного социального поворота, а может, переворота… «Кудряво сказано? – посмеивался Крамской. – Но, в сущности, это так». И он, как никто, улавливал дух времени и по возможности старался так или иначе отразить его и выразить в своих картинах, даже в портретах. Но почему «даже»? Разве лицо современника не отражает дух своего времени – возьмите Кольцова или Грибоедова… Теперь они в галерее Третьякова. А Павел Михайлович, прознав о том, что Крамской живет по соседству с Ясной Поляной, умоляет его во что бы то ни стало сделать портрет Льва Николаевича. Нельзя откладывать на завтра, нельзя, потому что будет упущено время, то есть, иными словами, завтра Толстой будет уже не тот, что сегодня, а Третьякову нужен именно… сегодняшний Толстой. Павел Михайлович еще четыре года назад пытался заказать его портрет, просил Фета, близко знавшего Льва Николаевича, уговорить Толстого попозировать. Однако Толстой наотрез отказался. Теперь же случай был столь удобный, что не воспользоваться им было бы грешно.
«Сама судьба благоволит нашему предприятию, – пишет Треть-яков, – я только думал, как бы хорошо было Ивану Николаевичу проехать в Ясную Поляну, а вы уже там! Дай бог вам успеть! Хотя мало надежды имею, но прошу вас, сделайте одолжение для меня, употребите все ваше могущество, чтобы добыть этот портрет. Что Иван Иванович делает? Здорово ли ваше семейство?
…Васильеву выслал 300 рублей… известил, что в скором времени еще будут высланы деньги, но сумму не означил».
И буквально через несколько дней напоминает: «На портрет Толстого буду надеяться, ну а там, что бог даст!»
Но Крамской все еще не решается, медлит, откладывает «поход» в Ясную Поляну, до которой рукой подать…
«Меня теперь озабочивает разыскивание старой барской усадьбы, – сообщает он Третьякову. – Все, что до сих пор есть… меня не удовлетворяет, так как я решился делать этот сюжет в комнате, т. е. внутри, а не снаружи, то и нужны такие детали, которые могут быть в доме, где не жили около 20 лет. А где этакую штуку сыщешь!
…Шишкин, как всегда, работает много с натуры, картины же никакой не затевает. – И только в конце, как бы вскользь, ничего не обещая, обмолвился: – О портрете Толстого, разумеется, употреблю все старание…»
Однако еще около месяца выжидает, колеблется, ссылается на занятость другим делом – «барская усадьба» связала по рукам и ногам. Но мысль о встрече с Толстым преследует неотвязно, беспокойство овладевает: а ну как даст от ворот поворот, разговаривать не захочет? Говорят, характер у графа своенравный, что ж, и мы не лыком шиты… Иногда из Ясной Поляны приезжают на станцию кого-то встречать. Поезд стоит в Козловке две минуты. Крамской издали смотрит, отыскивая среди встречающих самого графа, стараясь угадать его по каким-то особым приметам – может, вон тот бородач, живо и весело разговаривающий с приехавшим господином?.. Нет, по виду это скорее кучер… Поезд, протяжно гуднув и окутав деревянный перрончик густыми клубами пара, тронулся и пошел, помчался дальше, наполняя окрестный лес веселым раскатистым гулом. Яснополянский экипаж, запряженный парой добрых гнедых коней, тоже трогается, проносится мимо, обдавая Крамского легким облачком пыли. Слышен смех, обрывки разговора…
– Не мучайтесь, Иван Николаевич, – говорит Шишкин, – отложите все свои дела и отправляйтесь в Ясную Поляну. Упустите случай, жалеть будете, никогда себе не простите…
– Да, вы правы, непростительно было бы упустить столь счастливый случай… да и просьба Третьякова. Пойду. На той неделе непременно.
Возвращаются вместе, идут не спеша вдоль полотна железной дороги. Слева лесное болото виднеется, гибельные топи, а справа, за увалом, ступенчато поднимается лес, тянется до самого горизонта, заслоняя собою все вокруг, и всякий раз утром, днем, вечером, в дождь и ведро, на всходе солнца и на закате он по-особому выглядит, никогда не бывает одинаковым… Шишкин говорит задумчиво:
– Какая тайна заключена в этом огромном пространстве!.. Сможет ли человек когда-нибудь все до конца понять или это немыслимо, невозможно? Вот хожу и думаю: как все это перенести на холст, с какого боку подступиться?..
– Все на холст не надо переносить, – язвительно замечает Крамской. – Краски – материал мертвый, если они не выражают радость или боль, страдание человеческой души… Попробуйте-ка улавливать, находить эти моменты, и вы почувствуете, какая силища таится в красках. Иной раз даже страшно бывает: а вдруг не совладаешь, не найдешь применения этой силе? Ну да вам-то бояться нечего, – засмеялся, глядя на могучую фигуру Шишкина. – Вам и не такое под силу. Завидую я вам, пейзажистам, у вас все ясно и определенно. А портретисты, вроде меня, люди несчастные, зависимые. Нет, нет, вот еще несколько заказов – и брошу неблагодарное это занятие, оставлю навсегда…
– Да ведь не бросите, – возражает Шишкин. – Привязаны вы к своему делу, душа не отпустит…
– Душа, душа, – сердится Крамской. – Душой тоже надо управлять. – Человек живет в постоянной борьбе, если он живет по-человечески. Но что это такое, борьба? Иногда главного своего противника я вижу в самом себе… да ведь так и есть: всю жизнь борешься с самим собой, отстаиваешь самого себя…
Савицкий к вечеру тоже возвращался, усталый, измученный обострившейся астмой. И откуда только силы берутся у человека?.. Константин Аполлонович загорелся идеей написать ремонтные работы на железной дороге и с утра до вечера пропадал теперь на станции среди землекопов – столько там, по его словам, причудливых фигур, разнообразнейших характеров.
– Представляете, – взволнованно говорит Савицкий, – это те же «бурлаки»… Посмотрите, какие лица!.. – И он быстро раскладывал на столе наброски, эскизы, этюды. – Посмотрите. Вот хотя бы этот старик в красной рубахе. Ушел из деревни, шестеро детей, жена… А этот мальчик… какие у него умные и печальные глаза. Что с ним станет? Нет, нет, грешно мне будет, если я не напишу своих «бурлаков»!..
Тогда «Бурлаки» уже завоевали признание. Репин закончил их ранней весной, а уже в мае картину увидела венская публика – там открылась всемирная выставка.
– Славную вещь вы задумали, Константин Аполлонович, – говорил Крамской. – Только смотрите, чтобы она не повторила уже сказанное Репиным…
В середине августа Софья Николаевна родила мальчика – торжество было всеобщим. Друзья поздравили Ивана Николаевича, отметив это событие застольем. Ребенок был здоровенький, крепкий, Софья Николаевна тоже неплохо себя чувствовала. Мальчику дали имя – Марк.
Наконец Крамской, отложив все дела, отправился в Ясную Поляну. Однако первый визит неудачный: Толстого не оказалось дома. Через несколько дней Иван Николаевич снова идет в толстовское имение, надеясь на этот раз застать Льва Николаевича.
День был ясный, сухой, и леса яснополянские стояли торжественно-тихие, окутанные синеватой дымкой, уже тронутые слегка предосенней позолотой. Дорога вышла к пруду, оттуда доносились чьи-то негромкие голоса, повернула на усадьбу, и вскоре Крамской приметил бородатого мужика, не спеша прохаживающегося по аллее неподалеку от графского дома. Лицо старика показалось знакомым… Да, конечно, он его видел как-то на станции, когда яснополянцы встречали кого-то из гостей… Наверное, кучер. Бородач тоже приметил Крамского, остановился и внимательно посмотрел на него. Крамской спросил: не скажет ли он, где находится сейчас граф Лев Николаевич. Бородач среднего роста, широкоплечий и вовсе не стар, лет сорока по виду, не более.
– А он перед вами, граф Толстой, – говорит и посмеивается. – Чем обязан?
– Простите, – слегка смутился и растерялся Крамской, не рассчитывая на столь необычную и неожиданную встречу. – Моя фамилия Крамской. Иван Николаевич. Художник. И я к вашему сиятельству осмелился явиться по весьма важному и неотложному делу…
– Фамилия ваша мне знакома, – очень просто сказал Толстой. – Мне о вас говорил Фет, когда от имени московского собирателя Третьякова склонял на портрет…
Толстой стоял, заложив одну руку за пояс, а в другой держа березовый прутик, которым изредка и как бы незаметно для самого себя постегивал по носкам очень аккуратно сидящих на нем добротных сапог. И Крамской по своей профессиональной привычке единым взглядом «ухватил» самое характерное в лице – широкий лоб над густыми бровями, из-под которых умно-насмешливо, проницательно смотрели голубовато-серые глаза, глубоко посаженные, маленькие, пожалуй, слишком маленькие для такого крупного, породистого лица, хотя впоследствии они и не казались такими маленькими – столько в них было какой-то удивительной притягивающей силы, озорства, такой мягкий и добрый свет исходил от них, как бы постоянно озаряя все лицо… «Вся сила в глазах», – отметит потом Крамской. Понравятся ему и руки Льва Николаевича, очень крупные, сильные, но и в то же время правильной формы, и он еще раз отметит: «Крупный человек», вкладывая в понятие «крупный» какой-то особый, глубинный смысл. Они проговорили более двух часов, пролетевших незаметно. Толстой расспрашивал о художниках – многих из них он знал по именам и картинам, интересовался товариществом передвижников, и само слово «передвижники», кажется, нравилось ему, он произносил его с каким-то особым, подчеркнутым смыслом: «Передвижники… Это, скажу я вам, весьма энергично. Идея в этом большая и благородная. Искусство – выразитель чувств, и оно тем выше, чем больший круг людей объединяет в себе. Иначе я не представляю себе искусство. Иначе, если оно становится достоянием лишь ограниченного кружка, – уклоняется от всего главного пути, от своих главных задач… А вы как думаете? Мы, писатели, тоже ведь по-своему передвижники…»
Крамской горячо, страстно говорит о значении передвижничества в развитии русской национальной школы, о связи художника с жизнью… Толстой слушает с большим интересом. Да, да, для него этот вопрос весьма важен: он, по секрету сказать, работает сейчас над романом о глубокой драме современной женщины, и суть характера Анны Карениной, главной героини, должна быть заключена не в рамки семейных отношений, а исходить из целой системы взглядов на жизнь… Система взглядов. О, тут было им о чем поговорить!.. Крамской весь так и сиял, светился, найдя понимание в лице этого великого, мудрого человека… Но как только он касался портрета, Толстого будто подменяли – он становился холоден, упрям и несговорчив.
– Нет, нет, освободите меня от этого, – хмуро качал он головой. – Не смогу я позировать. Любая поза претит мне… Нет, не смогу.
Однако ж и Крамскому дальше отступать некуда: либо сейчас, либо – никогда. И он, делая вид, что уже смирился со своей неудачей, со вздохом говорит:
– Ну что ж, очень жаль, очень жаль. Я понимаю и уважаю причины отказа вашего сиятельства, не имею права настаивать, но, поверьте моему слову, рано или поздно ваш портрет будет в галерее.
– Как так? – удивился Толстой, не совсем понимая.
– Очень просто, – ответил расстроенный, но все еще не теряющий надежды Крамской. – Не напишу я вашего портрета, не напишет никто из моих современников, но лет этак через сорок или пятьдесят он будет написан… И тогда останется только пожалеть о том, что портрет не был написан своевременно.
Толстой задумался. А Крамской вдруг встал, готовый откланяться:
– Простите бога ради, столько драгоценного времени у вас отнял…
– Погодите. Что же мне с вами делать, ума не приложу? Нет, нет, не в моем это духе… – заколебался Толстой. И Крамской не преминул этим воспользоваться.
– Лев Николаевич, я вам обещаю: если портрет, написанный мною, по какой-либо причине вам не понравится, он будет тотчас же уничтожен.
– Ну зачем же? – шутливо отмахнулся Толстой. – Я не хочу кровопролития.
– И второе, – продолжал Крамской. – Портрет будет передан Третьякову тогда, когда вы сочтете удобным для себя. Наконец, третье: я готов сделать два портрета, один из которых вы можете оставить себе, по выбору…
Толстой все колебался. Но последний довод чем-то подкупил его, и он, посветлев лицом, сказал:
– Да, да, если уж вы так настаиваете и считаете это дело крайне необходимым, мне хотелось бы, разумеется, иметь копию у себя… для своих детей. Но, по правде говоря, боюсь вас в чем-либо стеснить…
– Да что вы, Лев Николаевич! – живо и радостно возразил Крамской. – Напротив, мне было бы приятно и даже интересно сделать именно два разных портрета, а не копию, то есть оба писать с натуры совершенно самостоятельно.
Наконец согласие дано. Крамской возвращается в Козловку-Засеку довольный, в отличном настроении. И в тот же вечер пишет Третьякову: «Не знаю, что выйдет, но постараюсь, написать его мне хочется».
Ах, как хочется написать!..
«Он одинаково не мог работать, когда был холоден, как и тогда, когда был слишком размягчен и слишком видел все, – скажет Толстой о художнике Михайлове в «Анне Карениной», прототипом которого, вне всякого сомнения, послужил Крамской. – Была только одна ступень на этом переходе от холодности ко вдохновению, на которой возможна была работа».
От холодности ко вдохновению… Крамской сгорал от нетерпения – он уже знал, как ему писать, и однажды портрет Толстого привиделся ему даже во сне…
Шестого сентября Крамской начал писать портрет Льва Николаевича. И остался доволен первым сеансом – такого «прекрасного натурщика» он еще не видывал!..
Он преувеличивал, конечно, говоря о «прекрасном натурщике». Позже старший сын Толстого Сергей Львович вспоминал: «Отец неохотно позировал. Крамской же по своей скромности не настаивал, как рассказывала моя мать, не успел докончить портрет, заказанный Третьяковым… выписал только голову, а остальное… закончил, набив старую блузу отца паклей…»
А Лев Николаевич в конце сентября сообщает Страхову: «Уже давно Третьяков подсылал ко мне, но мне не хотелось, а нынче приехал этот Крамской и уговорил меня… И теперь он пишет, и отлично, по мнению жены и знакомых. Для меня же он интересен, как чистейший тип петербургского новейшего направления, как оно могло отразиться на очень хорошей и художественной натуре».
Работалось нелегко, но радостно. Крамской торопился. И оба портрета были написаны менее чем в полтора месяца. Софья Андреевна боялась, что один из них выйдет хуже, и ей из деликатности придется взять именно худший (не отсылать же его Треть-якову), но оба портрета вышли хороши. Да к тому же Крамской, щедрая душа, поставил их рядом и предложил выбрать тот, который больше нравится. Софья Андреевна была в затруднении: ей нравились оба. Но все-таки выбор был сделан, и все остались довольны. Особенно Лев Николаевич. «Вот видите, – восклицал он, – для того чтобы сказать понятно, надо говорить искренно.
А тут во всем искренность… во всем!»
Высшей похвалы Крамской не желал. Так закончилась для него яснополянская эпопея. Хотя он еще и не предполагал, сколь долгая жизнь предстоит портрету, написанному этой осенью. Главное, выполнен заказ Третьякова – гора с плеч.
Семнадцатого октября Иван Николаевич вернулся в Козловку-Засеку позднее обычного, уже в сумерки, был возбужден и совершенно счастлив.
– Ну, доложу я вам, – говорил Савицкому, – удивительнейшая личность этот граф Толстой! – И добавлял доверительно, с веселой усмешкой: – На гения смахивает. Поверьте мне, уж я-то в лицах разбираюсь…
Этим же летом Крамской написал портрет Шишкина. Иван Иванович стоял, опираясь на трость зонта, голова и плечи возвышались над верхушками дальнего леса – и было в его могучей прекрасной фигуре нечто от былинных богатырей, коими славна русская земля…
* * *
Лето завершало свой извечный круг. Легкий туман уже стлался по утрам над землей, и днем сверкала в воздухе прозрачная, будто сотканная из тончайшего серебра, паутина. Высветлился и четче обозначился горизонт, и первыми холодами повеяло из гулких, еще не обнажившихся лесов. Евгения Александровна не могла дольше скрывать свой недуг, ей становилось все хуже, донимал мучительный кашель. А тут еще ребенок, сын… Он требовал к себе внимания и раздирающим душу криком ревел по ночам. Женя давала ему грудь, он жадно хватал ее, больно сжимая деснами, и сердито выталкивал. Шишкин вставал, брал сына на руки и ходил по комнате, покачивая. Ребенок успокаивался на время, а потом еще сильнее ревел, закатываясь в крике.
– Да что с ним, почему он плачет? – терялся Иван Иванович, не зная, что делать. Женя со слезами отчаяния говорила:
– Он же голоден, мне нечем его кормить, у меня ничего нет… Господи, что же будет?..
Теперь уже нельзя, невозможно было дальше откладывать ни одного дня, и второго сентября Шишкины первыми покинули Козловку-Засеку, вернувшись в Петербург.
В конце сентября пришла печальная весть из Крыма: умер Федор Васильев. Россия, по словам Крамского, потеряла гениального мальчика, не успевшего сделать и сотой доли того, на что он был способен. Поздней осенью приехала из Ялты Ольга Емельяновна, привезла все, что осталось от сына – рисунки, акварели, сепии… пять альбомов! Шишкин был поражен: когда же он все это успел?.. Ольга Емельяновна, постаревшая, как бы усохшая на южном солнце, не могла без слез слова молвить – как он мучился, Федор, и как не хотел выпускать из рук кисть или карандаш!.. Он уже понимал, что обречен, что все идет к концу, но все еще пытался что-то делать и в минуты отчаяния, бессильно валясь на подушку, шептал: «Боже мой, как я хочу рисовать! Рисовать…» И это звучало как «жить, жить хочу!». Евгении Александровне опять стало хуже. Смерть брата была для нее страшным ударом, перенести который и здоровому нелегко. Ольга Емельяновна осталась пока у них, взвалив на себя все заботы по дому. Иван Иванович сбился с ног, бегая по врачам, но помочь Жене никто уже не мог – доктора внимательно осматривали, выслушивали ее, прописывали разные лекарства, утешали, но на вопрос Шишкина «Что с нею?» только руками разводили. Спасти ее не было никакой возможности – чахотка в то время была грозной, неизлечимой болезнью… К тому же в семье Васильевых это было наследственное. Женя слегла окончательно.
Сын тоже был слаб, требовал к себе постоянного внимания. Наняли кормилицу. Крепкотелая, большегрудая женщина, кормившая сына, казалась Шишкину излишне здоровой и неряшливой. И это раздражало его, да и ребенок, несмотря на избыток молока у кормилицы, ел плохо и совсем исхудал. Женя с каждым днем угасала, таяла, как свеча, и ранней весной, накануне дня своего двадцатипятилетия, ее не стало… И тут же – удар за ударом! – буквально следом, через три недели, скончался маленький сын. Иван Иванович был потрясен, убит. Да и вряд ли можно найти такие слова, которые бы хоть частично передали состояние Шишкина в это время. Казалось, со смертью жены и сына ушли в прошлое все лучшие замыслы, надежды, ничего не осталось за душой. Пусто. Он пугался пустоты в большой неприбранной квартире, не мог найти себе места, уходил с утра из дому, спешил куда-то, словно пытаясь сбежать от самого себя. Бежал не только от себя, но и от друзей – не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать. Жизнь для него остановилась, и сам он существовал лишь физически, с отвращением воспринимая окружающий мир, который как бы и не принадлежал больше ему, Шишкину, и себя в этом холодном, несправедливом мире… Все кончено!
Прошел по Неве лед, проплыли первые пароходы, барки с лесом, и Шишкин, глядя на них, с печальным безразличием подумал: «Сосновые бревна… Что ж из того, что сосновые?» Ах да, это же любимое его дерево – сосна!.. Он усмехнулся горько: а говорят, что шишкинского леса, написанного кистью и пером, не вырубить топором… Вот и вырубили, с корнем выдрали! Безжалостно… Ни-че-го не осталось!
Бревна на барках были уложены высокими, ровными штабелями, ветер доносил их крепкий, дурманящий запах. Голова кружилась от этого запаха. Иван Иванович закрыл глаза и постоял, опираясь на парапет. Вспомнил, как привезли в тот день гроб для Жени, и острый запах свежей сосновой стружки как нож по сердцу… А ведь он любил этот запах, запах сосновых лесов, с которым связаны лучшие дни. Лучшие… «Все уходит, – думал Шишкин. – И лед по Неве прошел, и вода течет, не останавливаясь, и ход жизни часто неподвластен человеческой воле… Вот и Женя ушла, и отца уже нет, и Федор Васильев никогда уже не возьмет в руки кисть и не прикоснется к холсту… А что изменилось на земле? Душа моя изменилась. Так разве до этого есть кому-то дело, разве это встревожит кого-то в этом огромном, равнодушном мире?» Он все стоял неподвижно, ладони, которыми он опирался о шершавый камень, набрякли и казались чужими. Он сам себе казался чужим. И впервые, как бы со стороны глядя на себя, усомнился в необходимости дальнейшего своего существования…
Друзья с сочувствием и жалостью смотрели на него, а он не выносил этих взглядов, не принимал сочувствия. И Крамской мучился, не зная, чем помочь своему другу, спрашивал жену: «Сонечка, милая, ведь гибнет же, на глазах гибнет человек, художник… Что можно сделать?»
Что можно сделать?
Шишкина все чаще видели теперь в компании каких-то странных субъектов, он совершенно забросил работу и порвал всякие связи с передвижниками, обходил их стороной.
В тот вечер он опять напился и ходил по Большому проспекту между Шестой и Седьмой линиями в обнимку с рыжим детиной, на шее которого болтался грязный засаленный шарф. Шишкин хриплым, сдавленным голосом говорил: «Я потерял самых дорогих людей… Что же мне еще осталось?» Рыжий громко и раскатисто хохотал: «Эко тебя развезло, сударь! А это правда, что ты картинки малюешь? И много тебе за них платят? Ну да все одно, плевать… пойдем лучше выпьем еще за помин души…»
Шишкин вдруг, трезвея, с силой оттолкнул рыжего, тот едва устоял на ногах. «Пошли вы все… чтоб духу вашего!.. – сказал он, с ненавистью глядя на рыжего. – Мерзость».
И ушел один, вернувшись домой раньше обычного.
Утром Иван Иванович проснулся с больной головой. Солнце яростно било в окна, заполняя комнату жарким, ослепительным светом. Птичья кутерьма во дворе. Голубое высокое небо. Запах зацветающей герани. Тихое мурлыканье за стеной, чей-то нежный слабенький голосок… Он прислушался: боже мой, да ведь это же дочь, Лидочка… Грудь сдавило, слезы душили его. Он совсем в эти дни забыл о ней, спасибо Ольге Емельяновне… Он встал, оделся, приоткрыл дверь тихонько. Лидочка сидела в кресле, возилась с куклами и тихонько напевала: «Раю мой раю, прекрасный рай…» Его поразило сосредоточенное, серьезное и печальное лицо дочери. «Откуда ж ей-то известна эта песня?» – подумал Иван Иванович. Потом он увидел на стене свой недописанный этюд и долго, удивленно смотрел на него, не понимая, как он здесь оказался. Ну да, конечно, он его, этот этюд, оставлял в мастерской Крамского… Как же он здесь-то оказался? И почему именно здесь его повесили, на самом видном месте?..
Он подошел ближе, внимательно разглядывал, хмурился: «Воздуху, воздуху мало…» А за стеной все пела и пела четырехлетняя Лидочка, твердя запавшие в голову слова: «Раю мой раю, прекрасный рай…» И вдруг, как давний сон, всплыл в памяти образ иконописца Осокина, голос его, слова, такие пронзительно горькие, отчаянные: «Слышь, Ваня, душа гибнет…»
Шишкин вышел из дома. И все думал: «Как же это я, неужто и дальше так?» Он уже догадывался, каким образом из мастерской Крамского этюд перекочевал в их квартиру…
И впервые после долгого перерыва решил зайти к Ивану Николаевичу. Крамской встретил его так, словно ничего не случилось, спокойно, сдержанно, без лишних охов и ахов, заговорил как бы между прочим о предстоящей выставке.
Потом сидели за столом, и добрейшая Софья Николаевна угощала их ароматным чаем, подкладывая в розетки густой засахарившийся мед: «Пейте, Иван Иванович, берите печенье… Подлить горяченького?» И знакомый «артельный» самовар поблескивал начищенными боками, и Софья Николаевна была так сердечна, приветлива, по-домашнему проста… И мир, казалось, снова возвращался к нему, Шишкину, или он, Шишкин возвращался в этот мир из какого-то странного, непонятного небытия…
На обратном пути Шишкин зашел в магазин Аванцо. Хозяин встретил его, приветливо улыбаясь: «Что-то вы, Иван Иванович, совсем забыли про нас, давненько не были…»
Шишкин выбрал несколько хорьковых кистей, попросил отмерить аршинов десять дрезденского холста и, распрощавшись с любезным хозяином, поспешно вышел.
Медленно, как после тяжкого недуга, отогревалась душа, возвращаясь к жизни; появилось желание работать, уверенность в надобности этой работы, и в конце лета Иван Иванович собрался наконец и выехал на этюды в Преображенское. Погода выдалась ясная, утра были туманные, грибные, и дачники шумными компаниями бродили по лесу с лукошками или просто так; дрожал воздух от их громких голосов, ауканья, смеха. Шишкин уходил подальше, в глубь леса, искал уединения. Среди милых, близких и понятных его сердцу дубрав он успокаивался, и весь мир с его радостями и печалями отодвигался куда-то прочь в эти минуты, суживался до размеров крохотного мирка, в котором едва умещалась одна лишь слабая травинка, хрупкая, как человеческая душа… Хотелось написать и эту травинку, и капельку солнечного света, скользнувшего по ней живым исцеляющим теплом. Шишкин писал старательно, как ученик, или скорее он был похож сейчас на человека, делающего после тяжкой болезни первые шаги… Человеку всегда кажется, что он делает в чем-то свой первый шаг (и он в этом прав), даже если этот шаг окажется для него последним, ибо человек никогда и ни в чем не повторяет, не может повторить себя, потому что в каждую последующую минуту (уже не говоря о днях и годах) он становится иным, чем был до этого – лучше, сильнее, добрее или, напротив, время творит из него бог знает что… И незачем человеку, как сказал Монтень, вставать на ходули, ибо и на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног…