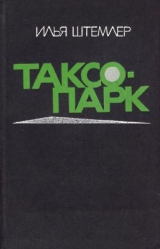
Текст книги "Таксопарк"
Автор книги: Илья Штемлер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
– Не переживайте, Андрей Александрович, – успокоил его Янакопулос. – Сегодня старая, завтра новая. Жизнь полна неожиданностей… Приходите еще.
Он заговорщицки улыбнулся и распахнул стеклянную дверь…
Аллея, идущая от кафе, освещалась трехглавыми фонарями. Вскинутые в небо оранжевые огни выглядели гордо и одиноко. За время, проведенное в кафе, кажется, потеплело – снег уже не скрипел под ногами, а мягко прижимался…
Тарутин молчал. На его согнутой руке, точно озябшая красная птичка, лежала Викина варежка. И он шел медленно, боясь поскользнуться и спугнуть эту пичугу. Кажется, он опьянел от королевского напитка бармена – на глаза наплывали оранжевые круги, словно сорвавшиеся со столбов фонари. Тем не менее он старался идти ровно, глубоко втягивая морозный воздух. Но трезветь ему не хотелось, так было хорошо сейчас… И он ни за что не заговорит с ней первым. Кто ей дал право шпынять его: «Люди стали стыдиться своих хороших поступков…» Ха-ха! Интересно, кто из них нашел бы в себе силу воли заварить эту кашу? Она? Или франт Мусатов? Все помалкивают в жилетку. А критиковать – пожалуйста, сколько угодно… К черту! Вернусь в Ленинград. Работа всегда найдется. Остались старые приятели, связи, устроюсь… А тут пусть сами кувыркаются как хотят. Почему именно он должен чистить их конюшни? К черту! Половина жизни прожита! В управлении с завтрашнего дня все будут смотреть на него как на дурачка – возмутитель спокойствия! И старик этот, Лариков, хорош… Миша-Мишутка… Сам назначил директором. Дерзай! А как прикрыть – в кусты! И ведь все понимают, что он прав. И Гогнидзе понимает… Рисковать не хотят. Обидно, такой им план разработал со стариком Шкляром… А водители? Стервецы, письмо послали… Конечно, он всем как кость в горле. Ясное дело…
Мысли теснились в нетрезвом сознании Тарутина, принимая физическую весомость, сковывая движение…
– Так мы с тобой и не выпили кофе. – Вика сбоку взглянула в лицо Тарутину. – Ты сердишься на меня, Андрей?
– Нет. Я думаю о твоих словах… Ты не совсем права. Все гораздо сложнее.
– Не знаю. Может быть.
– Но спорить не хочется… Кажется, я уеду из этого города. Ну его к бесу. С делами этими, с неприятностями. Действительно: начал молиться и лоб расшиб… Уеду. Подам заявление и уеду…
Красная варежка мягко выскользнула из-под руки Тарутина. Вика перешла на середину аллеи… Конечно, она ждет, что Тарутин окажет еще кое о чем! И вновь какое-то окаянство сковывает ему язык… А может быть, ему просто нечего сказать ей об этом всерьез, со всей ответственностью за решение? Тогда зачем он заговорил о своем намерении уехать? С ней! Сейчас. Сделать ей больно? Отомстить за Мусатова? Глупо, глупо. И мелко, недостойно… А главное, ждать после всего от нее признания, просьб, клятв, обещаний. Подло это, подло… Надо сказать ей что-нибудь ласковое. Извиниться.
Тарутин смотрел на глубокие аккуратные провалы в снежном насте, которые оставляли Викины сапожки, и продолжал молчать, словно губы его были стянуты морозом. Вика остановилась. Синие глаза, казалось, погрузились в прозрачную тихую воду. Волосы выбились из-под платка и касались рта.
– Знаешь, Андрюша, я замуж выхожу. За Мусатова. Он вчера еще раз сделал мне предложение…
Они молча прошли до конца аллеи и поравнялись с каменным оленем, держащим на разлапистых рогах высокую снежную шапку. Последний фонарный столб не горел, и три матовых шара выглядели большими снежками, закинутыми на его верхушку…
Из-за поворота на проспект выскакивали автомобили. Многие с зелеными светлячками в углу лобового стекла. Воскресенье. Работы мало. Время и не позднее, да все сидят дома, у телевизора…
Тарутин поднял руку. Такси остановилось. Он открыл дверь и протянул водителю деньги.
– Свезете в Сосновую аллею.
Вика стояла на тротуаре, подняв воротник и продев варежки в рукава, наподобие муфты.
– Ты меня не проводишь?
– Нет. Так будет лучше, – решительно ответил Тарутин.
– Как знаешь.
Вика села в машину, хлопнула дверью…
Тарутин остался один. Постоял. Потом повернулся и пошел вдоль совершенно пустого проспекта. Глаза как-то вязало, и холодный туманный воздух плотнел, обретая зыбкий облик близких ему людей. Звучали их голоса… Сухонькая белоголовая мама. Сестра Наташа с ямочками на улыбчивом лице. Ее муж, зубной техник, славный человек… Тарутина радовало их появление, он спрашивал их о каких-то давних делах, каких-то родственниках… Он восстановил в памяти свою комнату в Ленинграде. Два окна выходили на тихую Карповку, в простенке – отцовское охотничье ружье и чучело совы. Эта сова наводила страх на его жену… Его жену.
Тарутин остановился, достал сигарету и, прячась от ветра, закурил… Вот кого ему сейчас не хватало – ее. Казалось, совсем канула в вечность даже память о жене. И вдруг вспомнил…
Тарутин привалился плечом к сырому камню здания…
У нее были карие большие глаза, а за время болезни они, казалось, заняли половину исхудалого, бледного ее лица… Сейчас его полупьяное воображение проявляло не только черты лица покойной жены, но и по-новому раскрывало ее характер, их взаимоотношения. Удивительно, как разнится мироощущение под влиянием алкоголя… Как он тогда не ценил ее ненавязчивую заботу, тихую любовь. Ему казалось, что она была равнодушна, вся поглощена своими делами. На самом деле – наоборот. Она настолько растворилась в нем, что Тарутин мог как бы со стороны видеть себя, свое настроение, печали. Удивительная женщина. Они познакомились в церкви, точнее в Никольском соборе. Соборовали одного почившего старичка, маминого знакомого, и Тарутин заехал за мамой… Мудрые истовые лики святых, взирающих с торжественных стен, коптящие тоненькие свечи, запах ладана – все это тревожило сердце Тарутина предвосхищением чего-то неожиданного для себя. И тут ему показалось, что у дальнего пилона зашевелился лик святой. Иллюзия была так правдоподобна, что у Тарутина перехватило дыхание. Какая-то девушка, просунув голову между пилоном и подсвечником, восхищенно смотрела огромными иконописными глазами на то, что происходило в соборе, и вот повела головой, тем самым привлекая внимание Тарутина…
Тарутин протиснулся к ней, заговорил. Вспомнил какой-то анекдот. Девушка засмеялась, вызывая гнев окружавших их старух. Из собора они вышли вместе. На паперти курлыкали голуби. Девушка достала целлофановый пакет с надписью «Турист» и бросила голубям остатки бутерброда. Девушка приехала в Ленинград на экскурсию…
Пожалуй, еще ни разу со дня ее смерти Тарутин так остро не ощущал потерю, как сейчас. На пустом, не убранном от снега проспекте… Ему никто, никто не нужен был, кроме нее. Возможно, это ощущение пройдет. И довольно скоро. Но сейчас он казался себе жалким и беззащитным. Ему хотелось слышать ее тихий голос, чувствовать дыхание на своей груди. Он любил ее сейчас страстно, нежно, как в первые месяцы их совместной жизни. Почему-то именно сейчас, по прошествии стольких лет, он вдруг постиг всю глубину несчастья, которое может принести лишь смерть близкого человека. Он мысленно провел рукой по ее нежной шее, плечам, тронул губами ее лоб. Сердце сжалось от тоски – губы ощутили ледяной холод одеревенелого лба… Тарутин даже поднес ладонь к своим губам, жарким от выпитого, но и ладонь его была сейчас холодной и безжизненной…
«Как я мог все это забыть?» – казнил сейчас себя Тарутин. Отдать всего себя, свои чувства, время, настроение этому молоху – работе. Этому суматошному живому организму. С возникающими ежеминутно большими и малыми заботами. Трудно подыскать аналогичное учреждение – без выходных, без санитарных, без праздников и отпускных, без перерывов на обед и на сон. День и ночь крутится вертушка у проходной, впуская и выпуская водителей. День и ночь через распахнутые ворота въезжают и выезжают автомобили. День и ночь гудят компрессоры в ремонтных цехах, латая покалеченные машины…
Тарутин поднял лицо, пытаясь остудить горячую кожу. Большая туча, словно тряпка по школьной доске, ползла по небу, стирая по пути светлые звездочки. А навстречу тянулась другая туча, вытянутая и перекрученная, – дым из трубы котельной. И Тарутин подумал, что он сейчас находится недалеко от управления. Он отшвырнул сигарету и нахлобучил шапку.
Рядом с управленческим подъездом стоял автомобиль. На заднем сиденье, заломив в коленях ноги, спал Саша, дежуривший по управлению шофер. Тарутин взглянул в крайнее окно на третьем этаже. За белыми гардинами тускнел слабый свет настольной лампы. Кажется, и старик у себя! Не спится ему, не отдыхается…
Тарутин поднялся на ступеньку и нажал кнопку звонка охраны.
– Я ждал вас.
– Вот как? Честно говоря, я пришел сюда случайно.
– Случайно попала кура в кастрюлю… Правда, я уже думал, что вы не придете.
Лариков стоял спиной к Тарутину, что-то перебирая на столе. Бледно-фиолетовая наколка «Миша» у основания большого пальца то сжималась, то растягивалась наподобие игрушечной каучуковой рожицы.
– Что же вы стоите? Садитесь.
– Куда? – спросил Тарутин.
Лариков усмехнулся и указал рукой в кресло, стоящее поодаль, рядом с диваном. В управлении знали, что предлагаемое в кабинете место означает степень важности беседы и ее эмоциональное содержание. Для нагоняя Лариков усаживал в черные кресла, стоящие у самого стола. Серьезный разговор, но без особой расположительности предусматривался стульями вдоль стены. А кресло, предложенное Тарутину, означало, что беседа предстоит доверительная, серьезная и приглашенный человек симпатичен Ларикову…
Заместитель начальника управления по таксомоторным перевозкам перенес свое тяжелое тело от стола к дивану и плюхнулся на его упругое сиденье, скрестив короткие ноги, словно замирая в нелепом танце. Он исподлобья бросил на Тарутина непонятный взгляд. Но, в сущности, Тарутина это не должно было волновать – он для себя все-все решил. В конце концов, он больше потерял в этом городе, чем нашел. Единственно, что ему сейчас приносило неудобство, – это мокрый воротничок (прежде чем войти сюда, пришлось хорошенько освежиться в туалете холодной водой).
Лариков вздохнул и откинулся на спинку дивана.
– Конечно, ты прав, Андрей, что и говорить.
Тарутин вытянул шею. Он готовился к разносу, к грубому окрику. И не так была неожиданной фраза Ларикова, как тон – в нем не звучала фальшь или желание подсластить пилюлю.
– Прав, прав, – повторил Лариков, глядя в сторону.
Наконец Тарутин справился с волнением.
– Скажите, Михаил Степанович, почему вы назначили директором меня? Такие ходили вокруг орлы, рубахи парни. С опытом.
Лариков вновь тяжело вздохнул. Лицо его сморщилось. Он пощупал короткими пальцами свой нос, подбородок, провел ладонью по шее…
– Как тебе сказать… А почему не тебя?! Толковый, грамотный инженер, интеллигентный молодой человек. Почему не тебя?
– Вот, видите, – с каким-то неожиданным злорадством произнес Тарутин и отвел глаза.
– Знаешь, – вдруг оживился Лариков, – я двадцать лет шоферил. Всей премудростью овладел. И когда вспоминаю те годы, думаю: в чем был прокол моего воспитания? Меня тогда окружали люди, мягко говоря, грубоватые. И грубость была способом обороны, мол, не размазня, ездить на себе никому не позволю. И все вокруг них казались такими же – дерзкими на язык, суровыми на вид… – Лариков, улыбаясь, смотрел на Тарутина. Но в улыбке его не было сейчас обычной уверенности. – Есть одна странная закономерность, Андрей, я заметил… Назначили к нам управляющим Круговерова, горлодера и грубияна. И весь аппарат стал таким же – крикуны и неврастеники. Потом его сняли, назначили Муромцева. Интеллигентный человек, тихий, вежливый. И аппарат как подменили. Даже уборщицы и те без стука не войдут в отдел. Словом, не автотранс, а рай земной, в ушах от тишины звенело. А главное – работа шла…
– Значит, вы эксперимент на мне проводили? – Тарутин укоризненно покачал головой.
Лариков все продолжал вздыхать, морщиться и щупать в задумчивости свое лицо. Странный какой-то он сейчас, думал Тарутин. Необычный. Вроде не в себе…
– Ты извини меня, Андрей… Стар я стал.
– За что? – Тарутин не понимал, что имеет в виду Лариков.
– Что не вступился за тебя. На «селекторке». Робость оковала, понимаешь… Заместитель министра все же. А мне на пенсию выметаться скоро. Думаю, ну их всех к бесу…
Пшеничные его брови у основания покраснели и теперь казались ненастоящими, бутафорскими. А круглое лицо с набрякшими под глазами мешками, со складками у рта, из которого, делясь длинными паузами, вылетали слова, такие густые, тяжелые, что их можно было коснуться руками, лицо это сейчас стало близким Тарутину…
– Вот еще, – пробормотал он. – Я даже обэтом и не думал…
– А ты думай! Думай! О тех, кто тебя предает, думай.
– Ну, Михаил Степанович… у вас еще появится возможность…
– Не появится, Андрей Александрович. После «селекторки» я сцепился с Кориным. Он сказал, что это все мои дела. Фантазии. Поэтому я, дескать, обязан поднять твой парк. Другого решения вопроса он не видит…
– Не понимаю.
– Что там не понимать? Хочет меня перевести в твой парк… директором.
– Вот оно что!
Тарутин покрутил головой. Странно. Ведь он сам готовился подать заявление об уходе. Но сейчас, когда Лариков ему сказал об этом, так заныло в груди… И такой серьезной показалась потеря. Таким родным показался этот суматошный, добрый, жестокий и равнодушный таксопарк…
– Вот оно что, – повторил Тарутин вялыми сухими губами. – Что ж, пожалуйста… Хоть сейчас.
Лариков вскинул брови, собирая в глубокие морщины кожу лба.
– Не кагалтись, понял?! – закричал он.
– А я не кагалчусь! – Тарутин чувствовал нарастающую злость.
– Кагалтишься! – прокричал еще громче Лариков.
– Это вы кагалтитесь, а не я!
– Пить надо меньше, ясно?!
Тарутин с изумлением взглянул на Ларикова.
Они немного помолчали, глядя в разные стороны. Тяжело опираясь на руки, Лариков встал с дивана и обронил негромко и обиженно:
– Жду его тут, жду. А он…
Сделал несколько шагов по кабинету. Остановился у стола.
– Слушай, Тарутин, когда твой Фомин возвращается?
– Днями. Лечится человек.
– А кто вместо него?
– Водитель один. Член бюро. Григорьев.
– Дядя Петя? Какой же из него парторг? Мягок. Товарищами мы когда-то были, шоферили вместе.
– Что вы вдруг Фомина вспомнили?
– Нужен он сейчас. Для дела.
Лариков взял серую пухлую папку. Тарутин узнал ее – работа Шкляра…
– Такой отличный план придумали. Эх! – Лариков бросил папку на стол.
А толку что? – Тарутин вытянул губы трубочкой, как ребенок.
– Драться надо за него, вот что!
– Вы и деритесь.
Лариков боком присел на край стола. Взгляд его усталых глаз медленно полз по бледному лицу Тарутина, цепляясь за невысокий лоб, короткий нос, губы, задержался на ямочке подбородка.
– Составь обстоятельную бумагу. Поезжай в министерство. Вместе с Фоминым. Он мужик неробкий, старой шоферской закалки.
– Сейчас шоферы тоже не из робких.
– Как сказать… Нахальства много. А вот гражданства… Впрочем, обобщать нельзя… Так вот, поезжайте в министерство. Гогнидзе мужчина горячий, но не упрямец. И умница. Я его хорошо знаю… Завтра же и составь.
Тарутин поднялся с кресла. И проговорил внятно:
– Завтра я подам заявление.
Лариков помахал тяжелым кулаком вслед высокой тарутинской спине:
– Попробуй только!
Вначале он хотел взять такси и вернуться в тихий бар, к усатому греку Георгию. Сесть в стороне с бутылкой. Наверняка ребята еще там не разошлись, танцуют в малиновом полумраке.
Такси на стоянке не было, а подошел автобус – желтый, чистый, с ярко освещенными, по-домашнему заиндевелыми окнами. Дверь, скованная холодом, трудно разошлась, приглашая в полупустой салон. И Тарутин сел в автобус. Этот маршрут тянулся до самого его дома, значит, он сейчас отправится домой.
В еще теплой, хранящей чужое дыхание оконной лунке он увидел подъезд управления и дежурную машину со спящим шофером. Лунка на глазах затягивалась туманом, растирать ее вновь Тарутину не хотелось, он отвернулся, втянул голову в поднятый воротник. В память медленной обратной проекцией вошли какие-то никчемушные фразы, высветлялись какие-то движения, повороты головы, рук. Все это наплывало друг на друга, перемешивалось в единый сумбур, похожий на рваную тучу, принимающую образ то человека, то животного, то непонятно чего, но удивительно знакомого… Постепенно и это растворилось, уступив место пустоте. Он глубоко и ровно задышал… И уже сквозь полудрему Тарутин почувствовал глухие рывки и, сообразив, что кто-то дергает его за руку, тяжело поднял голову.
Женщина склонилась над ним, опираясь согнутым локтем на спинку переднего кресла, а лицо ее с ярко-красными губами, вздернутым носиком и челкой, выбившейся из-под меховой шапочки, лицо это плавало в теплом воздухе автобусного салона где-то рядом, у самых глаз Тарутина.
– Андрей Алексаныч?! Вы это? Уснете и свалитесь. А пол тут грязный, – ласково говорила женщина.
Тарутин встряхнул головой, приходя в себя.
– Не узнали? Так я Лопухова, Таня… Смотрю, батюшки, никак самого Тарутина укачало в автобусе, это ж надо. Или вы меня не помните?
Внешность женщины была знакомой, но откуда – не вспомнить, и Тарутин напрягал сонную память.
– Ларечница я. Таня Лопухова. У парка пиво продавала, вспомнили?
Тарутин провел ладонью по лицу, сгоняя остатки дремы.
– Как же, как же. Вспомнил. Куда же вы так поздно?
– В гостях была. У подруги. Квартиру новую она получила, вот и собрались все свои, порадоваться, как положено… А вы куда? Домой?
– Домой.
– И я домой… А то оборачиваюсь, гляжу и глазам не верю: Андрей Алексаныч. И вот-вот на пол свалится. – Женщина засмеялась, показывая красивые крупные зубы. – Надо, думаю, помочь.
– Спасибо.
– Выходит, мы с вами близко живем?
– Я на Первомайской живу.
– Общая остановка. Я на Зеленом бульваре. – Женщина села, привалилась грудью к спинке кресла и положила голову на согнутые руки.
Тарутин не знал, о чем говорить.
– Ну… как работается?
– Добились вы своего. Теперь меня на площадь у рынка перевели. Но ничего, я довольная, место ходовое. План делаю.
– Вот. А вы боялись.
Женщина вскинула крашеные ресницы, но промолчала.
Автобус, густо подвывая мотором, пошел на подъем, значит, скоро и выходить. Тарутин подумал о том, как бы ему расстаться с женщиной – его дом был ближе к остановке, – надо сразу решительно попрощаться и уйти, не отправляться же ему провожать.
– А мне еще идти от остановки три квартала. И через пустырь. Вечно там какие-то типы ошиваются. – Женщина поправила выпавшие из-под шапочки волосы.
– Я провожу вас, – без особого энтузиазма проговорил Тарутин, злясь на вечную свою мягкотелость.
– Что вы, что вы… Да я их, господи. Что вы! Я их так шугану, что пятки заблестят. Да и знают они меня, уважают. Работа такая, все эти ханурики как на ладони. – В ее выпуклых светлых глазах на мгновенье что-то сместилось. – Но, если желаете, я рада буду.
Пустырь с уснувшими на ночь под снегом строительными механизмами был безжизнен.
– Конечно, – говорила женщина. – Всех первый снег согнал. Ничего, скоро оклемаются и в тридцать градусов будут гулять. Ни один грипп их не берет. А у каждого дом есть, телевизор. Нет, сюда тянет как магнитом. «Бормотуху» цедят, охламоны… А ведь днем работают, в шляпах ходят. Ну и народец.
Женщина волновалась. Ее волнение передавалось Тарутину, и он удивлялся своему состоянию и острее чувствовал сквозь тяжелую шубу ее упругое жаркое тело, откровенно призывное и доброе. Он давал себе слово, что сейчас, у подъезда, распрощается с женщиной и уйдет, в то же время прекрасно понимая, что поднимется к ней, если только она предложит. И даже если не предложит, он сам будет искать повода остаться у нее, уверенный в том, что никаких формальных преград для этого нет, а если вдруг и окажется, что она живет не одна, Тарутин постарается увести женщину к себе, в пустую холостяцкую квартиру… Он не мог сегодня оставаться в одиночестве, не мог. И не хотел! Он слушал сейчас себя и не обращал внимания на то, что женщина уже несколько минут молчит, ступая рядом, тихая и совсем не та разухабистая ларечница Таня Лопухова, что подсела к нему в автобусе…
– Наверное, вы тогда смеялись надо мной? – произнесла она. – А я ту дубленку отдала брату. Не хотела, чтобы вещь досталась чужому человеку.
И Тарутин вспомнил, как однажды она явилась к нему в кабинет с просьбой не убирать ларек с площади у таксопарка и пыталась задобрить Тарутина подарком… А потом оказалось, что она просто повидать его хотела.
Тарутин улыбнулся, крепче прижимая к себе ее руку, с искренней сейчас добротой.
Женщина занимала комнату в коммунальной квартире.
– Спят уже. Залегли, – прошептала она и в темноте прихожей потянула Тарутина за руку в конец коридора. Только оказавшись в комнате и прикрыв дверь, она зажгла свет.
– Фу! Как через минное поле. Им только на язык что-нибудь повесь, – улыбалась она, и тушь подтекла под счастливые ее глаза. – Раздевайтесь, Андрей Алексаныч. Мы сейчас с вами закусим, выпьем чего-нибудь. – Она запрыгала на одной ноге, сбрасывая шубу. – Там у меня крючки за шкафом. Вешайте свое пальто, располагайтесь. А я мигом…
Она рывком сорвала с вешалки халат, прихватив что-то еще розовое, блестящее, и вышла из комнаты.
Мебель у нее хоть и новая, но не из дорогих – все, что необходимо. Стол, стулья, два кресла, телевизор, диван-кровать. Вдоль стены тускнел коричневым лаком комплект – шкаф, секретер, сервант, тумба. Очень удобная штука…
Тарутин сел в кресло, закурил и усмехнулся про себя – там, на другом конце автобусного маршрута, тоже была комната, правда, в отдельной квартире, но, по существу, в коммунальной. Он так и не успел познакомиться с капитаном-тралмейстером дядей Ваней и тремя сестрами. Вика почему-то скрывала их от Тарутина, возможно, заранее рассчитывала это расставание, инженер-программист. Только Пафику, собачке, похожей на волосатого человека из старого учебника биологии, удавалось прорваться сквозь кордон…
Женщина вернулась в комнату. Соломенного цвета волосы были выложены крупными кольцами, лишь короткая челка выбивалась из-под этой хитроумной конструкции на гладкий широкий лоб. Красный халат падал с плеч, поднимаясь на крупной упругой груди здоровой, нерожавшей тридцатипятилетней женщины.
– Что вы пьете, Андрей Алексаныч? – Голос ее такой же мягкий, под стать фигуре, округлой и зовущей.
– Все!
Тарутину приятно было чувствовать этот призыв, он почти физически ощущал на своем лице теплоту ее полных белых рук.
Женщина ходила по комнате, собирая из холодильника и шкафчиков какие-то яркие цветные баночки, свертки, бутылки, рюмки, тарелочки, вилки… Все это она весело и щедро расставляла на столе, и стол на глазах оживал, превращаясь в красивую витрину со своей клеенкой, где на желтом фоне были разбросаны хризантемы.
– Вот не думала – не гадала, что вы будете сидеть в моей комнате, вот не думала – не мечтала, – радостно выговаривала она слова, глядя на Тарутина. Вообще, где бы она ни находилась, она старалась не спускать с Тарутина своих больших глаз. – Вы казались мне строгим-строгим. Честное слово, я вас боялась…
– Ну-ну. Не такая вы уж и робкая.
– Это кажется.
– И я только кажусь строгим.
– Не говорите. Мне через окошечко ларька все слышно. Шоферы вас уважают, а кто и боится. Говорят, вы человек строгий, неподкупный.
– А оказалось наоборот…
– Вы не строгий, вы умный. А чего сдуру кричать на всех, страх нагонять? У нас управляющий торга такой. Орет, бушует, увольняет. А толку? Весь торг лихорадит, люди дерганые, злые. А его-то как ненавидят все, все! Знают, что дурак, оттого и орет, чтобы дурь спрятать, работать-то он не может… И почему таких держат?
– Может быть и наоборот: тихий-тихий, а тоже дурак. Оттого и тихий – ума только и хватает, чтобы дурь не показывать, а?
– А вы не наговаривайте на себя! – Женщина повела в воздухе пальцем, и Тарутин между двумя колечками с каким-то камешком разглядел тонкое, обручальное.
– Вы что, замужем были?
– Нет. Это так. Для острастки – среди мужчин работаю, – засмеялась женщина. – Я слышала такой анекдот. Что значит, если женщина носит обручальное кольцо? Значит, она замужем. А если у женщины обычное колечко? Это ничего не значит! А если женщина носит обручальное и простое вместе? Тогда что?
Тарутин пожал плечами.
– Это значит, Андрей Алексаныч, что женщина замужем, но это ничего не значит, вот!
Тарутин засмеялся. И женщина смеялась широко, радостно, красные рукава халата задрались, обнажая белые руки до самых плеч…
– Хорошо мне с вами, – внезапно проговорил Тарутин.
Женщина притихла, точно споткнулась.
– И оставались бы. Я такие вам бы обеды готовила. С работы как угорелая летела бы, только бы вас увидеть поскорее. Все для вас бы делала, все, все… Что еще нужно человеку? Покой, забота. После службы вашей сумасшедшей… А там, глядишь, и привыкнете ко мне, я надоедать вам не стану. Я знаю, когда и на кухню уйти надо, переждать, когда помолчать… Нас знаете как в семье воспитывали, на строгостях. Я в деревне жила под Ставрополем, у нас строгости в семье были, от горцев влияние большое, у них, у горцев, в семье каждый свое место знает… Вот и оставались бы у меня. Квартира у нас спокойная, друг дружку уважаем. И телефон у нас есть, в коридоре…
– Вот! Это разговор, – смущенно улыбнулся Тарутин, он не ждал такого бурного объяснения и растерялся. – Телефон – это здорово, – пытался отшутиться он, а получилось серьезно. – На работу мне позвонить не мешает, я всегда ночью звоню. А у вас уже спят в квартире, неудобно…
Женщина выскочила в коридор и через мгновение внесла в комнату телефон. Длинный шнур волочился по полу. Она поставила аппарат на колени Тарутина и отошла, довольная и раскрасневшаяся.
– Нечем крыть! – Тарутин снял трубку и набрал номер. Ответил дежурный диспетчер Поляков. – Что там у нас, Поляков? Какие новости? Снег-то большой…
– Да, уже наломал дров снег этот, черт бы его взял, – невесело ответил дежурный.
– А что такое?
– Катастрофа на Северном шоссе. Водителя убило. Пассажиров не было. В бульдозер врезался из-за пьяного. Пятая колонна. И молодой парень. Чернышев Валерий… Вы меня слышите?
Голос диспетчера шуршал, точно таракан по бумаге, – то останавливался, то брел дальше… Тарутин отстранил трубку от уха.
Круглое лицо женщины стало оплывать, раздваиваться. Пухлые ее губы что-то произносили…
Тарутин переставил аппарат на стол и полез в карман за носовым платком…
2
Любительская фотография на белом чертежном листе, окаймленная широкой черной траурной полосой. Кажется, что Валера не успел спрятаться и выглядывает удивленный, взъерошенный, с тонкой шеей. Под фотографией слова: фамилия, имя, номер колонны и две даты.
Почти каждый, кто останавливается у листа, вычитает одну дату из другой.
– Двадцать лет прожил, – произносил каждый и, вздохнув, приближался к столику, за которым сидел дежурный со списком.
– По скольку собирают?
– Сколько не жалко, – отвечал дежурный. – Сам понимаешь, как в опере: сегодня ты, а завтра я. Колеса-то круглые.
– Это мы знаем, каждый день в оперу бегаем.
И водители доставали деньги – кто сколько, – протягивали дежурному. Тот записывал фамилию и ставил против нее птичку…
– Я тоже вчера, – слышится чей-то голос. – Въехал на деревянный мост, а мокрое дерево, сам знаешь, хуже льда. Вдруг передо мной резко стопорят. Я на тормоз. Меня разворачивает… Хорошо, сбоку никого не было.
Но мало кого интересует эта история – с кем не бывало, стоит ли рассказывать. Если все благополучно, считай, никакой истории не произошло, чепуха одна, эпизод. Другое дело, когда заканчивается ужасно, как у этого парня, которого мало кто и знал в колонне, не то что в парке.
Кассовый зал гудел сдержанно и печально. Так бывало обычно по вечерам, когда вернувшихся с линии встречал из угла белый лист бумаги с черной каймой. Движения людей в зале становились медлительнее, они не спешили покинуть парк после многочасовой гонки по городу – хотелось побыть среди товарищей, поговорить о чем-нибудь. Или сброситься и пойти куда-нибудь, выпить за помин души. В такие минуты приглушались взаимное недовольство, распри, суета, мелкие обиды. В такие минуты каждый чувствовал себя членом одной семьи.
Сергачев сегодня закончил работу в соответствии с графиком, без «прихватов», в ноль часов. Погода такая, что «прихватывать» лишние часы не было смысла, пустое времяпрепровождение – понедельник, холодно, снежно. Основной пассажир сидит дома, телевизор смотрит – утром Сергачев специально заглянул в программку: большой хоккей – мертвое время для серьезной работы. А по мелочам – себе дороже… И с планом было все в ажуре. В такую погоду план обычно «складывали» между пятью и семью вечера – люди спешили домой, а в непогоду транспорт по каким-то странным законам нарушал свой график, хотя улицы к вечеру приводили в нормальное состояние. Это с утра наметает снег, убирай – не уберешь… Правда, сегодня снег валил весь день, и этим можно было объяснить транспортные заторы. А заторы, они и для такси заторы, крылья пока технически не предусмотрены – сиди кури со скоростью ноль километров в час, пешком быстрее. Все тут зависит от мастерства водителя. Переулки, сквозные дворы, боковые улочки, порой и кусок тротуара, если нет вблизи ГАИ, – все может сработать на план, главное – не тушеваться и не ждать…
Так что свой план Сергачев выполнил с прицепом и был спокоен, как человек, хорошо закончивший рабочий день; это особое спокойствие – оно приятной теплотой наполняло тело, создавало хорошее настроение. Сергачев любил такое состояние…
Получив отметку ОТК, он въехал на территорию таксопарка.
Водители, не покидая машин, дожидались своей очереди на мойку. Каждый, не теряя времени, «подбивал бабки», и, освещенные тусклым потолочным плафоном, водители выглядели со стороны сказочными гномиками. Очередь выстроилась довольно длинная – машины были грязные, и мойщицы затрачивали больше времени.
Ждать не имело смысла – Сергачев занял очередь и, отогнав на всякий случай автомобиль в сторону, поспешил в кассовый зал сдавать выручку и документы. Надо торопиться, очередь пройдет, потом не докажешь. Он знал характер своих коллег: усталые от гонки, от тесного общения с пассажиром, от споров с ГАИ и службой безопасности движения, потратив на все это количество калорий куда большее, чем тратил шахтер еще в те времена, когда не существовало угольного комбайна, коллега этот – брат и товарищ, вряд ли с большой охотой признает его право на очередь, придется занимать сызнова. Так что надо поторапливаться…
Войдя в кассовый зал, Сергачев уже от двери приметил пустующую секцию на большом операционном столе. Пристроившись, он грудой вывалил из кармана деньги – мятые бумажки, тусклую мелочь, – привычно, для удобства, сдвинул их в сторону, достал ручку, путевой лист, выудил из стандартного кассового кошелька контрольный талон… И только сейчас его слух уловил сдержанный гомон большого зала, его медлительную, словно приторможенную суету. Он знал, чем обычно объяснялась такая обстановка, не в первый раз.








