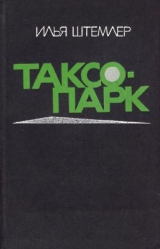
Текст книги "Таксопарк"
Автор книги: Илья Штемлер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
– Послушай, Валера. – Сергачев с удивлением обратил внимание на мягкость своего голоса. Это получилось непроизвольно. – Я вот что хочу сказать: помнишь ту историю в аэропорту? Мелочь, казалось… А я пытался было тебе преподать урок, ну, скажем, общих законов… Как бы тебе объяснить? Есть законы и законы. Одни написаны на бумаге и гарантируются государством. А есть еще и неписаные: мораль, чувство товарищества… Наконец, чувство стаи! Ты тогда попытался пойти против течения. Я же попытался тебя поправить. Клянусь – из чисто добрых побуждений. В конце концов, мне было плевать на ярцевскую «зарядку»… Ноты, Валера, замахнулся на неписаный закон стаи. Понял? И я своим советом пытался предотвратить куда более серьезные для тебя неприятности, чем тот скандал в аэропорту. А ты решил, что я вступаюсь за Ярцева? «Да гулять мне на его поминках», как говорил мой друг Яша Костенецкий… Ты, Валера, мне не поверил. Поднял хипиш. Побежал к начальнику колонны. А ведь это, друг мой, стая. Одна стая. Только Вохту за руку никто не схватил. Но ничего, придет и его час… Думаешь, тебя случайно тогда зацепили на заднем дворе? А ведь никто, кроме Вохты, не знал, что ты хочешь пойти жаловаться в дирекцию на порядочки в колонне… Так что смекай.
– Непонятно. Для чего это ему?
– Для мутной воды, Валера. Рыбку свою выуживать. Особый сорт – престижем называется. Он ради престижа отца родного не пожалеет… Если бы у нас было меньше благообразных мастеров мутить воду, мы с тобой о многом бы уже и забыли… Так я к чему веду этот разговор? Не сориентировался ты, Валера. Проявил себя как чистоплюй. И в этой истории с Танцором тоже. Права была Фаина. Она тетка хоть и глупая, но знает, что к чему, понял? А у тебя сразу не сработало… Конечно, каждый вариант предвидеть трудно, да есть один общий закон – все хотят лучше жить. А бутылка коньяка дороже, чем бутылка минеральной воды. Ты же об этом не подумал…
Валера усмехнулся и оглядел Сергачева.
– Подумал. Не такой уж я дурак. Видел я, что он ко мне цепляется. А Славку Садофьева, который «заряжал» у гостиницы, он вроде бы и не замечал. Не такой уж я и дурак, как вы считаете…
– Так что же?
– А то! Противно мне, ясно? И всегда будет противно! – Валера стукнул ладонью по столу. – И поучения ваши мне не нужны. Спасибо!
Валера взял с соседнего стула свою кепку, надвинул на рыжие брови.
– Если что мне и надо было сейчас услышать, так это каких-нибудь два-три слова. Что я был прав в той истории. Ради этого я тут перед вами распинался…
Валера вышел из помещения, задевая по дороге за углы столов.
3
Административная комиссия заседала в красном уголке.
В центре длинного стола расположился председатель месткома Дзюба, он сегодня вел заседание. Справа от него сидел водитель Григорьев Петр Кузьмич, временно исполняющий обязанности ушедшего в отпуск секретаря партбюро. Слева разложила бумаги Жанна Марковна Кораблева. Кроме них, на комиссии присутствовали Тарутин и начальники колонн, водители которых были вызваны на это заседание. Сидел здесь и Женя Пятницын, комсомольский секретарь.
Среди множества методов воспитания водительского состава парка административная комиссия обладала особыми полномочиями. По ее постановлению можно было предложить дирекции уволить сотрудника, перевести на другую работу, лишить новой техники, лишить премии…
Директорам такие комиссии были на руку. Если что их не устраивало, директор мог наложить свое вето. С другой стороны, директор всегда мог снять с себя ответственность, ссылаясь на решение комиссии. Этакая палочка-выручалочка в щекотливой ситуации.
Тарутин просматривал список водителей, вызванных на комиссию. Один из пятой колонны, трое из четвертой, трое из второй… Все вызванные уже томились в ожидании у входа в кабинет. Тарутина в основном интересовало дело Валерия Чернышева. Прежде чем поставить вопрос на комиссии, он пытался выяснить обстоятельства. Дважды вызывал к себе Чернышева. Но тот упрямо молчал, хмуро сдвинув рыжие брови. Или дерзил, требуя себе наказания в соответствии с инструкцией о провозе и хранении алкогольных напитков в такси. А также за оскорбление должностного лица – старшего линейного контролера Иванова. И скрепя сердце Тарутин передал дело на комиссию… Вообще с этим парнем Тарутина связывали какие-то сложные внутренние противоречия: с одной стороны, парень был обычным молодым таксистом, которых в парке сотни, а с другой… Черт знает! Какой-то ходячий укор совести. Появилось даже странное чувство зависимости от этого мальчишки, при встрече с которым Тарутин ощущал острое недовольство собой. И вместо того чтобы принять заявление Чернышева об уходе, Тарутин просит Вохту помочь парню. Вохту! Человека, которого Тарутин остерегался, которому не хотел быть обязанным…
– Начнем с Чернышева? – Тарутин наклонил голову, посматривая на пухленького Дзюбу. – Из пятой колонны.
Валера вошел в кабинет боком и остановился у двери, теребя в руках шапку. Волосы на его голове напоминали растрепанный подсолнух…
– Ближе подойдите! – строго приказала Кораблева. – Робкий-то какой. Небось водку возить не стеснялся.
– Коньяк! – деловито поправил Дзюба. – Импортный. Так записано в докладной Иванова.
Начальник первой колонны Сучков тихо спросил у Вохты:
– Это какого Иванова? Танцора?
Вохта кивнул.
– Когда же его выгонят, этого крохобора?
– Давно пора, – согласился Вохта и проговорил громко: – Товарищи, товарищи… Раньше надо выяснить все, а потом уже обвинять.
Дзюба недовольно приподнял брови.
– Мы пока не обвиняем, мы уточняем. – Он придвинул бумаги и, призвав членов комиссии к порядку, начал читать представление по делу. Важно, с паузами и с выражением. Оттого проступок Чернышева выглядел еще неприглядней. Но слушали его невнимательно. Вохта подписывал путевые листы. Сучков что-то помечал в записной книжке. Начальник третьей колонны Садовников снял с руки часы, открыл крышку и рассматривал механизм. Да и у остальных членов комиссии были скучающие лица. Одна Жанна Марковна слушала сосредоточенно, покусывая кончик дужки от очков, да Григорьев хмурил добродушное круглое лицо… Пятницын, уткнув подбородок в сжатые кулаки, исподлобья смотрел на Чернышева.
В деле писалось, что, оказывая сопротивление старшему контролеру Иванову при изъятии нестандартной бутылки алкогольного напитка иностранной марки – коньяка, – водитель Чернышев В. П. применил физическую силу. Кроме того, Чернышев В. П. в нарушение правил инструкции пытался использовать таксомотор не по назначению, на предмет чего вел, видимо, переговоры с гражданкой весьма легкомысленного вида, неоднократно задерживаемой за антиобщественные поступки органами милиции и дружинниками…
– Что значит «видимо, вел переговоры»? – спросил Сучков.
– Так написано, – пояснил Дзюба.
– Парень честный – видимо вел, а невидимо не вел. – Вохта все помечал путевые листы.
– Константин Николаевич! – одернула Кораблева.
– Что, Жанна Марковна? – невинно спросил Вохта. – Кто же заступится за моих мальчиков, если не я?
Кораблева, не скрывая усмешки, посмотрела на Вохту. Ох и хитрец… Положение Чернышева серьезное, ему нечем оправдаться. А завтра по всему парку разнесется слух, что Вохта горой стоял за своего водителя, нарушившего дисциплину по самым строгим пунктам.
Валера не вникал во фразы, которыми обменивалось начальство. Он с изумлением вслушивался в то, что читал Дзюба. Это ж надо так повернуть. И свидетельские подписи собрал…
– Что вы качаете головой, Чернышев? – спросила Кораблева. – Было так или не было?
Валера еще раз с возмущением повел головой, но промолчал.
– Чем занимаются ваши родители? – не успокаивалась Кораблева.
Валера, не отвечая, смотрел в окно.
– Вас спрашивают, Валерий Павлович. Расскажите о себе, – присоединился Дзюба.
Вохта поднял голову от путевых листов.
– Мать работает санитарным врачом. Отец – инженер. Брат есть, сестра… Сам же поступал в автодорожный институт, не поступил. И вся биография…
Вохта хранил в памяти все сведения о своих «ангелах». Это уже никого не удивляло… Лишь Валера вскинул свои длинные рыжие ресницы, но промолчал.
– Панькаемся с ними. На голову садятся, – раздраженно проговорила Кораблева. – Вроде и мальчик неплохой. А тоже туда, мастерить надумал. Ишь ты…
Валера резко обернулся, посмотрел пристально на Кораблеву.
– Знаете… я очень плохой мальчик. Дерзкий, невоспитанный. В десятом классе я посадил мышь в книгу и сунул учительнице по литературе…
Все члены комиссии разом подняли головы и уставились на Валеру.
– Как это сунул мышь в книгу? – подозрительно спросил Дзюба.
– А так. Вырезал внутри лунку, посадил туда мышь и прикрыл обложкой. «Баснями» Крылова.
Члены административной комиссии продолжали смотреть на Валеру.
– Вот что, парень. Давай по существу, – разозлился Дзюба.
– По существу? Так ведь вам неинтересно по существу. Каждый занят своим делом. Только что Жанна Марковна не вяжет.
– Как раз я слушаю вас внимательно, – оскорбилась Кораблева.
– А решается судьба человека, – дерзко отмахнулся Валера. – Зачем же мне расходовать это самое серое вещество в мозгах, доказывать вам, когда вам плевать на все это? Вас заинтересовала мышь в «Баснях» Крылова… И после этого вы думаете, что меня волнует решение, которое вы примете? На меня состряпали депо. И вы знаете, что этот… ну… у него часто бывают неприятности с шоферами… и что он не всегда прав… А вы, вместо того чтобы…
Дзюба шумно подтянул ноги под табурет. Он был взбешен.
– Ну хватит! Ты вот что… мальчишка! Ясно?
Маленький предместкома вскочил и прошелся по кабинету. Он раскинул пухлые руки, словно намеревался поймать убегающую курицу.
– Мальчишка! – повторил он гневно. – Не тот выбрал институт! Тебе надо было на юридический поступать. Оратор нашелся… Помолчи! – Он сделал еще несколько шагов, пытаясь овладеть собой. – Оскорбил уважаемых людей. Мышь придумал… Жанна Марковна тебе в матери годится, кроме того, что она чуткий, добрый человек… Дело на него, видите ли, состряпали! Может быть, это меня застукали в машине с коньяком?! Почему мы должны верить тебе, а не официальному лицу? В позу встал, понимаешь..
Валера смотрел в сторону. Мужество, с которым он держался несколько минут, оставило его. Ему хотелось одного – скорее уйти отсюда…
Дзюба взглянул на директора, не добавит ли тот чего-нибудь: одно дело он, председатель месткома, другое дело, если и директор скажет что-нибудь этому, нахальному, видимо, парню.
И все повернулись к директору.
– Продолжайте, Матвей Христофорович, – проговорил Тарутин. – Только… Товарищ Садовников, спрячьте свои часы, пожалуйста…
Начальник третьей колонны растерянно вскинул брови. Здоровая борцовская шея его покраснела.
– Да-да… Тут не слишком подходящее место для ремонта часов. И вы, Константин Николаевич, – продолжал Тарутин.
Вохта недовольно хмыкнул и прижал ладонью пачку неподписанных путевых листов. Остальные члены комиссии тревожно задвигались, пряча посторонние бумаги, оставляя газеты…
– Я понимаю, у вас много всяких забот, но тем не менее. – Тарутин обвел жестким и серьезным взглядом собравшихся. В близоруких глазах Кораблевой он заметил довольную искорку. – Продолжайте, Матвей Христофорович.
Дзюба, не скрывая досады, потер ладонью упругие щеки, сел и придвинул бумаги.
– Я думал, вы… по делу скажете, Андрей Александрович. – Он вздохнул и строго обернулся к Валере. – Кто ваш сменщик, Чернышев?
– По делу, Матвей, можно по-разному сказать, – не выдержала Кораблева.
Но Дзюба сделал вид, что не слышал.
– Кто ваш сменщик? – повторил он.
– Я… я его сменщик, – проговорил Григорьев, точно ученик.
В комнате раздался сдержанный смех.
– А что? – пожал мягкими плечами Григорьев. – Такое совпадение.
И вновь по комнате сквознячком потянулся смешок.
Григорьев Петр Кузьмич, шофер первого класса, был любимцем парка. Его знали все, хотя бы по берету, с которым дядя Петя не расставался ни летом, ни зимой. Так и говорили новичку: «Увидишь толстяка в берете, попроси – поможет, если будет надо. Его зовут дядя Петя, запомни». И дядя Петя помогал прослушать двигатель, написать толковое заявление в местком или уладить щекотливый вопрос, возникший между сменщиками.
– Что ж, дядя Петя, – проговорил Дзюба, но тотчас поправился: – Что, Петр Кузьмич, как работает ваш сменщик? Охарактеризуйте.
– Как работает? Хорошо работает. Претензий у меня к нему особых не было. Машину оставляет всегда исправной, с полным баком. В багажнике порядок, чистота. За давлением в колесах следит аккуратно.
– Для этой цели собственный манометр купил, – иронически вставил Валера.
Григорьев посмотрел на парня и произнес строго:
– Не забегай, слабые ножки еще.
Валера промолчал, дяде Пете он перечить не решался.
– Вот. А что касается существа вопроса, у меня есть что сказать… Когда я заступил на смену, обратил внимание на спиртной дух в салоне.
– За ночь не выветрился? – уточнил Дзюба.
– Как же! Выветрится тебе, – меланхолично проговорил Садовников, – если французский. У них не так чтобы градусом – духом берут. Дух крепкий у тех коньяков.
Григорьев одобрительно кивнул – мол, верно говорит «эксперт». Садовников гордо огляделся.
– Так вот, – продолжал Григорьев. – Я, конечно, тут же поехал к Валерию, к Чернышеву, значит, домой. Хорошо, матери дома не было… Не помню, что я тогда сказал…
– Повторить? – спросил Валера.
– Не стоит.
– А потом вы мне сказали, что я сукин сын. – Валера встряхнул рыжей головой. – Что вы мне готовы все ребра пересчитать и так далее.
– Может быть, не помню… – воскликнул Григорьев и обвел взглядом членов комиссии.
Многие понимающе закивали.
– Начал, значит, я его допрашивать. Тут он все и рассказал. Дескать, вез гражданина. У того померла супруга. И гражданин подарил Валерке бутылку…
– От радости, что ли? – усмехнулся Вохта.
Валера вскинул на Вохту глаза и презрительно ухмыльнулся. Демонстративно, по-мальчишески.
– Я уже слышал эту остроту. От Фаины-контролера. Это называется черный юмор, товарищ начальник колонны. Правда, откуда вам знать? Вы острите интуитивно.
Вохта в недоумении посмотрел на Валеру.
– Однако же, – проговорил он угрожающе. – Не знаю, черный это юмор или синий… Однако же…
По тишине, что возникла в комнате, было ясно, что ехидство Валеры принято сочувственно, к Вохте отношение было у многих недоброжелательное. И директор молчал…
В подобном, двойственном для себя положении Константин Николаевич Вохта давненько не бывал на людях. Самое благоразумное в этой ситуации сказать что-нибудь нейтральное. Вохта и собирался это сделать. Но его опередила Кораблева громким и задиристым тоном:
– Ну, Константин Николаевич… Серьезный разговор, а вы шутите. И так неудачно. Вы же не у себя в колонне!
Вохта привстал. Его крупное лицо напряглось. Он посмотрел на Кораблеву, потом перевел взгляд на Тарутина. Директор смотрел на Валеру Чернышева долгим печальным взглядом, словно в комнате, кроме них двоих, никого и не было… Вохта сунул путевые листы в широко оттопыренный карман пиджака и вышел из помещения.
Несколько секунд стояла неловкая тишина.
Кораблева, близоруко щурясь, рассматривала что-то в дужке своих очков. Дзюба вопросительно поглядывал на директора…
– Что же дальше случилось, Петр Кузьмич? – спокойно проговорил Тарутин.
Григорьев суетливо развел руками, ему тоже была неприятна эта история с Вохтой.
– Я, значит, решил разыскать того гражданина… Валера не помнил его фамилии. И адрес давать не соглашался. Не желал, чтобы тревожили человека. Понятное дело, у человека горе, а тут… Но заказ был сделан на вторую горбольницу. А моя супруга Стеша, как вам известно, работает на центральной диспетчерской. Она перетормошила все заявки и нашла заказ. И фамилию заказчика. – Григорьев достал из кармана листочек и прочел: – Не то Самарин, не то вроде Саперави…
– Саперави – это вино грузинское. Градусов двенадцать. Вода, – деловито вставил Садовников.
– Да я знаю. На диспетчерской так перевернут иной раз фамилию – запишешь в заказ одно, а приходит совсем другой человек. Стоишь, выясняешь…
Тарутин постучал карандашом по столу.
– Да-да… Так вот, Самарин… Словом, подъехал я к нему, хотел расписку взять. Понимаю, у человека горе, не до меня. Но ведь и тут дело-то серьезное. Выгонят, понимаешь, парня по статье. Стажа нет. Кто его возьмет на работу?! Звоню, значит, в дверь – никого. Потом соседка по площадке говорит: похоронил жену и уехал. Куда – неизвестно… Вот и вся история с географией, – вздохнул Григорьев. – Так что я предлагаю повременить пока с решением. Вернется гражданин Самарин или как его там… Мы все и уточним с бутылкой. Только почему Валера сам все это здесь не рассказал, не знаю. – Григорьев обернулся к Чернышеву. – Ты почему же, Валера, сам ничего комиссии не рассказываешь, а, Валера? – Григорьев пережидал, не спуская глаз с понуро стоявшего Чернышева. – Видно, не хочет он впутывать того гражданина. Конечно, у человека несчастье, а тут свару затеяли. Да, Валера?
Чернышев молчал, глядя в сторону. Под тонкой кожей горла толчками дергался кадык, в глазах стояли слезы…
Женя Пятницын отодвинул коленями табурет.
– Разрешите сказать! – Он поправил лежащий на стуле свой кепарь. – Я вот о чем. – Он сделал паузу, оглядел сидящих. – Хочу сказать руководству парка… Почему не верят нам, водителям? Почему нас постоянно унижают недоверием? Я мало знаком с Валерой, как-то еще не сблизились. Работа такая-то он на линии, то я. Друг друга на стоянках случайно прихватываем. Но все равно – нормальный человек сразу виден. Мы ведь не только пассажира научились видеть насквозь, но и друг друга… Убежден, что каждый из сидящих здесь знает, что Валера не виноват. А вот судим-рядим. Боимся от бумажки этой отступиться, совести поверить. Кто не знает Танцора? Сколько он крови портит нам, водителям. Так нет, всегда виноваты мы. Во всем! Оттого и злимся, скрываемся, в себя уходим. – Женя помолчал, взглянул на Тарутина, вздохнул. – Может быть, от меня как от комсомольского секретаря сейчас ждали других речей. Но мне не хотелось их произносить. Я хотел сказать о том, о чем мы думаем там, на линии. Или в парке. О чем говорим между собой… Вот что я хотел сказать… – Женя сел.
Тарутин посмотрел на Кораблеву.
– Как у него с планом? – хотя директор знал, что Чернышев «план возит».
– Вполне прилично, – ответила Кораблева. – Мальчик работает неплохо.
– И пусть продолжает работать. Это мое мнение. А что комиссия решит, не знаю, – высказался Тарутин.
– И я считаю: пусть работает, – проговорил со значением Григорьев.
Дзюба хотел что-то сказать, но смолчал. Он взглянул на круглое добродушное лицо Петра Кузьмича. Возможно, он вдруг осознал, что Григорьев присутствует на заседании комиссии как секретарь парторганизации. Пусть временно исполняющий обязанности, но секретарь. Ничего не скажешь, хороший человек «дядя Петя», но… не та рука, не та. Не Фомин! Тот бы вопрос не пустил на самотек. Самостоятельный мужик.
– Что ж, если директор и парторг решили. – Дзюба развел руками. – Пусть пока работает. До выяснения обстоятельств. – И, видимо, вспомнив, что, кроме него, еще и комиссии не мешает сказать свое слово, он окинул взглядом сидящих за столом. – А вы как, товарищи?
Тарутин встал и, сославшись на неотложные дела, ушел.
Снежинки острыми иглами кололи лоб, липли к глазам. Зима в этом году запаздывала, и это был первый серьезный снег. Косые заряды его проносились в цветных неоновых огнях реклам, в холодном свете витрин, стремительно садились на прохожих, словно простреливали их, оставляя мелкие светлые отверстия…
Тарутин зашел в магазин полуфабрикатов, купил два антрекота. Картошка дома была. Он любил жареную картошку с антрекотами и очень неплохо все это готовил – в глубокой сковороде, не жалея масла… Взяв пакет, он еще раз оглядел прилавок и вдруг в конце, у самой кассы, увидел Вохту.
Тарутин пригнулся, делая вид, что рассматривает выставленные под стеклом прилавка продукты. Но слишком уж заметна была в ярко освещенном зале высокая фигура. И назад не повернуть – отсечен металлическим штакетником. У него теперь было одно-единственное направление – к кассе, к явно поджидающему его Вохте…
– Добрый вечер, Андрей Александрович, – ласково проговорил Вохта, приветственно вывернув наружу ладонь в черной толстой перчатке. – Какими судьбами в нашем магазине?
– А… Константин Николаевич. – Тарутин сделал вид, что только сейчас увидел начальника колонны. – Да вот, проходил мимо, зашел… Вы что, неподалеку живете?
– В этом доме, в этом доме, – закивал Вохта. – Может, подниметесь? Пообедаем? А?
– Спасибо, спасибо… Гостей жду. Купил вот всякой всячины. – Тарутин чувствовал, что краснеет. И зачем он врет, отказался бы, и все. Нет, врет почему-то, оправдывается…
– А то посидели бы. Чайку бы выпили из рюмочек.
Тарутин с преувеличенным вниманием укладывал пакеты в портфель. Вохта терпеливо ждал. Тарутин щелкнул замком, выпрямился и протянул руку, прощаясь. Вохта поднял плетеную красную сумку и, подхватив Тарутина за локоть, направился к выходу из магазина…
Снежинки обрадовано засуетились у лица – заждались, заждались.
– Зима началась, Андрей Александрович. – Вохта отпустил Тарутина, загораживая ладонью лицо.
– Началась. Ну, я с вами прощаюсь, – решительно проговорил Тарутин и прикрыл лицо портфелем.
Вохта, ухватив за борт пальто и приподнявшись на носках, потянулся к Тарутину.
«Целоваться, что ли, надумал?» – мелькнуло в голове Тарутина. Он отпрянул назад и коснулся спиной стекла витрины.
– А я ждал вас сегодня в кабинете, – заторопился Вохта. – Час просидел.
– Совещание было. В управлении, – так же торопливо ответил Тарутин, сильнее надавливая на стекло.
– Ждал вас, ждал. – Вохта продолжал удерживать цепкими пальцами борт пальто. Тарутин свободной рукой попытался отодвинуть от себя Вохту, но тот стоял упрямо, точно старинный тяжелый шкаф. – Мне надо поговорить с вами, Андрей Александрович.
– Не здесь же, верно? Завтра. В парке.
– Нет. Сейчас. Раз встретились – судьба. Ко мне не хотите зайти, зайдем в подъезд. Там тепло, – торопливо продолжал Вохта.
«Нелепость, просто нелепость», – тоскливо думал Тарутин, следуя за Вохтой будто на буксире.
Тяжелая дверь подъезда, качнувшись несколько раз, замерла, отсекая теплый тяжелый воздух от суетливой студеной мельтешни. Обшарпанные почтовые ящики целились в Тарутина круглыми бельмами отверстий. Зеленые перила уводили куда-то в полутемную глубину потертые каменные ступеньки. Сверху падали глухие звуки молотка: что-то заколачивали на этаже…
– Понимаю, Андрей Александрович, тут не место. Но до завтра, боюсь, все расплещу, и являться в кабинет ваш не с чем будет, извините.
Тарутиным все больше овладевал гнев. Насколько же уверен в себе этот очкарик, полагая, что может сам выбирать место, где ему разговаривать с директором…
Вохта вскинул голову, придерживая на затылке овчинную шапку отставника. Капельки зрачков в толстых линзах, казалось, не имели отношения к его полному большому лицу.
– Вы, Андрей Александрович, не одернули эту Кораблеву. Значит, вы одобряете ее поведение, – продолжал Вохта. – И это не первый случай, заметьте. Меня, как вы понимаете, мало волнует отношение этой вздорной бабенки, если бы за этим не стояло другое…
На одном из почтовых ящиков Тарутин вдруг увидел бумажку с фамилией «Вохта К. Н.». Кто-то подрисовал черточку, и фамилию теперь можно прочесть как «Вахта»…
– Вы живете в этом подъезде? – Тарутин еще надеялся сбить с отставного майора его воинственный дух.
– Да! В этом. На пятом этаже! – с вызовом ответил Вохта. – Но разговаривать мы будем теперь здесь, раз начали.
Мимо прошмыгнула какая-то девочка, здороваясь на ходу. Вохта буркнул в ответ. Девочка выбежала из подъезда, впустив на мгновенье облака снежинок. Тарутин улыбнулся.
– Как-то я отдыхал в Болгарии. И туда приехала группа немецких ребятишек, аккуратненьких мальчиков в шортиках. Здоровались со всеми, вежливо так… Ну и как-то идет им навстречу один наш дядечка, чем-то на вас похожий. Оторвали его от дел – он был председателем колхоза где-то в Белоруссии, вручили путевку: отдыхай, мол, сил набирайся. А ему эта Варна – не Варна: пахать надо ему сейчас, сеять скоро, дел по горло. Идет хмурый, озабоченный… А тут один из немчиков этих ему навстречу: «Гут морген!» Тот вздрогнул от неожиданности, растерялся и брякнул: «Хенде хох!» И смутился, бедолага, до слез…
Вохта в недоумении смотрел на директора.
– К чему это вы?
– Да ни к чему. Вы так поздоровались с той девчушкой…
– С соседкой, что ли? – Вохта отступил на шаг и шутливо погрозил Тарутину пальцем. – Ох вы хитрец, Андрей Александрович, хитрец. Сбить меня хотите шуточками, на тормозах спустить? Ох хитрец… А вот я вашего председателя понимаю. Всю войну небось прошел. В огне горел и в воде тонул. Теперь работает, себя не жалеет. А тут всякие шалопаи в шортиках… – Вохта с вызовом смотрел на Тарутина.
– Бросьте, Константин Николаевич, какие там шуточки? – Тарутин чувствовал, что сейчас взорвется. – Вы в войну служили в отделе технического снабжения? Как тогда было с запчастями?
– По-разному, по-разному. – Вохта покачивал на согнутой руке набитую сумку. – Дело давнее. Забыл уже.
Тарутин смотрел в сторону, на панцирь почтовых ящиков.
– Почему вы уволились с девятой автобазы, Константин Николаевич? Все собираюсь вас спросить, извините. Ведь я поступил в парк позже вас, так что не все знаю о сотрудниках…
Вохта сунул руку в глубокий карман полушубка. Капельки зрачков в толстых бинокулярных линзах расширились, словно увидели нечто новое для себя, неожиданное…
– Не понял вас, Андрей Александрович.
– Я внимательно изучил ваше личное дело. – Тарутин повернулся и направился к утопленной в стене глубокой нише. Вохта последовал за ним. – И обратил внимание на три ваших увольнения. С девятой автобазы, из шестого гаража Спецтранса, из механизированной колонны Сельхозтехники… И везде по собственному желанию. Чем они вас не устраивали? Или вы их не устраивали?
Вохта снял очки. От этого его лицо теперь казалось сырым и расплывшимся.
– Они меня не устраивали! Крикуны и верхогляды. Мальчишки! – веско произнес Вохта и, помолчав, добавил: – Знакомились с моим личным делом? А для чего? В порядке общего надзора? Или составляете на меня новое личное дело?
– Не скрою. На вас поступают жалобы. От водителей и сотрудников…
– В чем же они заключаются? – перебил Вохта.
– Вы установили диктатуру в колонне.
– Я – начальник…
– Не перебивайте! Раз уж затащили меня в этот подъезд. – Тон Тарутина сейчас звучал совершенно иначе – зло, раздраженно. – Диктатура может быть разной. Надеюсь, вы меня понимаете. Я в курсе многих ваших дел. И мне хотелось, чтобы сами водители выдвинули против вас обвинения. Но, видимо, слишком глубоко проросли ваши щупальца… Извините, я хочу сейчас быть предельно точным…
– Вот вы к чему, – перебил Вохта. – Хотели, чтобы меня водители осудили? Не дождетесь! Потому как я для них отец родной. При ком они такой заработок везли? Они все у меня под крылышком, как в раю. «Архангел» Константин! Небось слышали… Я за всех отдуваюсь. Конечно, когда-никогда и приходится ловчить, выход искать… Дело делаю! А то болтать, извините, мы привыкли. Речи всякие произносим. Кинофильмы гладенькие про таксистов крутим. Друг дружку за нос водим и улыбаемся… А когда человек остается сам с собой наедине, за рулем таксомотора, скажем, вот где его нутро-то раскрывается! И справиться с этим особая хитрость нужна. И диктатура! Не так уж и плохо. Опыт есть, слава богу. Только забыли о нем. А я помню! И верю свято…
Вохта вытащил из кармана серый мятый платок, протер линзы и водрузил очки на нос. Словно прыгнул за стеклянную витрину. Приподнял сумку и не торопясь пошел к лестнице…
Внезапно у Тарутина мелькнула мысль, что Вохта специально подождал его – ему был нужен разговор не в кабинете, где беседа носила бы официальный характер, а именно здесь, мимолетно, в подъезде, где все оказалось скомканным и легким. А ведь Тарутин готовился к этому разговору. И теперь стоит, смотрит вслед уходящему Вохте, стоит неудовлетворенный и даже растерянный…
Вохта задержался на площадке, обернулся и проговорил громко, чтобы Тарутин хорошо расслышал:
– Я вам нужен, Андрей Александрович, вы это знаете! Чувствуете это! Иначе б давно прогнали… Не с Никиткой же Садовниковым вам работать, который за бутылку полпарка отдаст. Так что дело мое, Тарутин, верните в кадры, а то держите уже сколько. Кадровик беспокоится, – с нажимом проговорил Вохта. – А так-то спокойней вам будет, да и мне тоже… – Он замолчал, точно взвешивая про себя, продолжать разговор или достаточно. Вздохнул. – И еще! Вы Раиску Муртазову прижали к ногтю. Поделом, ничего не скажу. Зарвалась баба… Но совет дам, раз к слову пришлось, – осторожней улей ворошите. А то вся куча на вас поползет, завалит. Ведь и кроме Раиски, в парке всякого-разного. И люди крепко друг за дружку держатся… Вы вначале ядро сложите, оплот. Потом ворошить начинайте… И советов моих не чурайтесь, подумайте… Я честный человек, Тарутин! Правда, вокруг меня сплетен много. Ибо дело свое делаю на зависть всем… – Вохта спустился на несколько ступенек. Набычась, втянул голову в плечи и произнес четко и медленно: – Вы еще слишком молоды, директор. Чего-то придумываете, суетитесь… А той системе, что сложилась, суета ваша – самая большая беда. Только расшатаете все и опрокинете. И концов не сыщем. Народу всегда погорланить охота. Только к чему это приведет? К смуте и разрухе. Вспомните тогда о моей диктатуре, да будет поздно – расползется народ. И парк придется прикрыть, поверьте.
Вохта ушел.








