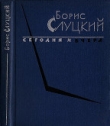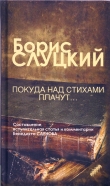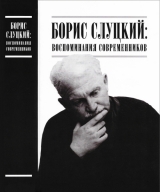
Текст книги "Борис Слуцкий: воспоминания современников"
Автор книги: Илья Эренбург
Соавторы: Бенедикт Сарнов,Евгений Евтушенко,Андрей Вознесенский,Александр Городницкий,Владимир Корнилов,Алексей Симонов,Давид Самойлов,Владимир Огнев,Григорий Бакланов,Семен Липкин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 37 страниц)
Таня была веселой, цветущей женщиной. Борис называл ее «образцом здорового человека» и добродушно продолжал: «Как всякий здоровый человек, она засыпает, когда я читаю ей стихи».
Он всегда хотел ее баловать. Как-то мы были у них вскоре после его приезда из Югославии. На тахте лежали горкой большие плитки шоколада. Увидев наше удивление, шутливо сказал: «Привез столько шоколада Тане, чтобы ей слаще было читать мои стихи».
И вдруг над этим так поздно обретенным счастьем нависла грозная опасность: Таня тяжело заболела. Диагноз был безжалостным, исход трагически неотвратимым. Лимфогранулематоз. Таня догадывалась, Борис знал. Трагедия подвергла жестокому испытанию как силу воли Тани, так и верность и любовь Бориса. Они оба выдержали этот экзамен. Борис окружил Таню еще большей лаской и вниманием, ни в чем она не знала отказа. Бессильный предотвратить конец, он делал все, чтобы продлить ее жизнь и уменьшить страдания – лучшие врачи и клиники Москвы, самые современные лекарства, лечение за границей, где ее оперировали. В феврале 1977 года Тани не стало.
На похоронах Борис был мужественно сдержан. Но что творилось в его душе? Чувствовал ли он, что прощается не только с любимой женщиной, но и с поэзией?
После смерти Слуцкого, когда я с его братом Ефимом и Юрой Болдыревым собирали в опустевшей квартире в Балтийском переулке бумаги Бориса для отправки в архив, мы нашли его последнюю записную книжку в простеньком синем переплете. В числе нескольких других реликвий семьи, Фима оставил мне и эту записную книжку. В ней оказались стихи, написанные в трагические дни февраля 1977 года. Думаю, что среди них наиболее значимыми для Бориса были стихи, посвященные покойной жене:
Кучка праха, горстка пепла,
Всыпанные в черепок.
Все оглохло и ослепло.
Обессилел, изнемог.
Непомерною расплатой,
за какой-то малый грех —
свет погасший, мир разъятый,
заносящий душу снег.
* * *
Не на кого оглядываться,
не перед кем стыдиться.
Вроде бы жить и радоваться.
Мне это не годится.
Мне свобода постыла
та, что бы ты не простила.
Мне не угодна воля
та, где тебя нет боле.
Никогда до этого он, поэт суровой военной темы, не писал таких пронзительных лирических стихов.
Стихи из «синей» книжки оказались последними его стихами. Через три месяца после смерти Тани, в мае того же года, Борис заболел и до самой своей кончины не написал ни строчки.
Смерть Тани оказалась последним и наиболее сильным ударом в череде ударов, нанесенных ему судьбой.
Неизбывная тяжесть лежала на душе Бориса еще с 1958 года.
Не молью побитая совесть,
а Пушкина твердая повесть
и Чехова честный рассказ,
меня удержали не раз.
А если я струсил и сдался,
а если пошел на обман,
я, значит, не крепко держался
за старый и добрый роман.
Что это строки признания и раскаяния – сомневаться не приходится. Убежден – это был первый сильный удар по его душевному покою.
1964 год нанес новый удар. Тяжело пережил Борис конец «оттепели». Октябрь 1964 года, который Борис рассматривал как государственный переворот и откат назад, обернулся для него не только крушением надежд. Он понимал, что жертва, принесенная им в 1958 году во имя «оттепели», оказалась напрасной.
Смерть жены окончательно надломила его. Он впал в глубокую депрессию, из которой врачам так и не удалось вывести его полностью. Лежал он в психосоматическом отделении 1-й Градской больницы. Лечивший Бориса заведующий отделением доктор Берлин любил и почитал поэта Слуцкого; ему удалось поместить Бориса в каком-то жалком закуточке при туалете и тем самым изолировать от кошмаров психосоматического отделения.
Когда к Борису приходили друзья-поэты (иногда вопреки его запрету), доктор Берлин присоединялся к ним и активно участвовал в общей беседе.
Я был в это время в Москве, в отпуске, и ежедневно посещал Бориса. Бывали у него Лена Ржевская и Изя Крамов; больше он никого не хотел видеть. Когда я простудился и не смог поехать в больницу, вместо меня поехала Ира. Как человек более организованный, чем я, она по живым следам записала свои впечатления. Ее записки[3]3
см. Ирина Рафес. Краткие воспоминания о сорокалетней дружбе. Настоящее издание. Примеч. – Петр Горелик.
[Закрыть] представляют картину первых месяцев болезни Слуцкого куда как лучше, чем я мог бы вспомнить по прошествии стольких лет.
Ко всем «фобиям», о которых вспоминает Ира, прибавилась новая – страх перед выходом из больницы.
При появлении признаков улучшения удалось убедить Бориса покинуть 1-ю Градскую. Некоторое время он жил дома. С ним был брат. Непродолжительные ремиссии сменялись новыми проявлениями депрессии. Сменил две больницы, вновь на короткое время возвращался домой. Мы стали думать о смене врачей, искали новые, современные лекарства – к этому подключились фронтовые товарищи Бориса. Все шло к тому, что больницы не избежать. Стараниями К. Симонова и генерала Цинева, фронтового начальника Слуцкого, Борис был помещен в Центральную клиническую больницу, «кремлевку». Я посетил там Бориса несколько раз. Условия здесь были отличные, но конечный медицинский результат тот же.
Лежали в отделении в основном люди пожилые, бывшие большие начальники. Некоторых Борису удалось разговорить. Он делил больных стариков на «отсажавших» (таких было больше) и «отсидевших». Однажды показал на двух мирно разговаривавших людей: «Вон на диване отсажавший рассказывает отсидевшему, за что его посадил».
Но бесконечное пребывание в клинике было невозможно, и после «кремлевки» Борис переехал в Тулу, к брату. Там, как и в Москве, мы с Ирой навещали его.
Самойлов, определивший болезнь Бориса как душевную, был прав: депрессия, парализовавшая его волю, оказалась бессильной перед его удивительной памятью и могучим интеллектом. В определенном смысле это был тот же Борис Слуцкий – он помнил многие подробности нашей харьковской жизни, которые давно улетучились из моей памяти, помнил друзей и знакомых, по-прежнему, вспоминая их, давал точные и острые характеристики, интересовался новостями, особенно политическими (правда, его ничем нельзя было особенно удивить), имел собственное представление о раскладах в высших эшелонах власти и свои оценки окололитературных интриг. Жаловался только на то, что не может писать. «Пытаюсь писать стихи, – сказал он как-то, – но строчка к строчке не подходит». На вопрос, читает ли, постоянно отвечал отрицательно. Но, думаю, что лукавил: его осведомленность свидетельствовала, что читает не только газеты (и не одну); хвалил только что прочитанную в журнале повесть Лены Ржевской.
За два года до смерти Тани и до болезни Бориса, осенью 1975 года, отдыхая в Подмосковье, недалеко от Александровки, где Слуцкие уже не первый год снимали покосившийся домик на берету Москвы-реки, я почти каждый день приезжал к Борису. С ним, а иногда и с Таней, мы бродили по окрестностям Архангельского. Никогда Борис не читал мне столько стихов, сколько в те дни. Однажды, когда я удивился, сколько написано за год, он сказал: «О чем ты! У меня в столе больше пятисот непечатных стихов». Даже я, привыкший к точности и взвешенности слов Бориса, посчитал это преувеличением. Но в действительности он сильно скромничал. После смерти Бориса мы узнали, что стихов было много больше.
Прошло уже около двадцати лет, как не стало Бориса. Теперь я вспоминаю и перечитываю его стихи. Покоя мне не дает одно: «Мои друзья не верили в меня. Мне – верили. В меня – нисколько».
Кто-то, кажется, Давид Самойлов, назвал эти стихи несправедливыми. Хотя я уверен, что эти строки скорее от настроения, чем от убежденности в таком к нему отношении друзей, какой-то холодок все равно сжимает сердце. Не внес ли и я свою лепту в это настроение?
Мне приходит на память один разговор с Борисом в самом начале пятидесятых. Шансов на публикацию его стихов тогда не было. Он не был мрачен, но и не скрывал, как это его угнетает. Не задумываясь над последствиями, я сказал Борису, что он, по складу характера и таланта, хорошо чувствует драматическую ситуацию, – так не попробовать ли ему себя в драматургии? По реакции я понял, что он расценил мой совет как проявление неверия в него как поэта. Я пытался загладить свой промах, но, думаю, какой-то осадок остался.
Горький ком подкатывет к горлу при воспоминании о последнем десятилетии жизни Бориса, отравленном болезнью. Еще больше, чем «Мои друзья не верили в меня…», мучают строки одиночества и тоски, нет-нет да встречающиеся в его стихах:
Хоть бы кошка пришла
потереться
о штанину мою
спиной…
Невольно чувствуешь себя в этом виноватым. Были ли мы, его друзья, достаточно внимательны к нему? Всегда ли мы были рядом? Или одиночество – необходимое поэту состояние, которое он сам создает, имея многочисленных единомышленников, почитателей и друзей? За эту мысль ухватываешься, как за соломинку оправдания.
Юлия Данкова. «Закаленным тоской и бедой укрепленным…»
Мы познакомились с Борисом Слуцким в 1937 году, когда мы стали студентами Московского юридического института и попали в одну группу. На курсе я считалась старшей – не по возрасту а по семейному положению: я была замужем и матерью маленькой дочурки. Однажды опоздавший на семинарское занятии Борис подошел ко мне, чтобы объяснить причину опоздания. Так завязалась наша дружба.
Борис выделялся среди наших студентов своей серьезностью и общим развитием. Жил он в общежитии в одной комнате с однокурсником Зейдой Фрейдиным. Одевался скромно, питался скудно. Жил на стипендию, вечерами подрабатывал, преподавая историю в школе для взрослых. Активно участвовал в работе институтского литкружка. На третьем курсе начал учиться параллельно в Литинституте Союза писателей.
В марте 1941 года в журнале «Октябрь» были впервые опубликованы стихи Бориса. Мы, студенты юридического института, очень гордились тем, что среди нас есть поэт.
В июне 1941 года мальчики нашего института ушли на фронт. Ушел на фронт и Борис, Воевал под Москвой, в Белоруссии, на Балканах.
Был ранен. После госпиталя вернулся на фронт. Был награжден боевыми орденами.
Осенью 1945 разыскал меня в Москве. Я работала тогда в Прокуратуре Союза, в отделе по надзору за местами заключения. Борис обратился ко мне с просьбой помочь разыскать его пропавшего без вести друга Михаила Кульчицкого. Я сделала все что могла. Ответ поступил быстро: «Поэт Кульчицкий в местах лишения свободы не числился».
После демобилизации в 1946 году Борис поселился в Москве. Это было трудное для него время. Прописался у родителей Зейды Фрейдина. Снимал углы, все еще «ходил» в молодых поэтах, не имел постоянного заработка. Это в 27 лет!
Широкая известность Слуцкому пришла после публикации в «Литературной газете» стихотворения «Памятник» и статьи Ильи Эренбурга.
В 1951 году я заболела и ушла на инвалидность. Мы часто встречались, ходили на выставки. Я призналась Борису, что не понимаю Пикассо. Он привел меня в музей на Кропоткинской и три часа объяснял «тайну треугольников и квадратов» Пикассо. Вместе ходили на выставку Коненкова. Борис никогда не смеялся над моим невежеством в области искусства, терпеливо объяснял мне то, чего я не понимала.
Во время наших прогулок часто читал свои стихи. Иногда мне становилось страшно за Бориса (и немного за себя). Однажды прочитал стихотворение «Бог» и рассказал историю его написания: как-то, идя Арбатом, он услышал шум приближавшихся машин и тут же почувствовал, как кто-то толкнул его в спину и прижал лицом к стене подворотни. Когда кортеж проехал, он увидел бывшего однокурсника Славу Пирятинского, работавшего в охране Сталина. Оказывается, всех, кто находился в этот час на пути кортежа, забирали и дальнейшая их судьба была неизвестна. Узнав Бориса, Слава спас его от этой участи[4]4
Автор воспоминаний, описывая этот эпизод, сильно сгустила краски. Даже при том размахе террора, который был характерен для конца 40-х и начала 50-х годов, память не фиксирует даже слухов о поголовном аресте всех, оказавшихся на Арбате в момент проезда кортежа Сталина. – Примеч. сост.
[Закрыть].
Сталин был еще жив, когда Борис прочитал мне «Хозяина». Я спросила: «Ты не боишься читать мне эти стихи?» Он ответил: «Нет, не боюсь. Но если завтра я тебе не позвоню, ты поймешь причину». Он все время ждал, что его арестуют.
Как-то я зашла к Борису днем, он снимал тогда комнату в Сытинском переулке. У него сидели двое юношей. Он меня представил. Один из них был Евгений Евтушенко, второго я не запомнила. Когда ребята ушли, Борис, сказал мне: «Тот, что повыше, – Женя Евтушенко, надежда российской поэзии».
Борис был человеком добрым, но не терпел угодничества и протекционизма. Сокурсники считали его за это гордецом. Он очень избирательно давал рекомендации, многим отказывал и нажил себе немало врагов.
Однажды и мне пришлось испить эту же горькую чашу. Я как-то попросила помочь племяннице и приобщить ее к переводческой работе. Она не могла устроиться на работу после окончания института иностранных языков. Борис дал ей на пробу перевести рассказ Дж. Лондона. Племянница вернулась от Бориса вся в слезах и долго ничего не рассказывала. Мне Борис сказал, что языком она владеет, но дара переводчика у нее нет. Если ей нужны деньги, то он может ей помочь, но от такой помощи она отказалась.
Меня удивляло его отношение к критике. Однажды я позвонила ему и с ужасом сообщила о том, что его сильно ругают в газетах, Борис рассмеялся: чем больше будут ругать, тем больше поклонников его поэзии у него будет.
Борис жил очень скромно, одевался строго, питался по-холостяцки. Видя неустроенность Бориса я спрашивала его, почему он не женится? Борис отвечал, что не сможет обеспечить семью материально, а уподобиться тем, кто сочиняет репризы для цирка ради «хлеба насущного», он себе позволить не может.
Хотя у него своей крыши над головой не было, он помогал друзьям в поисках жилья. Я помогла ему устроить семью критика Огнева в квартире сестры. По просьбе Бориса мы подыскали жилье для писателя-эмигранта из Германии.
Шло время. Борис получил квартиру, женился. Наша дружба возобновилась, но на совсем невеселой основе. Тяжелее заболела Таня, заболел и мой муж. Мы с Борисом помогали друг другу доставать лекарства. Борис с Таней жили очень замкнуто. Когда умерла мать Тани, они выменяли две комнаты на отдельную квартиру. Обмен был неудачным. Но все же они были довольны.
В феврале 1977 года Таня умерла. Он впал в глубокую депрессию. Лежал в больнице. Только однажды разрешил навестить его. Лежал он в маленькой палате, худой, изможденный. Я пришла, мы расцеловались. Он расспрашивал меня о моей жизни, помнил всех моих близких. Я поздравила с выходом его «Избранного». Он мне сказал: «В этой книге не все так, как я хотел… Я не могу работать, значит, я не должен жить». Все что я ему принесла, все велел унести. Я стала прощаться и невольно заплакала. Он поцеловал меня и прошептал: «За всю свою жизнь я один раз совершил сделку с совестью. Это меня мучит, я не могу работать, и поэтому я не должен жить». Медсестра вывела меня, и больше я Бориса не видела.
Прав ли был Слуцкий когда писал: «Грехи прощают за стихи. Грехи большие – за большие», я не знаю, но его мольба, обращенная к потомку: «Ударь, но не забудь, убей, но не забудь» пронзает предсмертным мужеством самоосуждения.
Олеся Кульчицкая. Он был другом моего брата
Борис Слуцкий… Помню его шестнадцатилетним, еще до войны. Он часто приходил к нам, к брату. Держался спокойно, с достоинством. Другие ребята запросто, иногда шумно, проходили прямо в комнату к Мише. Борис же задерживался, обязательно здоровался с домашними. Наш отец, Валентин Михайлович, если бывал дома, любил беседовать с Борисом – не столько беседовал, сколько задавал ему вопросы, а потом заинтересованно выслушивал все, что тот отвечал. Миша, посмеиваясь, приобняв Бориса за плечи, старался поскорее увести друга к себе. Ребят у Миши бывало много, но приходу Бориса он особенно радовался. В семье хорошо относились к их дружбе.
Я была гораздо младше Миши, но не чувствовала особой разницы в годах – он был свой, домашний. Борис же выглядел ужасно взрослым и серьезным. Мне казалось, что он смотрел на меня как на несмышленую девчушку… Ощущение это осталось навсегда.
После окончания школы Борис уехал в Москву, поступил на юридический факультет. Мой отец – юрист по профессии – одобрял выбор Бориса и не раз принимался убеждать Мишу в том, что нет более интересной профессии, что нигде человек не приобретает столь широкого кругозора и подлинного знания жизни, как на юридическом факультете. Они спорили, и как-то Миша сказал:
– Понимаешь, папа, он – Поэт… Поэт – и юристом никогда не будет!
Так я узнала, что бывают, оказывается, и живые поэты, а строгий Борис – один из них… Михаил же поступил на литературный факультет Харьковского университета, но после второго курса уехал в Москву.
Не без влияния Бориса, как полагали мои родители.
* * *
Война… Черное время оккупации Харькова. И самым страшным было то, что мы ничего не знали о судьбе Миши, Бориса и других ребят. Особенно тяжко это было для мамы. Страшнее голода и холода… Отца замучили в гестапо, и родные и близкие погибли. Немцы выселили жителей нескольких улиц, чтобы очистить зону вокруг железнодорожной станции Левада. Пришлось и нам покинуть дом, в котором семья прожила полвека.
После долгих мытарств, вдвоем с мамой, мы оказались в малопригодной для жилья комнате, с окнами, забитыми фанерой, обвалившимся потолком. Отопления не было, и, чтобы хоть немного согреться, приходилось натягивать на себя всю одежонку, что была. Так жили мы до освобождения Харькова, но и после наш быт оставался почти таким же.
Уже в самом конце войны, в один из сумрачных промозглых дней, раздался стук в дверь. На вопрос «Кто там?» мы услышали четкий ответ: «Майор Слуцкий!» На пороге стоял стройный, перетянутый блестящими офицерскими ремнями, очень красивый Борис. Первым движением было – броситься к нему… но в ушах звучит официальное «майор Слуцкий», значит, надо соблюдать дистанцию… Стало обидно, обидно до слез.
Борис вошел, поздоровался, огляделся. Мама обрадовалась: жив! Но после первых восклицаний, обмена вопросами обо всех близких и друзьях (разговор шел в основном между мамой и Борисом, а я стояла, разглядывая его) Борис, задрав голову и уставившись на наш дырявый потолок, начал рассказывать о том, какая мебель в Германии и Румынии, какие интерьеры квартир. Во мне все кипело, и было стыдно за наш «интерьер», за тряпки, в которые мы кутались, за все неустройство наше… Зачем этот разговор о какой-то дурацкой мебели! Когда Борис ушел, я фыркала и возмущалась.
Где мне, девчонке, было понять его чувства. Он явился к нам, бывшим в оккупации, а значит, по тем временам, запятнанным. Не было никаких вестей о Мише, и Борис говорил с матерью, возможно, погибшего друга, вдовой Валентина Михайловича, замученного в застенке. Все это оглушило его. Ну, а вместо маленькой девочки перед ним оказалась взрослая хорохорившаяся девица.
Борис по натуре был скромен, даже застенчив. Как бы защищаясь, он надевал на себя броню сдержанности и сухости, почти высокомерия. Наверное, от смущения говорил не то, что хотел сказать. Я тогда и представить не могла, что он и вовсе в ту пору не имел крыши над головой и был житейски неустроен совсем.
В последующие годы в каждый свой приезд в Харьков к родным Борис непременно навещал нас и семью осужденного за «космополитизм» Льва Лившица (позднее реабилитированного). Стоит ли говорить, чем были чреваты для Бориса эти посещения, но он не изменял себе. Верность дружбе, преданность, благородство – этими, ныне все более редкими, чертами характера щедро наградила его природа.
Как ни странно, но я всегда ощущала какое-то внутреннее сходство между Борисом и моим отцом – Валентином Михайловичем. Та же сдержанность, лаконичность, доброжелательная серьезность, логичность суждений. Даже что-то в выражении глаз Бориса напоминало мне отца. Уж не знаю, что играло здесь роль, но похожесть была. Миша же – сын – был человеком совсем другого склада. И всех троих – отца, Михаила и Бориса, – таких разных в своих судьбах, связывало общее: одержимость делом, чистота помыслов, честность во всем и патриотизм – настоящий, а не словоблудие на эту тему.
К людям Борис предъявлял высокие требования. Ему было свойственно категорическое неприятие низких поступков, моральной распущенности. Оправдания отвергались, Борис просто прекращал всякие отношения, и восстановить их уже было нельзя.
Особенно это касалось личных отношений. Любовь бывает только однажды, считал Борис. Иное он просто отметал… Бывая у нас в Харькове, Борис с некоторых пор перестал упоминать о нашей общей знакомой. Моя мама стала расспрашивать, не случилось ли чего с нею. Борис помолчал, подумал и как-то нехотя сказал, что с ней все в порядке, более того, она время от времени выходит замуж. Как выяснилось, из-за этого он и перестал поддерживать с ней отношения. Знакомая настойчиво звонила, писала, просила друзей замолвить за нее слово, полагая, что произошло досадное недоразумение. Все было тщетно, отношения наладить не удалось. Как-то, когда мы с мамой возвращались в Харьков, эта знакомая провожала нас на Курском вокзале. Борис тоже пришел проститься, но, увидев ее в нашем купе, буквально потемнел лицом и пулей вылетел из вагона. Я бросилась за ним, что-то говорила, пыталась наладить их отношения, но он резко сказал, что не хочет видеть ее и уж тем более общаться с нею. Наскоро попрощавшись, он ушел, не дожидаясь отправления поезда.
* * *
Уже не помню, по какому поводу я зашла к Борису. Дело было в конце 40-х или в самом начале 50-х, в Москве. Борис снимал комнату у вдовы художника в районе Неглинной. В комнате висело много картин, стояли они и у стен. Борис уважительно показал на них – вот, мол, сколько человеком наработано… Перед этим посещением я долго раздумывала – удобно ли идти… Но как он обрадовался! Засуетился, снял шлепанцы, зачем-то стал надевать туфли… Заволновался, чем угостить меня, откуда-то извлек бутылку, всю в пестрых наклейках. Сказал:
– Закусить нечем, ну да это французский коньяк. А пить мы будем за Мишу.
Я пытаюсь отказаться, но не мне спорить с Борисом. Первый раз в жизни я ощущаю вкус огненной жидкости, таращу глаза от ужаса и надолго закашливаюсь.
Борис печально и негромко говорит:
– С Мишей бы выпили… Он оценил бы…
Отдышавшись, смущенная, что не оправдала, так сказать, надежд, собираюсь уходить. Борис протягивает билет.
– Вот, возьмите…
Я ахнула – во МХАТ! Чтобы попасть в этот театр, люди ночами стояли в очереди.
– А вы, Борис?
– Сегодня я занят, пойти не могу…
* * *
Возвращаясь из Коктебеля в Москву, Борис сделал остановку в Харькове и, как всегда неожиданно, явился к нам. Стал рассказывать о своем посещении вдовы Максимилиана Волошина.
Надо сказать, что в присутствии Бориса до меня не всегда сразу доходил смысл сказанного им. Из-за этого на его вопросы я отвечала не так, как нужно, и очень потом переживала.
– Ведь он еще и великолепный художник! – говорит Борис, посматривая на меня, и спрашивает:
– Вы ведь знаете такого поэта Максимилиана Волошина?
Я эдак лихо отвечаю: нет, мол, понятия не имею. Мама с изумлением смотрит на меня: ведь стихи Волошина стоят в книжном шкафу среди других книг брата, читаные-перечитаные.
– Нехорошо. Такого поэта надо знать, – тускнеет Борис. Поправляться; исправлять сказанное поздно…
* * *
В один из моих приездов в Москву Борис сообщил мне, что нам предстоит принять участие в радиопередаче, посвященной памяти Михаила Кульчицкого. Подробно разъяснил, как проехать до радиостудии, где сделать пересадки, предупредил, чтобы ни в коем случае не опаздывала. В тот день он был очень занят, и встреча на радио была «в окне» между другими делами. Благополучно добравшись, увидела Бориса, вышагивающего неподалеку от входа и поглядывающего на часы. Но я была точна, как английская королева!
Нас радушно встретил чудесный Константин Ибряев. Вместе с Борисом они принялись меня усаживать, успокаивать. Я же совершенно не волновалась, так как здесь мне было не в диковинку: постоянно приходилось участвовать в концертах на харьковском радио, где очень редко записывали на пленку, а обычно все шло прямо в эфир. И я спокойно ожидала, когда в студию войдет диктор.
Слуцкий же с Ибряевым так заботливо и настойчиво уговаривали меня не волноваться, что в конце концов мне действительно стало не по себе. Потом Ибряев отвел Бориса в сторонку и коротко о чем-то переговорил. Сказал: «Вы тут пока побеседуйте, а я скоро вернусь и объясню, как и что» – и мгновенно исчез. Борис сел рядом:
– Давайте условимся, о чем будем говорить. Я начну задавать вопросы, а вы отвечайте так, будто нас уже слушают.
Наша репетиция длилась довольно долго. Отвечала я весьма скупо, приберегая главное, о чем хотела сказать, для передачи, и все удивлялась, почему так долго не начинают.
Наконец появился сияющий Ибряев.
– Записали. Спасибо, все хорошо!
Я очень расстроилась: ну почему не предупредили о записи!
– Это чтобы не волновалась, – сказал Борис. – Зато сейчас мы поедем в такси – я обещал!
Вышли на улицу, а такси нет как нет. Мимо проскакивают занятые машины. Борис занервничал. Я стала умолять его: метро же рядом, поедем, вы же опаздываете, ведь такси есть и в Харькове. Борис отошел от меня, долго семафорил, пока не поймал машину и не отвез меня домой… Если не ошибаюсь, это было в 1968 году.
* * *
Снова возвращаюсь к такому, уже далекому послевоенному времени.
Мы с мамой приехали в Москву в надежде выхлопотать ей пенсию. Денег у нас не было, покупок никаких не предвиделось, и был у нас на двоих небольшой чемодан. Перед самым отъездом, не знаю, серьезно или в шутку, Борис спросил: много ли отрезов накупили? Тут спохватилась мама:
– Может быть, нужно что-нибудь передать в Харьков, ведь мы налегке?
Борис на минуту задумался и сказал, что и в самом деле, если нас не затруднит, то он передаст книги своим родителям. И действительно притащил на вокзал два изящно упакованных тючка, перевязанных шпагатом. На прощание сказал, что если станет скучно в поезде, то книги можно читать.
Мне не хотелось трогать аккуратную упаковку, и я решила, что когда буду передавать книги матери Бориса Александре Абрамовне, то попрошу у нее почитать.
На харьковском вокзале мне нужно было срочно позвонить на работу. Оставив маму с вещами, я пошла искать телефон. А когда вернулась, застала ее вконец растерянной: едва я отлучилась, к ней подошли три дюжих парня, схватили тючки с книгами и были таковы. Старенький наш чемодан их не прельстил.
Вот когда я пожалела, что не воспользовалась разрешением Бориса и не просмотрела книги в поезде! Знала бы, что там, попыталась бы достать, восстановить…
Иду к милой Александре Абрамовне с повинной, прошу узнать у Бориса, что за книги были в тючках. А она с улыбкой успокаивает меня:
– Это все чепуха. А вот прошлым летом было куда похуже. Боб был в Харькове (она всегда называла его – Боб), отправился за город на пляж в Лозовеньки. Полез купаться, а тем временем у него брюки украли. Красивые, дорогие. Как домой добираться? Спасибо, какой-то шофер одолжил свои рабочие штаны, все в масляных пятнах, огромные. Когда Боб появился в них поздно вечером, я глазам своим не поверила… Мы посмеялись, но мне от этого легче не стало. В письме к Пете Горелику, товарищу Бориса, я попросила его потихоньку выведать, какие книги были переданы в Харьков. Но этот «предатель» письмо мое отдал Борису. Тот отмахнулся и сказал, что все ерунда, да и ничего ценного там не было.
Так и осталась я навеки его должницей.
* * *
Начиная с конца войны, с тех самых пор, как Борис Слуцкий восстановил с нами связь, он приложил неимоверно много усилий, чтобы хоть что-нибудь узнать о судьбе Михаила Кульчицкого. Активно включился в поиски, писал и справлялся во всех инстанциях, где это только было возможно и невозможно, помогал нам советом и делом. Он необыкновенно много сделал для того, чтобы поэзия Михаила Кульчицкого не оказалась в забвении. Наверное, не было в Москве редакции, куда бы Слуцкий не предлагал в те годы никому не известные стихи Кульчицкого. Есть об этом у Слуцкого пронзительные стихи – это «Просьбы».
Нам с мамой тогда казалось, что Борис больше заботится о судьбе стихов Михаила, чем о собственных…
После войны Борис часто болел, сказывалось перенесенное на фронте. Помню, как-то он спросил, помогает ли мне валидол. Я что-то ответила.
– А мне уже нет… – грустно сказал он.
Смерть его, безвременная, прозвучала дальним эхом войны.
* * *
Однажды в Харькове, во время концерта на летней площадке Дома культуры «Металлист», меня неожиданно вызвали за кулисы. Это был Борис. Я удивилась: как меня нашел? «По афише», – улыбнулся он. Дождался окончания концерта, а потом мы бродили по летнему Харькову. Слуцкий читал свои стихи…
В фильме «Сквозь время», по неясным причинам так и не вышедшем на экраны страны, Борис Слуцкий читает стихи своего друга Михаила Кульчицкого. Есть пластинка, она называется «Реквием и Победа», на ней записаны стихи поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной. Она навеки сохранила голос Бориса, произносящего «Слово о друге» и читающего стихи Кульчицкого.
Поднявшим голову, устремившим взгляд вдаль, весомо произносившим каждое слово – таким запомнился мне Борис Слуцкий, поэт и очень дорогой мне человек.[5]5
Эти воспоминания написаны по просьбе сестры поэта М. Слуцкой и его друга П. Горелика.
[Закрыть]