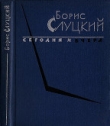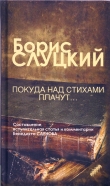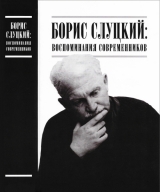
Текст книги "Борис Слуцкий: воспоминания современников"
Автор книги: Илья Эренбург
Соавторы: Бенедикт Сарнов,Евгений Евтушенко,Андрей Вознесенский,Александр Городницкий,Владимир Корнилов,Алексей Симонов,Давид Самойлов,Владимир Огнев,Григорий Бакланов,Семен Липкин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 37 страниц)
Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Началось обострение пансинусита – противной болезни, подхваченной на фронте. Первые признаки дали о себе знать вскоре после войны. В январском письме (1946 года) Борис писал мне: «…болел довольно долго. По ходу болезни у меня были головные боли, которые четыре недели мешали мне писать. Впрочем, читать они мне не вполне мешали… Сейчас это почти проходит». В феврале снова о болезни, но уже более тревожно: «Зиму проболел (пансинусит со многими осложнениями). Болею и сейчас. Честно пытаюсь вылечиться, тем более, что ничего серьезного делать не могу уже два месяца, даже читать. При первой возможности (хорошие врачи) буду оперироваться». В письме, адресованном мне, Дезику и Изе, написанном в апреле уже из госпиталя, Борис, оправдывая свое молчание, писал: «Не отвечал я потому, что с декабря и до сих пор болен – все тот же пансинусит, но дошедший до того, что у меня нет возможности не только писать что-либо (даже письма), но и соображать как следует». Госпитальная комиссия признала его негодным к службе, и летом 1946 года он приехал в Харьков. У меня был каникулярный отпуск, и я на несколько дней поехал встретиться с другом. Эти дни мы не разлучались с Борисом – виделись со школьными товарищами, не без пользы рылись в книжных развалах, где еще можно было найти много интересного среди недосожженных в холодные зимы оккупации книг, часами бродили по переулкам нашей юности, разрушенным и обгоревшим, но сохранившим для нас очарование прошлого.
Внешне Борис сильно изменился по сравнению с тем, каким он запомнился в первый его приезд в Москву. Хотя он все еще ходил в кителе при регалиях, это был уже не тот бравый офицер, который приезжал осенью 45-го года. Незаметна была гвардейская молодцеватость, чувствовалась усталость, давали знать о себе головные боли, бессонница. Я уже был подготовлен к тому, что он болеет, его письмами из армии; в них он не столько жаловался, сколько оправдывал болезненным состоянием нерегулярность ответов на письма друзей. Тревогой за его здоровье были проникнуты и письма Александры Абрамовны, матери Бориса (некоторое время Борис подолгу не писал родным, и она обращалась ко мне, рассчитывая на мою большую осведомленность).
Возвратившись в Москву, Борис прошел комиссию и получил инвалидность.
Состояние его ухудшалось. Избавить от болезни могла только операция.
Оперировал Бориса известный московский ларинголог профессор Бакштейн. Ухаживать за сыном приехала Александра Абрамовна. Операция была тяжелая, связанная с трепанацией; в надбровной части лба долго оставался след, со временем прикрытый бровью. Но операция оставила не только зримый след, к сожалению, она не избавила от головных болей и бессонницы.
Два года, оставшиеся мне до окончания академии, в определенном смысле сравнимы с годами начала нашей дружбы в Харькове. Мы часто виделись. Много бродили по Москве. Как и в первый свой приезд, он запросто бывал у нас дома. Нередко приходил с друзьями-поэтами, назначал им встречи в нашей квартире. Очень был дружен с Ирой и Наташей; у него сложились хорошие отношения с их родителями да и со всеми соседями в нашей квартире. Все ценили его юмор и прощали то, что другим, может быть, и не сошло бы с рук. Он, например, имел обыкновение передавать привет часто бывавшему в доме Ириному и Наташиному другу детских лет Карлуше и любимому квартирному коту Кузе, как сказали бы сейчас, в «одном флаконе». Звучало это так: «Привет Кузьке и Карлушке!» Ему прощали. Не обижался даже Карлушка.
Наша семья чувствовала Бориса своим, и он это ценил. Месяц, который Борис прожил у нас, пока я был на стажировке за границей, был временем очень интенсивных встреч поэтов в нашей квартире, которая на этот период стала своеобразным штабом молодой поэзии. И вместе с тем – временем еще большего укрепления отношений между Борисом и семьей Ириных родителей; отношения эти сохранились и после того, как мы с Ирой уехали из Москвы.
Всякий раз, когда я бывал наездами в Москве, Борис брал меня с собой на малодоступные для многих москвичей вечера, вернисажи, просмотры. Многие из них остались в памяти просто как непременные атрибуты моих московских командировок; некоторые глубоко врезались в память не только своей уникальностью, но, скорее всего, потому, что обнаруживали или подтверждали какие-то черты характера самого Бориса.
Особенно запомнились дни осени 1956 года, когда в Москве отмечали семидесятилетие Пикассо. Выставка картин великого художника XX века даже для Москвы, переживавшей первые месяцы хрущевской весны, была событием незаурядным.
На ступенях Пушкинского музея Борис получил два билета на открытие выставки от Эренбурга, и мы вместе с Ильей Григорьевичем вошли. Открытию просмотра предшествовала краткая официальная часть на верхней площадке парадной лестницы. Мы с Борисом оказались рядом с импровизированной трибуной. За нами до самого входа и далеко на улице плотно стояли люди, ожидавшие осмотра. Но вот убрали трибуну, разрезали ленточку и людей запустили внутрь.
Вначале все шло, как и полагается в подобных случаях, была возможность задерживаться у той или иной картины. Но вскоре зал стал заполняться все больше и больше, нас с Борисом стали теснить; мы в темпе прошли несколько залов, не имея возможности даже мельком взглянуть на картины. Толпа все прибывала. Наконец мы оказались в последнем зале левого крыла музея, прижатыми к глухой стене и к висевшим на ней картинам. Дышать становилось все труднее. Мне вспомнилась в этот момент тесная рубка бронепоезда – такая же духота, такая же стесненность движений и прижатость к броне. Потом пронзило уже литературное воспоминание о Ходынке, и я почувствовал, как холодеют конечности. Все это продолжалось какой-то миг.
Я посмотрел на Бориса. Насколько было возможно в тех условиях, он работал локтями, пробираясь к Эренбургу. Лицо его стало красным от напряжения. Продвигаясь, Борис громко кричал, чтобы прекратили впуск. Я присоединился к нему, и нам удалось вместе с несколькими людьми образовать небольшое полукольцо вокруг Эренбурга. Крик наш был услышан, и постепенно начался отток людей. Не знаю, предшествовала ли решимости Бориса предотвратить опасность, грозившую Эренбургу, минутная слабость, которую испытал я сам, но в тот момент, когда я взглянул на него, он был деловит и только покрасневшее и напряженное лицо выдавало его волнение.
В другой мой приезд Борис повел меня в ЦДЛ на просмотр французского фильма о Пикассо.
В те дни Борис снимал комнату в районе Кропоткинской, и мы из ЦДЛ пошли к нему пешком. Время приближалось к полуночи. Недалеко от Волхонки к нам подошел сравнительно молодой человек и мирно попросил закурить. Мы оба некурящие и, естественно, ничем помочь ему не могли. Человек отошел от нас, но тут же возвратился и таким же мирным тоном, обращаясь ко мне (я был в форме), говорит: «Полковник, если на улице будут предлагать золото, никогда не покупай. Оно дутое». Сказал и отошел. Мы еще не успели осмыслить услышанного, как он снова приблизился к нам. На этот раз вежливости как не бывало, он был грозен. Со словами «на фронте вы нас посылали под пулеметы, а сейчас отказываете в папиросе» он набросился на нас с кулаками. Драка не успела разгореться – наш «противник» оказался в железных объятиях милицейского старшины, охранявшего музей и наблюдавшего сцену со ступеней музея. Втроем мы оказались в ближайшем к Музею участке. Личность драчуна быстро установили: он был известен милиции как «золотушник». Милиционер, увидев на лбу Бориса глубокую царапину, попросил подписать протокол о «нанесении телесного повреждения». «Этого будет достаточно, чтобы выдворить хулигана из Москвы», – сказал он, но Борис отказался подписывать, ссылаясь на то, что царапина давняя. Пожалел человечка. Пожалел и себя – не хотелось ему фигурировать в криминальной хронике, даже в качестве потерпевшего, тем более, что после статьи Эренбурга в «Литературной газете» его начали печатать и имя его было на слуху.
Я вновь забежал вперед. Но это все зигзаги памяти, которым я бессилен противиться. Возвращаюсь к осени 1946 года.
Приезд Бориса Слуцкого после более чем пятилетнего перерыва, несомненно, стал событием поэтической жизни столицы. У меня сохранилась написанная Дезиком шуточная «Ода на приезд бывшего гвардии майора и кавалера отечественных и иностранных орденов Слуцкого Бориса Абрамовича в столицу из Харькова». Отдав должное «воплям и стонам» харьковских поэтов и красавиц-харьковчанок по поводу быстрого убытия Бориса в столицу, Самойлов писал:
… А здесь ликующий Долгин,
М. Львовский, Ксюша и Глазков —
Столпы ямбических вершин,
Освобождаясь от оков —
Кричат подобьем голосов,
Что ты «подрос и крепок стал,
Как синий камень скал»
(Как Пеца некогда сказал).
(Из известного стихотворения П. Горелика «Пираты»)
Уже с восторга обалдел
Весь детский радиоотдел…
Приди сюда на этот крик!
Ждем указаний мы, пииты:
Привет тебе, «Старик
Слегка на пенсии, подагрой чуть разбитый».
(Из стихотворения Слуцкого «Генерал Миаха…»)
При всей шуточности «Оды» она содержит несколько неоспоримо серьезных утверждений: и то, что Слуцкого заждалась московская официально непризнанная поэзия в лице ее лучших представителей; и то, что «поэты ждут указаний» от него; и, наконец, признание его высокого авторитета «мэтра», признание его неформального лидерства на основании довоенных заслуг, так как ни одного нового, написанного в войну или после войны стихотворения Слуцкого известно не было.
В те первые послевоенные годы, когда мы часто и близко общались, «делание стихов» как-то не выходило наружу, было скрыто даже от близких. Хотя именно в то время были написаны стихи, составившие первую книгу «Память» и принесшие автору широкую известность. На виду было другое: поэтическая деятельность, собирание сил молодой поэзии, возвращение имен павших на войне поэтов. Одним словом «комиссарство», как окрестил кто-то из друзей (а может быть, и недругов) активность Бориса. И отдавался он этому со всей страстью и неутомимостью.
Вплоть до середины пятидесятых Борис вел жизнь скитальца по углам и комнатам в разных концах Москвы.
Источником существования Слуцкого была военная пенсия плюс кое-какие фронтовые накопления и довольно скромный приработок на радио, где он делал композиции для детских передач.
Стихи не кормили – Слуцкого не печатали. Жил скромно, питался всухомятку (периодически ездил в Харьков «подкормиться на домашних харчах»). Зато не отказывал себе в посещении театров и приобретении книг да в баню ходил только в «„высший“, десятирублевый разряд», где по приемлемым ценам гладили костюм и стирали белье, что, по его словам, «составляло немалую экономию». Книг покупал много и со знанием дела.
Потом уже пошли переводы, главным образом из славянских поэтов. Переводы кормили сытнее. Работа на радио и переводы были необходимостью, отвлекавшей от главного дела.
Несмотря на скромный достаток, Борис всегда был готов помочь товарищам, а нередко и малознакомым людям. Вопрос «не нужны ли тебе деньги?» был таким же постоянным, как в свое время вопрос «что вы читали за последние три месяца?» при приеме в комсомол. Способность чувствовать затруднительное положение друзей и готовность прийти на помощь были в нем очень развиты.
Вспоминая Бориса, не могу обойти вниманием его интерес к художникам, к живописи и скульптуре: он познакомил и меня с Юрием Васильевым, Вадимом Сидуром, Владимиром Лемпортом, Николаем Силисом, Олегом Целковым, Дмитрием Краснопевцевым. Эти яркие индивидуальности объединяла официальная непризнанность.
Нередко наши прогулки по Москве заканчивались в чьей-нибудь мастерской. Чаще всего мы бывали на Комсомольском проспекте в тесном подвале – мастерской скульпторов Сидура, Лемпорта и Силиса. Может быть, мне она казалась непроходимо тесной из-за того, что была сплошь заставлена работами.
Как мог помогал художникам. Однажды мы пошли с Борисом к Краснопевцеву смотреть его натюрморты. Борис предупредил меня о тяжелом положении художника, и мы оба приобрели у него по картине.
В почтении, с которым относился Борис к моему тестю, человеку замечательному во многих отношениях, немало значила художественная натура Павла Михайловича. Бориса особенно подкупало равно серьезное отношение Павла Михайловича к основному делу его жизни – биологической науке – и к художественной фотографии. Борис познакомил тестя со скульпторами с Комсомольского проспекта, где тот сделал несколько интересных фотографий, в том числе знаменитую «Чужую тень», побывавшую на многих известных выставках. Кстати, к лучшим работам Павла Михайловича относятся портреты самого Бориса. Здесь сказался не только вкус и мастерство, но и понимание крупной личности «объекта». Успех можно объяснить и тем, что Павел Михайлович находился в несравненно более выгодном положении, чем другие снимавшие Слуцкого – он мог фотографировать Бориса в непринужденной обстановке домашнего общения «зеркалкой», что почти соответствовало фотографированию скрытой камерой.
XX съезд партии и все, что последовало за ним, Слуцкий воспринял с энтузиазмом. И не потому, что доклад Хрущева повлиял на его оценку Сталина. Отношение к Сталину прошло у Слуцкого сложный путь от «признания значения, понимания его поступков» через стремление «понять, объяснить, оправдать» до полного «непонимания». Еще до доклада Хрущева были известны стихи «Бог» и «Хозяин».
Борис пустил в оборот словечко «дебюстизация», которым он окрестил кампанию по уничтожению памятников и портретов вождя. Энтузиазм я могу объяснить тем, что Слуцкий не только надеялся на коренной поворот к лучшему, но и верил, что такой поворот произошел. Более того, верил в его необратимость.
При мне Борис и Дезик неоднократно спорили на эти темы. Самойлов считал XX съезд и последовавшее за ним известное постановление ЦК 1956 года высшей точкой «синусоиды», допускал возможность нисходящих и новых восходящих ветвей развития. Слуцкий настаивал на том, что теперь развитие пойдет по «прямой» вверх. Я в своих оценках колебался между мнениями своих друзей: хотелось, чтобы все сложилось «по Слуцкому», но не верилось «по-самойловски». Есть ли необходимость говорить, что жизнь подтвердила правоту Самойлова и заблуждение Бориса? Не это ли объясняет (но не оправдывает) мотивы, приведшие Бориса Слуцкого на трибуну печально известного собрания московской писательской организации, подвергшего избиению Бориса Пастернака? Не хочется воскрешать эту печальную страницу в биографии моего друга, но из песни слова не выкинешь.
Прежде чем передать запомнившееся мне объяснение самого Бориса, должен со всей определенностью сказать: Слуцкий не тот человек, который мог пойти на это по каким-либо конъюнктурным соображениям. Вся его жизнь, вся его поэзия тому подтверждение!
Думаю, нет необходимости объяснять, как я отнесся к антипастернаковской кампании и как меня потрясла причастность к ней Слуцкого. Я жил в то время в Ленинграде. Узнал обо всем из газет.
Не скрою, первая реакция не соответствовала моему окончательному отношению. Для меня всегда так много значило мнение Бориса, я знал его отношение к Пастернаку-поэту и не мог представить себе, что он способен выступить против Пастернака. Потом был ошеломлен, подавлен и ощутил всю глубину трагедии Бориса.
Один-единственный раз говорили мы с ним об этом. Да и другие его друзья старались не напоминать ему, понимая, как он сам трагически переживает случившееся. Не напоминали не сговариваясь.
Наш разговор состоялся, когда мы впервые после случившегося встретились в Москве. Я рискнул спросить Бориса о его выступлении. Не помню точно своего вопроса. В нем не было одобрительного подтекста, но и не начинался он со слов «Как ты мог?..»
Борис не оправдывался, ссылался на сильный нажим, на вызов в ЦК. Он был, что называется, прижат к стенке положением секретаря парторганизации поэтической секции московской писательской организации. Положение обязывало. Ему оставалось, по его собственному выражению, «выступить как можно менее неприлично». Разговор он закончил прямо и однозначно: «Отказавшись, я должен был положить партийный билет. После XX съезда я этого не хотел и не мог сделать». Я понял его слова как выражение поддержки «оттепели». Больше к этой теме мы никогда не возвращались.
С появлением стенографического отчета этого позорного собрания можно сравнить выступление Слуцкого с другими выступлениями и убедиться, как удалось Борису реализовать свой замысел.
Почти все выступавшие солидаризировались с Семичастным, тогдашним председателем КГБ, назвавшим Пастернака «свиньей, которая гадит там, где ест». Приведу несколько примеров:
С. С. Смирнов (основной докладчик и председательствующий): «Меня не очень волнует во всем этом деле судьба самого Пастернака. Я, когда закрыл книгу [„Доктор Живаго“. – П. Г.], как-то невольно согласился с словами товарища Семичастного… Может быть, это были несколько грубоватые слова и сравнения со свинством, но по существу это действительно так… Мне особенно понравилась та часть выступления т. Семичастного, когда он говорил о том, что надо превратить из эмигранта внутреннего в эмигранта полноценного… пусть он и фактически будет находиться в антисоветском лагере…»
Л. Ошанин: «Если этот человек не желает жить с нашим народом, если он не хочет работать на коммунизм, не понимая, что это единственное, что есть в мире, что может спасти человечество от того пути, на который его толкает империализм, если человек последние годы находил время возиться с боженькой, если этот человек держит все время нож, который все-таки всадил нам в спину, то не надо нам такого человека, такого члена ССП, не надо нам такого советского гражданина!»
К. Зелинский: «Я совершенно согласен с тем, что мы должны сказать этому человеку, который перестал быть советским гражданином: „Иди и получай свои 30 серебреников! Ты нам сегодня здесь не нужен…“».
В. Перцов: «Тов. Семичастный прав… Я не могу себе представить, что у меня [в писательском поселке. – П. Г.] останется такое соседство. Пусть он туда уезжает, чтобы не попал в предстоящую перепись населения».
А. Безыменский: «Пастернак внутренний эмигрант, и пусть бы он действительно стал эмигрантом и отправился в свой капиталистический рай… Этот его уход от нашей среды освежил бы воздух».
А. Софронов: «…я слышал речь Семичастного о Пастернаке. У нас двух мнений по поводу Пастернака быть не может. Не хотел быть советским человеком, советским писателем – вон из нашей страны!»
Выступление С. С. Смирнова заняло одиннадцать страниц отчета, выступления других писателей от двух до пяти страниц. В 42-страничном отчете выступление Бориса Слуцкого заняло 18 строк(!). Приведу его полностью.
Борис Слуцкий: «Поэт обязан добиваться признания у своего народа, а не у его врагов. Поэт должен искать славы на родной земле, а не у заморского дяди. Господа шведские академики знают о Советской земле только то, что там произошла ненавистная им Полтавская битва и еще более ненавистная им Октябрьская революция (в зале шум). Что им наша литература?! В год смерти Льва Николаевича Толстого Нобелевская премия присуждалась десятый раз. Десять раз подряд шведские академики не заметили гения автора „Анны Карениной“. Такова справедливость и такова компетентность шведских литературных судей! Вот у кого Пастернак принимает награду и вот у кого он ищет поддержки!
Все, что делаем мы, писатели самых разных направлений, прямо и откровенно направлено на торжество идей коммунизма во всем мире. Лауреат Нобелевской премии этого года почти официально именуется лауреатом Нобелевской премии против коммунизма. Стыдно носить такое звание человеку, выросшему на нашей земле».
Борис, единственный из выступавших, не вспомнил о Семичастном и его отвратительном сравнении; в его словах не было и намека на требование изгнать Пастернака из страны и из Союза писателей, не было никаких отрицательных высказываний о художественных достоинствах поэзии Бориса Пастернака. А что «поэт должен искать признания на родной земле, а не у заморского дяди», так это соответствовало глубокому убеждению Слуцкого. Ему самому никогда не приходило в голову напечатать за границей свою «деловую прозу» или сотни своих стихов, не имевших шанса быть напечатанными на родине, хотя там нашлось бы немало желающих. Думаю, что резко отрицательное отношение Бориса к публикациям за границей было одной из тех щелочек, сквозь которую удалось убедить его выступить.
Все последующие годы я видел, какая тяжесть легла на его душу. Трагедию сталинщины он переживал как трагедию народную. Причастность к «пастернаковской» истории – как свою личную трагедию.
…Где-то струсил. И этот случай,
как его там ни назови,
солью самой злой, колючей
оседает в моей крови.
Солит мысли мои, поступки,
вместе, рядом ест и пьет,
и подрагивает, и постукивает,
и покоя мне не дает.
Вспоминаю слова, написанные Борисом на придуманном им заглавном листе моих будущих мемуаров: «Я рос под непосредственным идейным влиянием Б. А. Слуцкого». Эти слова были написаны в шуточной обстановке, но это было правдой. Я часто над ними задумывался, думаю и сейчас. В чем именно выражалось это влияние? За более чем полувековую дружбу мы были рядом не так много времени: всего семь школьных лет. Потом он в Москве, я в Одессе и в Западной Украине – три года. Предвоенный год снова вместе в Москве. Война разлучила нас почти на пять лет. Два года, пока я учился в академии и год в адъюнктуре, мы были рядом в Москве. А после окончания академии – многие годы моей службы в Калинине и Ленинграде.
Не знаю, почему я прибегнул к арифметике. Дружба, как одна из вершин человеческого общения, подчиняется более сложным законам. Здесь уместно сравнение с законами всемирного тяготения, действующими незримо и неотвратимо. Были ли мы рядом или вдали друг от друга, наша дружба не ослабевала, незримые нити единомыслия, сопереживания и верности прочно связывали нас. Перерывы в общении не способны были ослабить нашу духовную близость.
И все же я уверен, что решающими в смысле «его на меня идейного влияния» оказались школьные годы. Если уместно такое сравнение, Борис оказался стрелочником. Он вовремя перевел меня с накатанного школой и комсомолом пути, нивелировавшего личность, открыв передо мной иной мир. «Стрелочным переводом» оказалась поэзия. Образно говоря, Борис превратил меня из «читателя газет, глотателя корост» (М. Цветаева) в «читателя стиха» (И. Сельвинский). Первоначального толчка хватило на всю оставшуюся жизнь. Новые друзья, знакомством с которыми я тоже обязан Борису, поддерживали и помогали мне держаться на этом пути.
Конечно, влияние не ограничивалось поэзией. Оно было всеохватным. Как в поэзии я шел от восторга к осмыслению, так и в жизни я стремился от первого впечатления прийти к сути.
О том, что составляло «лирический элемент личности» (А. И. Герцен) Бориса писать нелегко. Эту сторону жизни он тщательно скрывал от стороннего взгляда. Отсюда и довольно устойчиво бытовавшее в послевоенные годы несправедливое представление об отсутствии «лирического элемента», о его «робости и непосягательстве» (Д. Самойлов).
Робость и непосягательство характерны и для Бориса-юноши. При всем том, что Борис скрывал свои привязанности, в юности даже такие цельные натуры не могут обойтись без «доверенного лица». От меня Борис не скрывал своего сильного чувства к нашей соученице по параллельному классу. Только после войны, уже через много лет, Борис признался в этом публично. В очерке «Знакомство с О. М. Бриком» Борис писал: «Осенью 1937 года я поступил в МЮИ – Московский юридический институт. Из трех букв его названия меня интересовала только первая. В Москву ехала девушка, которую я тайно любил весь девятый класс. Меня не слишком интересовало, чему учиться, важно было жить в Москве, не слишком далеко от этой самой Н.»
Теперь можно назвать имя девушки. Ее звали Надя Мирза. Это была милая скромная девушка, с красивым умным лицом, интуитивно чувствовавшая интерес к себе со стороны Бориса и также тайно переживавшая свои чувства к нему. Она и не подозревала, что ей были посвящены его первые стихи. Их отношения держались на флюидах, чувства были скрытые, стихи сентиментальные. Борис читал их мне и не скрывал, что стыдится их. В последующем сделал все, чтобы забыть эти стихи. Того же требовал и от меня. Запомнилось лишь несколько строчек:
Закрыть письмо и мякишем заклеить,
Закрыть конверт и плакать до утра.
Или
……………………………..гроб дубовый
И выстелю зеленым шелком дно.
Надя и мне запомнилась в зеленом платье – девушки во времена нашей юности редко имели больше одного выходного платья.
Они оба, и Надя и Борис, из Москвы ушли на фронт. Наши фронтовые адреса, мой и Бориса, Наде сообщила школьная подруга. Мне Надя писала: «Я часто вспоминаю Бориса… Надеюсь, возможно и зря, что удастся завязать переписку с Борисом. Мне этого хочется. Хочется потому, что с Борисом связаны хорошие воспоминания о прошлом. А оно дорого мне… Ведь мы почти встречались с ним…» Это почти говорит о многом.
Вскоре Борис писал мне: «Получил письмо от Нади. Написал ей большое письмо – соответственно хорошим воспоминаниям, которые у меня сохранились. Всю молодость вспомянул. Она на Волховском фронте с начала войны». Их переписка, насколько мне известно, продолжения не имела.
Сразу после войны, пока Борис оставался в армии, а я уже учился в Москве, он давал мне поручения, казавшиеся матримониальными. Все они касались одной девушки, но позже оказалось, что она замужем. Так я узнал о существовании в жизни Бориса Вики Левитиной. Как и где они познакомились, для меня осталось неизвестным. Но поручения свидетельствовали о романтичных отношениях: передать флакон «Коти», присланный через однополчанина, передать книгу П. Арапова «Летопись русского театра» (как писал Борис, «довольно глупую книгу»), помочь ее сестре Тамаре устроиться в театр (Борис сильно преувеличивал возможности моих театральных знакомств).
Отношения их продолжались и в 1947 году. Каковы были подлинные отношения Бориса и Вики и почему они вскоре оборвались, осталось неизвестным.
Потом ходили слухи о других увлечениях. Сам Борис об этом не говорил и болезненно реагировал на такого рода вопросы. Так продолжалось до 1957 года, когда Борис познакомил друзей со своей женой Таней Дашковской. Брак еще не мог быть в то время оформлен: Тане предстоял развод с первым мужем. Период ухаживания за будущей женой Борис от нас скрыл.
Время до женитьбы было для Бориса временем социальной непристроенности, скитаний по углам и зависимости от квартирных хозяев, отсутствия постоянных заработков. Женитьба совпала с наступлением стабильности и появлением достатка. В 1956 году он получил первую в своей жизни комнату на проспекте Вернадского, в одной квартире с Григорием Баклановым. Помню, как мы вместе с Борисом пошли покупать шесть стульев. В 1957 году Бориса приняли в Союз писателей, начали печатать, появились деньги. «Прыгнул из царства необходимости в царство свободы», – цитировал Борис Маркса.
Мы в то время жили уже в Ленинграде. Приезжая в Москву и бывая у них, видели, как менялась жизнь Бориса. Таня создавала свой дом. Это чувствовалось и на проспекте Вернадского и особенно в отдельной квартире во 2-м Балтийском переулке, куда они переехали после обмена. Во всем были видны вкус и рука современной женщины и хорошей хозяйки. В доме чувствовался достаток. Они хорошо питались и очень любили вкусно и необычно угощать. Борис был ухожен, но не разрешал никакой модной одежды для себя и в этом был непреклонен. На стенах появились картины современных художников.
Но дом не стал светским салоном, как того хотелось Тане: там бывали лишь духовно близкие Борису люди. Мне довелось чаще других встречать у них Юрия Трифонова, Владимира Корнилова, Бориса Рунина, конечно, бывали и другие. Борис познакомил меня с Василием Гроссманом (еще до переезда в Балтийский переулок), с Леонидом Мартыновым, с художниками Ю. Васильевым и Дм. Краснопевцевым. Эти люди были интересны и Тане. Но все же это были люди по выбору Бориса – его друзья и единомышленники. К нам с Ирой она относилась по-доброму, но такими близкими, как с Борисом, наши отношения не стали.
Борис дорожил своей независимостью, возможностью уединиться. Даже к посещению школьных товарищей относился избирательно. Все в квартире было во власти Тани, кроме кабинета Бориса, где царил поэтический хаос – книги, рукописи, толстые амбарные книги, куда Борис набело записывал стихи, «запасник» приобретенных картин.
Борису нравилось, как вела дом Таня, он ценил устойчивый быт и не желал перемен. Не любил «гадюшника» – ЦДЛ с его ресторанно-купеческим духом и бывал там только по делу. Не любил и писательские дома творчества с их шумом, суетой, непременными застольями.
Несмотря на стремление Тани переехать из ведомственного (железнодорожного) флигеля в престижный писательский дом в центре, он ничего не предпринимал, хотя мог осуществить ее желание без большого труда и не поступаясь принципами. Опасался, что это приведет к общению с более широким кругом писательских семей и нарушит его, в известном смысле, замкнутый образ жизни. Все это требовало уступок от Тани; она шла на это осознанно, понимая Бориса-поэта.
Наблюдая их жизнь в нечастые приезды из Ленинграда, я видел, что Борис счастлив. Хотя признаний с его стороны не было – такими чувствами делятся только в юности. Зная Бориса ближе, чем Таню, я надеялся, что для нее не осталось незамеченным большое нерастраченное чувство любви и доброты. Я верил, что и она ответила столь же искренним и глубоким чувством. Так ли это было на самом деле? Мне хотелось этого, Борис был этого достоин.
В их приезд к нам в Ленинград в 1958 году мы видели, какой любовью и вниманием окружил Борис свою молодую жену, как он был к ней чуток. Они смотрелись красивой парой. Таня, стройная, ростом под стать Борису, дорого и со вкусом одетая, кареглазая, с большой копной волос, и рядом Борис, в меру плотный, с пшеничными усами и умными голубыми глазами.
Они приехали, когда наша дочка, тоже Таня, пошла в первый класс. Борис и Таня были с ней дружественно ласковы. Борис называл ее «Зайцекролик» и «чемпион по поведению». 1-го сентября они устроили для Танюши праздник: встретили ее из школы цветами и дорогим подарком. Обедали в «Европейской». Танюша, впервые побывавшая в ресторане, вспоминала об обеде в «европейской столовой», где подавали мороженое «с огнем».
В первые годы Таня продолжала работать (она была дипломированный химик). Борис этим гордился. Вместе с тем он не препятствовал ее сближению с обществом жен известных и модных поэтов, где Таня могла реализовать свои светские амбиции.