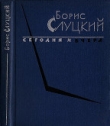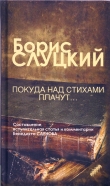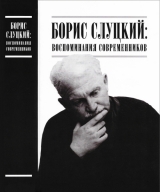
Текст книги "Борис Слуцкий: воспоминания современников"
Автор книги: Илья Эренбург
Соавторы: Бенедикт Сарнов,Евгений Евтушенко,Андрей Вознесенский,Александр Городницкий,Владимир Корнилов,Алексей Симонов,Давид Самойлов,Владимир Огнев,Григорий Бакланов,Семен Липкин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 37 страниц)
Константин Рудницкий. Друг, с которым мы недоспорили
Не могу сказать, что Борис Слуцкий был театралом. Когда мы познакомились (произошло это ровно сорок лет назад), к театру он относился прохладно, бывал в театрах редко. Все же помню его в фойе МХАТ, в антракте. Шла пьеса Георгия Березко «Мужество», Н. Боголюбов играл генерала Муравьева умно, сильно. Борис промолвил:
– Да, наверное, он хорошо играет. Только я на какой-то другой войне побывал и таких генералов что-то не видывал.
Стихи Слуцкого тогда еще не печатались, и он охотно читал друзьям свои сочинения. Но их вызывающая простота, их шершавая угловатость приводили нас в оторопь.
Когда он отрывисто, сухо декламировал: «Имею рану и справку, // Талоны на три обеда, // Мешок, а в мешке литровку…» или «Ордена теперь никто не носит, // Планки носят только дураки, // Носят так, как будто что-то просят…» – мне казалось, что все это чересчур прямо, «в лоб» сказано. Слишком наивно, не для печати. Что-то вроде домашней самодеятельности. Рад бы, но нет, не могу похвалиться, будто сразу понял, что судьба свела меня с большим поэтом. Удачливый, бойкий рецензент, который печатался вовсю (вспоминать стыдно, перечесть страшно!), я тогда относился к Борису чуть покровительственно: хороший парень, свой брат фронтовик, досадно только, что неудачник. Иные его строки волновали, западали в душу, поражали подобной выстрелу меткостью формулы («Но все остается – как было, как было – каша с вами, а души с нами»). И все же отделаться от ощущения, что эти стихи какие-то «не такие», не настоящие, мы (говорю не только о себе, но и обо всех наших тогдашних общих приятелях и приятельницах) не могли. Уж очень они были не похожи ни на те «настоящие», которые публиковались, но душу не затрагивали, ни на те, которые мы любили – блоковские, есенинские, ахматовские.
А Слуцкий был упрям. Он знай писал свое, невозможное для печати, знай читал нам саднящие стихи и требовательно спрашивал: «Ну как?».
И редкие похвалы, и нередкие претензии выслушивал очень внимательно, с каменным лицом. Однажды кто-то из нас откровенно сказал: «Грубовато…» Он твердо возразил: «Так и надо».
В нашей компании говорили всё больше о театре. Слуцкий иногда, как бы нехотя, вмешивался в эти разговоры. (Вообще он был тогда молчалив.) Мы возмущались Софроновым, восхищались Арбузовым, особенно пьесой «Годы странствий». Слуцкий по этому поводу изрек: «Придумано мило. Но насквозь придумано».
Как я понял, в детстве и в ранней юности, до войны, он очень даже любил театр. Упоминал о Курбасе – я тогда имени этого не слыхивал. Упоминал о Мейерхольде. Если не ошибаюсь, в Харькове в начале тридцатых, мальчишкой, он бывал на гастролях ГОСТИМа. Но мы-то не особенно прислушивались к тому, что он говорил о театре. Мы были профессионалы, как-никак все закончили ГИТИС, а он?
Кто он такой, мы узнали 28 июля 1956 г., когда в «Литературной газете» была напечатана статья Ильи Эренбурга «О стихах Бориса Слуцкого». Эренбург открыл нам глаза на поэта, который все время был рядом с нами и сущность которого мы, как сейчас выражаются, «в упор не видели». Внешне в наших отношениях почти ничего не изменилось. Он опять читал свое, опять требовательно спрашивал: «Ну как?» Но теперь-то мы стали умные. Теперь мы гордились, что наше мнение что-то для него значит. И его высказывания о театре, по-прежнему редкие, теперь уж мимо ушей не пропускали.
В 1957 году в Москве гастролировал брехтовский «Берлинер ансамбль». Слуцкого эти спектакли, особенно «Кавказский меловой круг», привели в большое возбуждение, Брехт вообще был ему духовно сродни. Поэтому я нисколько не удивился, когда узнал, что все зонги и стихи для постановки «Доброго человека из Сезуана», с которой начался театр Юрия Любимова на Таганке, написаны Слуцким. Потом я увидел его на репетициях «Павших и живых». В этом спектакле военные стихи Слуцкого читал Вениамин Смехов.
– Тебе нравится, как он читает? – спросил я Бориса.
– Хорошо читает, – ответил он. – И вообще, это вот – мой театр. Это вот – настоящий театр.
Мы с ним часто вместе оказывались в Коктебеле. Однажды в столовой Дома творчества мне нагрубила официантка. Я вспылил, вышел из-за стола и на эспланаде гневно говорил, что завтра же дам телеграмму в Литфонд и пусть эту грубиянку немедленно уволят. Борис внимательно выслушал мой запальчивый монолог и сухо сказал: «Конечно, уволят. Но, знаешь, я лично никогда не вступаю в конфликты с теми, кто зарабатывает меньше ста двадцати рублей в месяц».
Этот урок я впоследствии многим пересказывал, и, думаю, не без пользы.
После того как вышла книга воспоминаний «Встречи с Мейерхольдом», а потом и моя книга о Мастере, мы с ним много о Мейерхольде говорили. Спорили. Больше всего Слуцкого занимал внезапный, непредсказуемый, как ему казалось, «прыжок» Мейерхольда из пышного императорского театра – в народный, площадной. От «Маскарада» – к «Мистерии-Буфф». От роскоши – к аскетичности. Мое объяснение этого «прыжка» его не удовлетворяло. Его собственное объяснение дано в «Оде Мейерхольду», здесь впервые печатаемой и написанной, думаю, тогда же, в самом конце 60-х, когда мы об этом спорили. Честно говоря, Слуцкий и теперь не убеждает меня. Но какое это имеет значение? Другое важно: Слуцкий в своей «оде» как бы братски обнимает Мейерхольда, приближает его к себе – и к нам.
В 1977 году, после смерти его жены, нежной и хрупкой Тани, Слуцкий исчез. Душевная болезнь внезапно отрезала его от всех нас. Недавно еще приходил ко мне, и мы яростно спорили о Твардовском: Слуцкий, уважая его как поэта, не мог простить редактору «Нового мира» неприязненного отношения к молодой поэзии 50–60-х годов. Мы не доспорили, разговор оборвался будто на полуслове и – не возобновился. Больше я Бориса не видел.
Но, странное дело, его как бы уже не было нигде, а стихи его изредка появлялись в журналах. Когда он умер, они стали появляться еще чаще. В самое последнее время я впервые глазами прочитал многие вещи, которые раньше знал только на слух, только с его голоса.
Тем, что поэтическое наследие Слуцкого сбережено и теперь уже почти полностью опубликовано, мы обязаны благородному труду Юрия Леонардовича Болдырева. Я смею считать себя другом Слуцкого – хотя бы потому, что в надписях на книгах, которые он мне дарил, неизменно повторяется слово «друг». Но все вместе мы, друзья Слуцкого, не сделали для него столько, сколько один, лишь по телефону знакомый мне Болдырев – вернейший из друзей.[59]59
«Театральная газета», 1988, № 4.
[Закрыть]
Галина Аграновская. «Когда я уйду, я оставлю свой голос…»
(О дружбе Бориса Слуцкого с Анатолием Аграновским.)
1957 год. С осени этого года состоялось наше близкое знакомство с Борисом Слуцким. Стихи его любили. Расположение его чувствовали.
И только. А стали соседями, поселились в одном доме – сблизились, подружились. Телефонов в новом доме долго не было, а точнее, были только у «классиков». Поэтому не считалось неудобным зайти друг к другу запросто, без предупреждения. Так и приходили Борис с Таней посмотреть полки книжные, которые мастерил нам доморощенный столяр. Были одобрены полки, дети, угощение. Сидели Слуцкие в тот вечер долго. Нам очень приглянулась Таня. Собой хороша, держится просто. Что я и не преминула сказать Боре на следующий день, встретив его во дворе. На это он, усмехнувшись в усы, произнес: «Долго выбирал».
Сейчас, по прошествии тридцати лет, хочется и нужно вспомнить все связанное с Борисом и Таней. Очень они были красивой парой. Женственная, изящная Таня, мужественный скульптурный Борис. Не про них ли сказано в сказке: «Они жили дружно и умерли в один день». Борис умер в один день с Таней, то есть еще существовал, но уже не жил. Живым я видела его последний раз на похоронах Тани, а после уже нет.
Но до этого дня прошли годы, месяцы, дни нашей молодости, счастья, здоровья.
В день, когда ее не стало, он позвонил и попросил приехать проститься с ней. На улицу Цюрупы, в институт морфологии, в морг. Мы с мужем были потрясены его мужеством, собранностью, способностью заниматься хлопотами, связанными с похоронами. Видно на это ушли его последние силы, физические и душевные…
Борису нравились песни, которые сочинял и пел муж. Они с Таней были, что называется, благодарными слушателями. Да и поэты, которых пел муж, были «штучными», по словам Бориса.
Собирались у нас друзья не к дате, просто посидеть. Друзей было немного, а все же человек пятнадцать садилось за стол… Везло нам на друзей – всё те же, и с теми же женами…
Сначала ужин, немного закусок и выпивки (не в привычке было пить много), а затем традиционная баранья нога, запеченная с чесноком. Вот уже унес баранью кость наш любимец Джонни, дворняга, проживший у нас восемнадцать лет. Муж называл его «интеллигентом в первом поколении». Когда Борис чесал пса за ухом, а тот грыз кость, я останавливала Борю: «Тяпнет он тебя, оставь, он же с костью…» Борис только усмехался: «Интеллигент интеллигента не тяпнет».
Отужинали, потрепались, обсудили последние новости. Уже нетерпеливо ждут гости, когда муж возьмет гитару. «Что сидишь? Давай отрабатывай ужин!» Муж не спеша вставал из-за стола, снимал со стены гитару, настраивал ее, приговаривая: «Негодяи, забыли, кто у кого в гостях! Еще и пой им…» И вот уже первые аккорды и Пастернак: «Засыплет снег дороги, завалит скаты крыш…», и еще Пастернак: «Свеча горела на столе, свеча горела…» А дальше заказы: «Кедрина!» – «Нет, сначала Самойлова!» Слуцкий останавливал: «Не давите на него, пусть сам выбирает». А вскоре и сам просит: «Толя, спой Межирова „Артиллерия бьет по своим“». Борис всегда просил именно Межирова сначала, а потом Тарковского «Вечерний, сизокрылый, благословенный свет, я словно из могилы смотрю тебе вослед…» А на словах Кедрина «Когда я уйду, я оставлю свой голос…» он вскакивал и начинал нервно ходить взад и вперед, пока Таня не останавливала его, тихо говоря: «Сядь, успокойся, ты мешаешь».
И настал день, когда Слуцкий сказал мужу, что бьется об заклад: на его стихи не удастся тому сделать песню, «Я не песенный, тут тебе слабо!..»
Я честно предупредила Бориса, чтоб не закладывался, проиграет, я-то уже знала и слышала; на нас, домашних, Толя уже опробовал «Ордена теперь никто не носит, планки носят только чудаки…»
В тот вечер сцепили они руки в закладе при свидетелях, разбили их, назначили срок – месяц, я попеняла мужу, что нечестно, мол, что ж ты Борю надул, ведь песня-то уже есть. «Ну, какая же это песня? Так, заготовка. Он и впрямь не песенный, проиграю пари…»
Прошло какое-то время, месяц или больше, встретились мы со Слуцкими в театре «Современник». После спектакля поехали к ним. В этой маленькой квартирке было просторно, ничего лишнего. Мы с Таней посмеялись как-то, что наши квадратные метры не дают нам возможности обставляться старинной мебелью и таким образом проявить свой изысканный вкус и аристократизм. А Борис заметил к этому, что, мол, и так хороши будете, повезло вам, за членов ССП замуж вышли, устроились не хуже других. Таня обещала нам ужин с уткой. Борис прибавил: «И еще что-то на десерт». – «Что?» – «Сюрприз».
Мы решили, что он будет читать новые стихи. Вот уж действительно будет сюрприз. Редко он баловал нас, говоря: «Стихи глазами надо читать». Оказалось другое: Борис потребует у Аграновского проигранный долг, не получит его и в уплату заставит петь весь вечер по заказу хозяина дома. Но его самого ждал сюрприз.
Пока жарилась утка, муж спел несколько романсов, в том числе и пастернаковский «Стоят деревья у воды…». А потом, через паузу, взял несколько аккордов и начал: «Ордена теперь никто не носит…». Надо сказать, что гитара была плохая, как ее аттестовал Борис, «мосдревовская». Она была куплена Слуцким на Неглинной задешево на случай прихода к ним Аграновского. Но гитара была не главным компонентом, муж, по его словам, знал «полтора аккорда». Главными были стихи и мелодия и, конечно, слушатели.
На словах «в самом деле никакая льгота этим тихим людям не дана» Борис вскочил и зашагал взад вперед по комнате… Один из гостей, небольшой знаток стихов Слуцкого, спросил: «Это что, кто, чье?»
– Это Слуцкий, – сказал муж.
– Нет, это Аграновский и Слуцкий, – так определил песню Борис.
Уходя, в передней муж спросил: «Ну что, проиграл я?» На это Слуцкий ответил: «Не знаю. Еще не понял. Надо подумать…»
Наутро Боря приехал. Я напоила их чаем, поговорили о чем-то, а потом Борис попросил:
– Спой еще разок вчерашнее.
– Что именно?
– Не притворяйся, знаешь что…
Я хотела уйти, оставить их вдвоем, но Борис остановил меня: «Не уходи, будешь членом комиссии по приемке». И вот опять звучит: «Орденов теперь никто не носит, планки носят только чудаки, носят так, как будто что-то просят, словно бы стыдясь за пиджаки…».
Борис сидит как-то боком, почти спиной к нам. Я не вижу его лица. Кончилась песня. Помолчали.
– Еще раз пой, – просит Борис.
– Не могу, не получится.
– Ну, тогда дай я тебя обниму. И спасибо тебе за то, что ты все понял!
И вот звонит Слуцкий, просит Толю, которого нет дома, деловым тоном велит мне взять карандаш и записать следующее: «Завтра в 12 часов дня в театре „Современник“ будет прослушивание песен Толи. Я уже договорился с директором. В конце месяца будет сольный концерт Анатолия Аграновского. А теперь запиши, что именно он будет петь: Пастернака все четыре романса, Самойлова – обязательно! За Мандельштама и Олейникова я сам буду бороться, может проскочить… Эти песни обязательно! Остальное – как Толя сам решит. Все записала? Я вечером позвоню». – «Что ж ты свои не назвал?» – «Я же сказал, остальное – как решит Толя!» На все это я ответила: «Бог с тобой, Боря! Это же несерьезно. Неужели и ты думаешь, что, даже если бы разрешили, Толя будет петь с эстрады?! Его аудитория – друзья.
Я отговорила его в ЦДРИ петь, для маленькой аудитории, на телевидение его приглашали, тоже отговорила. Он и сам понимает, что не для него это. Тут я тебе не союзница, тут и говорить не о чем». Борис даже рассердился. «Я считал тебя неглупой, все понимающей. Я в тебе ошибся. Когда-нибудь ты будешь жалеть об этом. Вечером позвоню Толе, он сам решит. Надеюсь, он тебя не послушается».
Жалею ли я, что муж меня послушался? Не знаю. До сих пор не знаю.[60]60
«Вечерний клуб», 1992, 1 августа. С. 3.
[Закрыть]
Виктор Малкин. Борис Слуцкий, каким я его помню
С Борисом Слуцким я познакомился осенью 1946 года у Давида Самойлова. В те годы (1946–1953) Давид Самойлов с женой Лялей жили на улице Мархлевского, в просторной комнате большой коммунальной квартиры. Здесь собирались молодые поэты. Приходили сюда актеры, ученые, среди них физик Лев Ландау, доктор экономических наук Яков Кронрод.
Чаще других, почти ежедневно, бывал в этом доме Борис Слуцкий. У него в Москве не было ни близких родственников, ни жилплощади – он периодически снимал комнату, поменьше, подешевле. В доме Самойлова Борис чувствовал себя свободно, хорошо. Он был очень дружен с Давидом. Их дружба была настоящей – равноправной и творческой. Они часто спорили, всегда сохраняя при этом доброжелательное, братское отношение друг к другу.
У Самойлова я бывал часто и почти каждый раз встречал Слуцкого. Сначала у меня сложилось мнение о Слуцком как о суровом, гордом, даже надменном и замкнутом человеке. Гордый непосредственной причастностью к исторической победе, Слуцкий казался мне похожим на прославленных легендарных комиссаров гражданской войны, с которыми, он, комиссар Отечественной, был как бы в кровном родстве.
Худой, несколько выше среднего роста, хорошо и сильно сложенный, всегда подтянутый, с офицерской выправкой, неизменно одетый в военную форму – таким помнится мне Борис в те годы. Черты лица Бориса были рельефны, четко очерчены: крупный с горбинкой нос, мощный лоб с крутыми надбровьями, немного навыкате бледно-голубые глаза. Густые светлые с рыжеватым оттенком волосы и пшеничные усы.
Во время первых встреч Борис внимательно вслушивался и всматривался в меня. Постепенно мы все больше и больше сближались. <…> Он убедился, что я серьезно занимаюсь наукой и искренне увлечен поэзией; почувствовал и доброе отношение к себе. Он доверительно рассказал мне, как врачу, что страдает приступами сильных головных болей и бессонницей.
Я понял, что первое впечатление о Борисе как о сильном, жестком человеке было ошибочно: позу я принял за характер. Понял, что за суровостью скрыта доброта, мягкость, духовная ранимость.
Ничего вдохновенно-поэтического в облике Бориса Слуцкого я не замечал, богемность была ему чужда. По складу характера, поведению, интересам, отношению к людям Слуцкий был серьезным, деловым любознательным человеком, склонным к глубокому анализу всех сторон жизни, которые его интересовали. Он был энциклопедически начитан, умел обстоятельно собирать и анализировать факты. Интересы его были прежде всего сосредоточены на русской истории, поэзии, политике, экономике.
О повседневных бытовых делах Борис беседовать избегал.
С женщинами Борис был неизменно предупредителен и любезен. Я не замечал, чтобы какой-нибудь отдавал предпочтение. <…> Я помню Бориса Слуцкого поэтом без пылких романов и без любовной лирики.
Рассказы на мелкие бытовые, особенно сексуальные темы вызывали у Бориса брезгливое чувство. <…>
Значительный интерес он проявлял к истории Отечественной войны. Помню, как с большим вниманием слушал он рассказы Льва Безыменского о допросе попавшего в плен в Сталинграде немецкого фельдмаршала Паулюса. Лев был военным переводчиком и как очевидец рассказывал о поведении фельдмаршала и о содержании допроса. После того как Безыменский завершил свой рассказ, Борис подсел к нему и еще долго расспрашивал о деталях.
Помню, как во время одного из праздничных застолий Лев Ландау был атакован Лялей и подругами. Они спрашивали знаменитого физика о том, что все же будет в случае возникновения ядерной войны. Ландау говорил – будет очень плохо и Земле, и живой природе и, конечно, людям. Этот ответ некоторых, в их числе и Бориса, не удовлетворил. <…> Дальнейшие разъяснения Ландау уже давал персонально Борису, задававшему все новые и новые вопросы.
Среди завсегдатаев дома Самойловых был доктор экономических наук, умный, красивый, хорошо осведомленный обо всех текущих государственных делах Яков Кронрод. Он в те годы был ортодоксальным марксистом – автором книги «Деньги при социализме». Яков часто бывал собеседником Бориса. Они уединялись и подолгу беседовали. От Кронрода мы все узнавали многие политические новости, иногда задолго до того, как они становились официально известны. Часто Борис обсуждал злободневные вопросы с Петром Гореликом, школьным другом, в те годы бывавшим у Самойловых.
Я был аспирантом и работал над диссертацией. О своей работе рассказывал Борису. Его искренне интересовало все, чем занимаются знакомые и друзья. <…> Мне Борис задавал весьма содержательные вопросы. Его интерес к медицине был связан еще и с тем, что он хотел разобраться в собственной болезни. Он страдал приступами сильных головных болей и бессонницей. Головная боль бывала столь мучительной, что не давала работать. Я посоветовал обратиться к профессору А. М. Гринштейну. Заключение профессора было простым: «У вас ничего опасного нет». При встрече Борис попросил меня разъяснить этот диагноз. «„Ничего опасного“ означает отсутствие патологических изменений, и твое заболевание вполне обратимо, следовательно, ты должен выздороветь». Профессор Гринштейн в общем оказался прав. И все же, возможно, тяжелое душевное заболевание, омрачившее финал жизни Бориса, в какой-то степени было связано с болезнью, которой он страдал в молодости.
Я не помню, чтобы Слуцкий или Самойлов пытались, как теперь говорят, пробивать свои стихи в печать. Главным была работа, и они упорно, никогда не сомневаясь в своем профессиональном призвании, писали и писали. Печатать их стали после смерти Сталина.
Борис Слуцкий свои стихи в те годы читал сравнительно редко; скопление слушателей его не вдохновляло, скорее, настораживало. Если читал, то всегда наизусть. Память у него была хорошая. Творчество было для Бориса тяжелой поденной работой и одновременно священным таинством. Читал Борис просто, доходчиво и торжественно.
Лучшие стихи Слуцкого сделаны из мужественных, жестких, ударных слов; ни одной сентиментально звучащей строки; и в то же время стихи добрые, милосердные, полные искреннего сочувствия к тем, кто изголодался, измаялся и умирает, сохраняя достоинство и честь в «Кельнской яме», к тем, кто, до конца исполнив патриотический долг, покоится под «фанерными монументами» в русской земле и в «пяти соседних странах».
В компании Слуцкий вел себя просто, непосредственно и независимо. Когда все пели, а Давид аккомпанировал на аккордеоне, он тоже пел. Наиболее популярной была «Бригантина». Автор слов этой гордой песни Павел Коган погиб на войне. Память о погибших друзьях – Михаиле Кульчицком, Павле Когане – была частью его бытия.
Слуцкий стремился установить подлинную ценность творчества каждого поэта: кто был на самой вершине, кто чуть ниже. Это иногда превращалось в своеобразную игру, в которую он играл многократно и к которой относился серьезно.
Я был знаком с Борисом всего месяц-два, когда он и меня вовлек в эту игру. Помнится его обращение-вопрос: «Кого ты считаешь первым поэтом XIX века?» Я ответил тривиально – Пушкина. «А кого XX века?» Я без раздумий назвал Александра Блока. «Почему именно Блока?» Как мне казалось, я привел серьезные соображения, но они не удовлетворили Бориса, и он попросил меня прочесть что-нибудь из Блока. Я стал читать «Осенний день»: «Идем по жнивью не спеша…». До конца прочесть не удалось. Когда я перешел к финалу, к прекрасным строкам «Летят, летят, косым углом, вожак звенит и плачет», Борис прервал чтение и твердо, убежденно заявил, что этот Блок не из XX века. Поясняя, какие стихи относятся к XX веку, он чеканно прочел «Кельнскую яму». Стихотворение на меня произвело огромное впечатление. Он это понял. И неожиданно, тогда впервые, потом он этот вопрос повторял несколько раз, спросил: кого я считаю более значительным поэтом, его или Дезика? На что, как и в других случаях, я ответил: «Вы очень разные». Ответ его не удовлетворил. <…>
Во время экскурсов в историю поэзии возникали различные мысли о психологии творчества. Я как-то заметил, что у многих самых выдающихся поэтов, да и писателей, был весьма развит «игровой инстинкт». Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Толстой, Маяковский азартно играли в карты, Достоевский исступленно отдавал дань рулетке… Борис признал этот факт, заслуживающим внимания; рассказал, что Н. Асеев, в доме которого он бывал, также подвержен страсти к игре.
Однажды для Слуцкого сложилась игровая ситуация.
В конце 1947 года объявили о предстоящем обмене денег. Условий обмена никто не знал. Возникала альтернатива: класть ли в сберкассу, покупать ли облигации или же тратить, но на что?
В один из этих смутных дней Борис появился у Самойловых. Узнав, что я свободен, попросил пойти с ним в букинистический магазин.
Мы пошли – Борис с чемоданом, я с мешком, который Ляля дала мне, освободив его из-под картошки. По дороге Борис сообщил, что у него есть небольшие сбережения, которые он решил потратить на приобретение книг. Борис отбирал книги с большим знанием дела: приобрел полное собрание сочинений Некрасова издания прошлого века, несколько редких томиков Пушкина, Лермонтова, Некрасова, разрозненные выпуски «Аполлона» и «Гиперборея». В память об этом походе Борис подарил мне томик Некрасова и «42-ю параллель» Дос Пассоса.
Борис осуществил мечту – приобрел книги, которые любил и высоко ценил. Позже выяснилось, что покупка букинистических книг с деловой точки зрения была блестящей коммерческой операцией – лучшим вкладом уже обесцененных денег. Борис, разумеется, об этом не думал.
В 1948 году в стране появилось новое социально остро и зловеще звучавшее слово «космополит». Начались борьба с космополитизмом, возобновились аресты. Террор снова набирал силу. Борьба с космополитизмом стала все больше окрашиваться в красный цвет террора.
Борис сначала этого не замечал или не хотел замечать. Позже, когда иллюзия всеобщего коммунистического праведного рая исчезла, Борис стал все более и более реально оценивать действительность.
Настороженность, тревожность, страх, неуверенность в завтрашнем дне нарастали неодолимо. И все же я не помню, чтобы кто-нибудь в доме Самойловых открыто выражал протест, высказывал критические замечания о Сталине, призывал бороться с произволом.
Все индивидуально, по-разному переживали надвигающуюся катастрофу, ощущал ее неизбежность. Это относится и к Борису Слуцкому.
Есть версия, что Слуцкий еще в годы культа писал стихи, обличавшие Сталина: «Бог» и «Хозяин». Она представляется мне неправдоподобной. Он был партийно дисциплинирован и по характеру не способен к опасному противоборству.
Бесстрашные стихи, разоблачавшие Сталина, в те года писали лишь сидевшие в лагерях и тюрьмах поэты да маленький и отчаянно храбрый Эммануил Мандель, позднее ставший известным поэтом Наумом Коржавиным.
И все же изменения климата общественной жизни – рост бесправия, двуличия и репрессий – находили резонанс среди творческой интеллигенции. <…>
Глазков, Самойлов читали «непроходные стихи», некоторые из них до сих пор не опубликованы. <…> Слуцкий в это время пишет одно из лучших, если не лучшее свое стихотворение «Голос друга».
В 1952 году начались аресты врачей – видных профессоров. Борису сообщили и об аресте А. М. Гринштейна. Эти события угнетающе действовали на всех нас и, разумеется, на Бориса. <…>
Статья «Убийцы в белых халатах» от 13 января 1953 г., явилась кульминацией периода «космополитизма». Всем стало ясно, что вскоре должны начаться массовые репрессии.
На следующий день после выхода в свет статьи я встретил Бориса Слуцкого на Сретенском бульваре. Борис был неузнаваем: растерян, удручен, подавлен. Обычно не склонный к многословию, он безостановочно говорил: о предстоящих репрессиях, о суде над врачами, после которого их казнят, может быть, публично, об «очищении» Москвы, а затем и других городов от безродных космополитов, о страшной участи интеллигенции, особенно людей с гуманитарным образованием. Для них с Давидом это означало гражданскую смерть – унизительное, жалкое существование в полном бесправии. Так, беседуя, шли мы по заснеженному Сретенскому бульвару. Неожиданно Борис как бы спохватившись начал меня утешать: «Твое положение лучше, чем наше, врачи всегда и всюду нужны, и ты еще сможешь быть и полезен людям…» Более всего меня удивляло (об этом я думал и много лет спустя), что он не выражал никакого протеста, не осуждал Сталина, не помышлял ни о каком противоборстве, хотя и не верил сообщению о злодеяниях врачей – «убийц в белых халатах». Со мною шел обреченный человек, смирившийся со своей участью. Так мы дошли до дома Самойлова. Дверь открыл Давид. Не помню, о чем говорили, что делали, но тут безысходность исчезла; думаю под влиянием природного оптимизма Дезика.
5 марта 1953 умер Сталин… С этого светлого дня однонаправленный в бездну поток событий остановился. А затем течение их пошло вспять.
9 марта хоронили Сталина. С женой Линой мы пытались попасть в Колонный зал Дома союзов, но узнали, что путь к центру закрыт, и решили вместо похорон отметить «крестины». У Самойловых родился сын, которого мы еще не видели. Нам удалось дойти до их дома. В комнате уже собралось много людей, кажется, был и Борис. Точно не помню, может быть, он пришел позже. Дезик организовал застолье – поминки, и его друзья и Лялины подруги беспечно пили водку и оживленно обсуждали, гадали, что еще случится на нашем суровом и загадочном веку. Настроение было хорошим, приподнятым. Все интуитивно чувствовали, что худшее позади…
24 июля 1953 года в день именин Ляли на даче Самойловых было многолюдное, щедрое застолье. Собралось человек 25–30. Среди гостей был Борис. Было шумно и весело. Рядом с Борисом сидел Сергей Наровчатов, не пропускавший ни одного тоста и даже полутоста. За ним тянулся малопьющий Борис. Вскоре он захмелел и заснул, но неглубоко – часто пробуждался, включался в застолье и, заметив меня, обращался с просьбой: «Витя, ты опыты проводишь, оживляешь! Прошу тебя, не оживляй товарища Сталина!» Я его заверял, что этого делать не буду. Борис снова засыпал, просыпался, и эта сцена повторялась.
В середине 50-х годов Слуцкий стал широко известным поэтом. Его гражданские стихи были весьма популярны, так как оказались созвучны оттепели, началу официального разоблачения культа Сталина. Борис женился. Его жизнь наладилась. У него появилась собственная квартира.
Ляля, жена Дезика, не раз удивляла и огорчала меня тем, что осуждала Бориса за невнимательное отношение к старым друзьям. Говорила, что Борис стал тщеславен. Этого я не замечал: во время редких случайных встреч он был неизменно доброжелателен, прост – в общем, оставался таким же, как и раньше. Да и Ляля в последние годы, когда их дороги с Давидом разошлись и многие старые знакомые (как-то слово «друзья» не пишется) забыли ее, говорила: «Борис – друг, настоящий друг; он не оставил меня, хотя и бывает редко». <…>
В 1976 году, в одну из последних встреч с Борисом Слуцким, когда мы вспоминали какие-то события далекой молодости, он вдруг, как говорится, «ни к селу ни к городу» сказал: «Знаешь, ко мне на семинар ходит сын Пастернака». Недавно, вспомнив об этом, я позвонил Евгению Борисовичу, с которым много лет знаком, и рассказал об этом разговоре. Он ответил, что, по-видимому речь идет о его умершем брате – Леониде, и потом добавил: «Жаль, очень жаль. Отец, конечно, простил бы Слуцкого».
Да, Пастернак простил бы «заблудшего брата», но Борис Слуцкий этого себе не простил… <…>
В жаркий летний день 1960 года хоронили опального поэта. Открылась возможность покаяния всем, кто поднял руку… Таких оказалось мало. Слуцкого не было. Прийти не решился. Леонид Мартынов, которого по дороге в Переделкино мы с приятелем встретили на улице Горького, отказался с нами поехать (в машине было место), сказал что-то невнятное. Из знакомых лично мне поэтов на похоронах Пастернака я встретил лишь Наума Коржавина.
Последняя, точнее, предпоследняя встреча с Борисом Слуцким 24 декабря 1976 года. В этот день мы традиционно отмечали день рождения Ляли. На этот раз она пригласила нас, чтобы попрощаться. Попрощаться навсегда. Пришли близкие ее друзья: Борис Слуцкий, Яков Кронрод, сестры Шор, Нина Дубовицкая, пришли и мы с Люсей. Печально и растерянно встретил нас сын Ляли – высокий, красивый, похожий на Иисуса Христа Саша. Он не мог смириться, поверить в то, что мать умирает. Борис сидел за столом, освещенным лампой. У противоположной стены на тахте, в полумраке лежала Ляля, укрытая меховым пальто. Борис был непроницаемо спокоен. Я и не подозревал, что он переживает последний акт большой личной трагедии. У него в течение многих лет тяжело и безнадежно болела жена. Он делал все возможное, чтобы продлить ее жизнь. Осенью наступило новое обострение, и Борис, по-видимому, знал чем оно закончится.